"Последнее искушение Христа" - читать интересную книгу автора (Казандзакис Никос)
Глава 8
В пустыне за Геннисаретским озером возвышалась упрятанная среди пепельно-красных скал, вклинившаяся в них, возведенная из пепельно-красного камня обитель. Была полночь. С неба низвергался потопом проливной дождь. Гиены, волки, шакалы и где-то совсем далеко львиная чета завывали и рычали, разъяренные непрерывно чередующимися ударами грома и молний. Погрузившаяся в непроницаемый мрак обитель время от времени вырывалась на свет, очерченная вспышками молний, словно сам Бог Синая стегал ее бичом. Распростершись ниц в своих кельях, монахи молили Адонаи не топить землю вторично. Разве не дал Он слова прародителю Ною? Разве не соединил Он радугой землю с небом в знак примирения?
Только в келье настоятеля горел семисвечный светильник. Стройный, с ниспадающей волнами на грудь белой бородой настоятель Иоаким, тяжело дыша и закрыв глаза, сидел с крестом в руках на высокой скамье из кипарисового дерева и слушал.
А слушал он стоявшего напротив перед аналоем юного послушника Иоанна, который читал пророка Даниила:
«Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на Великом Море. И четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на другого. Первый — как лев, но у него крылья орлиные; я смотрел доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его; ему сказано так: «Встань, ешь мяса много!» Затем видел я: вот еще зверь, как барс, на спине у него четыре крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть была дана ему…»
Послушник прервал на какое-то время чтение, встревоженно повернул голову и посмотрел на настоятеля, потому как не слышал больше ни его стона, ни беспокойного царапанья ногтей о скамью, ни дыхания. Не умер ли настоятель? Уже несколько дней он отказывается принимать пищу, возроптал на Бога и желает умереть. Он желает умереть — так недвусмысленно объявил братии настоятель, — чтобы душа его избавилась от бренности телесной, вознеслась в небо и отыскала там Бога.
Настоятель Иоаким возроптал на Бога и непременно должен был увидеть Его, поговорить с Ним, но свинцовая тяжесть тела была тому препятствием, и настоятель решил отринуть тело, повергнуть его наземь, чтобы сам он, подлинный Иоаким, вознесся на небо и поведал Богу свои жалобы. Это был его долг. Ибо не он ли был одним из Отцов Израиля? У народа есть уста, но лишен он речи и не может предстать перед Богом, дабы поведать о своих горестях, Иоаким же может и должен сделать это.
Послушник смотрел на лежащую под семисвечником голову настоятеля, зачахшую, словно изъеденная шашелем старая древесина, изнуренную солнцем и постами. Как походила она на вычищенные дождями черепа прадавних животных, которые попадаются иногда идущим через пустыню караванам! Какие только видения не зрела эта глава, сколько раз вместо небес разверзалась перед нею адская преисподня! Мозг стал лестницей Иакова, по которой то поднимались ввысь, то вновь опускались долу все чаяния и надежды Израиля!
Настоятель открыл глаза и увидел перед собой мертвенно бледного послушника. В мерцании светильника русый пушок девственно искрился на его щеках, а большие глаза были полны печали и смятения.
Строгое лицо настоятеля смягчилось. Он очень любил этого своенравного юношу, которого некогда отнял у его отца, почтенного Зеведея, привел сюда и отдал Богу. Настоятелю нравились его послушание и дикость, его молчаливые губы и ненасытные глаза, его мягкость и горение. «Когда-нибудь этот юноша будет говорить с Богом, — думал настоятель. — Он сделает то, чего не смог сделать я, а две раны, рассекшие мне плечи, он обратит в крылья. Живым я не вознесся в небо, но он вознесется».
Как-то раз Иоанн пришел вместе с родителями в обитель на праздник Пасхи. Настоятель, состоявший в дальнем родстве с почтенным Зеведеем, оказал им радушный прием и накрыл стол. А за едой Иоанн, которому едва исполнилось в ту пору шестнадцать лет, почувствовал, как взгляд настоятеля, опустившийся ему на затылок, вскрывает череп и проникает, словно солнце, сквозь черепные швы в мозг. Он вздрогнул, поднял глаза, и два взгляда встретились в воздухе над пасхальной трапезой… С того самого дня рыбачий челн и все Геннисаретское озеро стали слишком тесными для юноши, он стонал, чахнул, и однажды почтенный Зеведей не выдержал. — Не рыба у тебя на уме, — крикнул он сыну, — а Бог, так ступай-ка лучше в обитель! У меня было двое сыновей, но Богу захотелось, чтобы я поделился с Ним. Ну, что ж, давай поделимся, если Ему так угодно!
И вот настоятель смотрел на стоявшего перед ним послушника. Он уж было собрался пожурить его, но при взгляде на юношу лицо настоятеля смягчилось.
— Почему ты остановился, дитя? — спросил он. — Ты умолк посредине видения. Так негоже. Это ведь пророк, и его следует чтить.
Юноша густо покраснел, снова развернул на аналое кожаный свиток и снова принялся читать монотонным, приличествующим псалмам голосом:
«После сего видел я в ночных видениях, и вот — зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен был от всех прочих зверей, и десять рогов было у него…»
— Остановись! — воскликнул настоятель. — Довольно!
Юноша испугался, услышав этот голос, и священная рукопись соскользнула на плиты пола. Юноша собрал ее, прикоснулся к ней губами, поцеловал и отошел в угол, устремив взгляд на своего старца.
Вонзив ногти в скамью, настоятель кричал:
— Свершились все твои пророчества, Даниил! Четыре зверя прошли над нами: лев с крыльями орлиными прошел и разорвал нас; медведь, мясом евреев кормящийся, прошел и пожрал нас; барс о четырех головах, что суть Восток и Запад, Север и Юг, прошел и загрыз нас. Но пребывает над нами, не прошел еще и не ушел прочь нечестивый зверь с зубами железными, о десяти головах. Весь позор и весь ужас, которые Ты предрекал послать нам, Ты послал, слава Тебе, Господи! Но предрекал Ты и благо, что же Ты не посылаешь его? Неужто Тебе жалко? Щедро наделил Ты нас несчастиями, так надели щедро и милостями своими! Где же Сын человеческий, обещанный Тобою?! Читай, Иоанн!
Юноша вышел из угла, где стоял, прижимая свиток к груди, подошел к аналою и снова принялся читать, но теперь и его голос стал яростным, как голос его старца:
«Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его — владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится».
Настоятель был больше не в силах сдерживать свои чувства. Он встал со скамьи, сделал, шаг, затем еще шаг, добрался до аналоя, зашатался, чуть было не упав, но вовремя тяжело оперся ладонью на священную рукопись и удержался на ногах.
— Так где же Сын человеческий, обещанный Тобою?! Твои это слова или нет? Ты не можешь отрекаться от них: вот где все это записано!
Он яростно и торжествующе ударил рукой по книге пророчеств:
— Вот где это записано! Прочти еще раз, Иоанн! Но послушник не успел даже начать: настоятель торопился, он сам схватил Писание, поднял его высоко к свету и, даже не глянув на письмена, стал возглашать ликующим голосом:
«И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его — владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится…»
Он положил развернутый свиток на аналой, посмотрел во мрак за окном.
— Так где же Сын человеческий? — воскликнул настоятель, глядя в темноту. — Он принадлежит уже не Тебе, но нам, потому как нам Ты предопределил его! Где же тот, кому вручишь Ты власть, царство и славу, дабы народ Твой, народ Израильский, повелевал вселенной? Мы уже измучились взирать на небо, ожидая, когда же оно разверзнется. Когда? Когда же? Что Ты все терзаешь нас? Да, мы знаем: миг Твой равен тысячелетию человеческому. Но если Ты справедлив, Господи, то измеряй время людскою мерою, а не своею собственной, ибо это и есть справедливость!
Настоятель направился было к окну, но тут колени его задрожали, он остановился, вытянув руки, словно ища опоры в воздухе. Юноша бросился поддержать его, но это только разозлило настоятеля, и он знаком велел Иоанну не приближаться. Старец собрал все силы, добрался до окна, оперся о подоконник и, вытянув шею, глянул наружу.
Стояла темнота. Вспышки молний стали уже слабее, но ливень все еще гремел по скалам, окружавшим мощной стеною обитель, а сикоморы корчились при каждом ударе молнии и, казалось, превращались в племя одноруких калек, простирающих в небо пораженную проказой единственную длань.
Настоятель собрал все свои душевные и телесные силы, прислушался. Далеко в пустыне снова раздавались голоса диких зверей, завывавших не от голода, а от страха. Ибо еще более могучий зверь рычал и приближался во тьме, окутанный огнем и смерчем… Настоятель вслушивался в пустыню, затем вдруг встрепенулся и, повернувшись, уставился в пространство позади себя. Некто незримый вошел в его келью! Задрожали, словно намереваясь погаснуть, семь огней светильника, а девять струн прислоненной в углу на отдых арфы зазвенели, словно невидимая рука схватила и с силой рванула их. Настоятеля охватила дрожь.
— Иоанн! — тихо позвал он и огляделся вокруг. — Иоанн, подойди ко мне!
Юноша метнулся из угла и стал рядом.
— Приказывай, старче, — сказал он, опустившись на одно колено, словно творя покаяние.
— Ступай, позови монахов, Иоанн, я должен поговорить с ними, прежде чем уйти.
— Уйти, старче? — в ужасе переспросил юноша. Он увидел, как позади старца колышутся два широких черных крыла.
— Я ухожу, — сказал настоятель, и голос его прозвучал словно откуда-то совсем издалека. — Ухожу! Разве ты не видел, как вздрогнули семь языков пламени, отрываясь от фитилей? Не слышал, как зазвенели, готовые разорваться, девять струн на арфе? Я ухожу, Иоанн, ступай, позови монахов, я хочу поговорить с ними.
Юноша наклонил голову и вышел. Старец остался стоять один посреди кельи под семисвечным светильником. Теперь он, наконец остался наедине с Богом и мог свободно говорить с Ним, потому как никто из людей не мог слышать его. Он спокойно поднял голову, ибо знал, что Бог здесь, перед ним.
— Я иду к Тебе, — сказал настоятель. — Иду. Зачем же Ты вошел ко мне в келью и хочешь погасить свет, разбить арфу и забрать меня? Я иду. И не только по Твоей, но и по своей воле. Я иду к Тебе со скрижалями в руках, на которых записаны жалобы моего народа. Потому я и хочу увидеться и говорить с Тобой. Я знаю, Ты не слышишь. Делаешь вид, что не слышишь. Но я буду стучаться к Тебе в дверь, и если Ты не откроешь — здесь нет никого, и поэтому я говорю Тебе это, не таясь, — если Ты не откроешь, я высажу Твою дверь! Ты сам свиреп и любишь свирепых, только их и именуешь Ты своими сынами. Доднесь мы каялись, плакали, говорили: «Да свершится воля Твоя!» Но терпение наше исчерпалось, доколе же нам ждать, Господи?! Если Ты свиреп и любишь свирепых, то и мы освирепеем! Да свершится наконец и наша воля!
Настоятель говорил и прислушивался, ожидая ответа. Дождь уже утих, раскаты грома слышались все дальше, глухо доносясь откуда-то с востока, где лежала пустыня. А над седой головой старца горели ровным пламенем семь огней светильника.
Настоятель умолк в ожидании. Некоторое время ему казалось, что вот-вот задрожат огни и снова зазвенит арфа. Но ничего не происходило. Старец покачал головой.
«Будь проклято тело человеческое, — прошептал он. — Это оно встревает между нами, не позволяя душе увидеть и услышать Незримого. Убей меня, Господи, дабы смог я предстать пред Тобою без плотской преграды, дабы Ты говорил, а я внимал Тебе!»
Между тем дверь беззвучно отворилась, и в келью вошли друг за другом, в белых одеяниях, словно призраки, оторванные ото сна монахи. Все они выжидательно стали у стены. Монахи слышали последние слова настоятеля, от которых дух у них захватило. «Он говорит с Богом и ругает Бога. Сейчас молнии обрушатся на нас!» — думали они с содроганием.
Настоятель смотрел на них, но взгляд его пребывал где-то далеко, и потому он не видел вошедших. Послушник подошел к нему и преклонил колени.
— Старче, — сказал он тихо, чтобы не испугать настоятеля. — Они пришли, старче.
Настоятель услышал голос своего прислужника, обернулся и увидел вошедших. Он покинул середину кельи и, медленно ступая, стараясь изо всех сил держать прямо свое готовое к смерти тело, подошел к скамье, взобрался на ее низкую, выступающую вперед ступень и остановился. Амулет со святыми изречениями на его плече развязался, но послушник тут же снова крепко завязал его, и амулет избежал осквернения, не коснувшись попираемой стопами человеческими земли. Старец протянул руку, взял лежавший рядом со скамьей настоятельский посох с навершием из слоновой кости и вдруг, словно силы снова вернулись к нему, резко поднял голову и окинул взглядом стоявших у стены друг подле друга монахов.
— Братья! — сказал он. — Я должен поговорить с вами в последний раз. Обратитеся во слух, а ослабевшие от поста да уйдут, ибо тяжко будет то, что я скажу вам! Все надежды и все страхи ваши должны пробудиться, напрячь слух и дать ответ!
— Мы слушаем тебя, святой настоятель, — сказал самый старый из братии, отец Аввакум, прижав руку к сердцу.
— В последний раз говорю я с вами, братья. А поскольку вы твердолобые, то говорить я вынужден иносказаниями.
— Мы слушаем тебя, святой настоятель, — снова сказал отец Аввакум. Настоятель наклонил голову, понизил голос.
— Прежде возникли крылья, а затем — ангел! — сказал он и умолк.
Затем настоятель обвел пристальным взглядом монахов одного за другим и покачал головой:
— Что ж вы, братья, уставились на меня, разинув рты? Вот ты поднял руку и что-то шепчешь, старче Аввакум. У тебя есть что возразить?
Монах снова положил руку на сердце и заговорил:
— Ты сказал: «Прежде возникли крылья, а затем — ангел». Этого изречения мы никогда не встречали в Писаниях, святой настоятель.
— Да разве вы могли его встретить, старче Аввакум? Увы, разум ваш — еще потемки! Вы открываете Пророков, но глаза ваши не видят ничего, кроме букв. А что могут поведать буквы? Они — черные прутья темницы, в которой томится и взывает дух. Среди букв и строк и вокруг них, на не исписанном еще пергаменте, свободно витает дух. И я тоже витаю вместе с ним, неся вам великую весть: прежде возникли крылья, а затем ангел, братья!
Старец Аввакум снова открыл уста:
— Светильник угасший — наш разум, святой настоятель, зажги же его. Зажги его, дабы проникли мы в иносказание и узрели его.
— Поначалу, старче Аввакум, было стремление к свободе, самой же свободы не было. И вот вдруг на самом дне рабства какой-то человек сильно, стремительно взмахнул закованными в цепи руками, словно это были не руки, а крылья. Затем еще один человек, еще, а после и весь народ.
— Народ Израильский? — послышались радостно вопрошающие голоса.
— Народ Израильский, братья! Таков великий и страшный миг, который переживаем мы ныне. Желание свободы ожесточилось, крылья обрели силу, пришел освободитель! Пришел освободитель, братья! Ибо что, по-вашему, сотворило этого ангела свободы? Снисхождение и милосердие Божье? Его любовь? Его справедливость? Нет, терпение, упорство и борьба человека сотворили его!
— Великий долг, тяжесть невыносимую возлагаешь ты на человека, святой настоятель, — набравшись смелости, возразил отец Аввакум. — Неужели столь велика твоя вера в него?
Но настоятель не обратил внимания на это возражение: все его помыслы были теперь устремлены к Мессии.
— Это наш Сын! — воскликнул он. — Потому Писания и называют его Сыном человеческим! Вот уже на протяжении многих поколений соединяются друг с другом мужчины и женщины Израиля, а для чего, как вы думаете? Чтобы познали наслаждение их бедра, чтобы возрадовалось их лоно? Нет! Тысячи и тысячи ласк должны свершить они, чтобы родился Мессия!
Настоятель с силой ударил посохом о плиты пола.
— Помните, братья! Он может прийти среди ясного дня, может прийти и в глухую ночь, так будьте же всегда готовы — в чистоте телесной, посте и бдении, — горе вам, коль застанет он вас нечистыми, во сне и в насыщении.
Монахи прятались друг другу за спину, не решаясь поднять глаза и взглянуть на настоятеля, и чувствовали, как от чела его изливается на них яростное пламя.
Приготовившийся к смерти сошел, со скамьи, твердым шагом приблизился к перепуганным, беспорядочно столпившимся отцам, вытянул посох и поочередно коснулся им каждого.
— Помните, братья! — воскликнул настоятель. — Стоит лишь на мгновение исчезнуть рвению, и вновь крылья обратятся в цепи! Бодрствуйте, сражайтесь, денно и нощно держите зажженной лампаду — душу вашу! Бейте, сотрясайте воздух крыльями! Я спешу, покидаю вас, иду говорить с Богом. Я ухожу от вас, и вот вам мои последние слова: бейте, сотрясайте воздух крыльями!
Дыхание у говорившего вдруг прервалось, и настоятельский посох выскользнул из рук. Старец тихо и мягко опустился на колени и беззвучно откинулся на плиты. Послушник громко вскрикнул и бросился поднимать своего старца. Монахи пришли в движение, склонились над телом, уложили настоятеля на плиты, сняли семисвечный светильник и поставили его рядом с мертвенно бледным, неподвижным лицом. Борода старца поблескивала, белый хитон его распахнулся, показалась обволакивавшая грудь и бедра старца покрытая кровью грубая власяница с широкими железными шипами.
Старец Аввакум положил руку на грудь настоятеля — туда, где было сердце, — и сказал:
— Он умер.
— Он освободился, — сказал другой монах.
— Расстались и разошлись по домам влюбленные: тело — в землю, а душа — к Богу, — тихо произнес еще кто-то.
Но пока они, переговариваясь, готовились разогреть воду, чтобы омыть покойника, настоятель открыл глаза. Монахи отпрянули, взирая на него с ужасом. Лицо настоятеля сияло, тонкие руки с длинными пальцами шевелились, а взгляд исступленно устремился в пустоту.
Старец Аввакум опустился на колени, снова положил руку на сердце настоятелю.
— Стучит. Он не умер, — сказал монах и повернулся к послушнику, который пал в ноги своему старцу и целовал их. — Встань, Иоанн! Оседлай самого быстрого верблюда, скачи в Назарет и привези оттуда почтенного раввина Симеона. Он исцелит настоятеля. Торопись, уже светает!
Светало. Облака рассеялись. Омытая, насытившаяся земля сияла и благодарно взирала на небо. Два горных ястреба взвились в воздух и кружили над обителью, суша на воздухе оперение.
Послушник вытер слезы. Выбрав в стойле самого быстрого верблюда — молодого, стройного, с белой звездочкой во лбу, — он вывел его во двор, поставил на колени, взобрался верхом, издал резкий крик, и верблюд вскочил с земли, поднялся и помчался огромными скачками в сторону Назарета.
Утро светилось над Геннисаретским озером. В утреннем свете поблескивала на солнце вода, у самого берега мутная от земли, нанесенной ночным дождем, чуть дальше — зелено-голубая, а еще дальше — молочно-белая. Одни рыбачьи лодки стояли с развешенными для просушки промокшими от дождя парусами, а другие уже подняли их и отправились на ловлю. Бело-розовые морские птицы блаженно покачивались на дрожащей воде, черные бакланы стояли на скалах, пристально вглядываясь круглыми глазами в озеро в ожидании не выпрыгнет ли из вспенившихся вод какая-нибудь забывшаяся от радости рыбка.
Неподалеку от берега просыпался промокший насквозь Капернаум, встряхивались со сна петухи, ревели ослы, нежно мычали телята, и среди всех этих разобщенных голосов размеренные людские разговоры придавали воздуху мягкость и уверенность.
В тихой заводи десяток рыбаков, грубые ноги которых глубоко ушли в прибрежную гальку, медленно, со знанием дела тащили мережу, затянув протяжную песню. Над ними стоял хозяин — болтливый и лукавый почтенный Зеведей. Он делал вид, будто любит и жалеет всех этих трудяг, как детей родных, а на самом деле не позволял им даже дух перевести. Они работали за поденную плату, и поэтому старый скряга не позволял им разогнуть спину ни на миг.
Зазвенели колокольчики, к берегу спустилось стадо коз и овец, залаяли собаки, кто-то свистнул, рыбаки повернулись было посмотреть, кто это, но почтенный Зеведей тут же вскинулся.
— Это Филипп, ребята, со своими филиппятами, — раздраженно крикнул он. — Давайте-ка за работу!
С этими словами он и сам ухватился за веревку, делая вид, что желает подсобить.
Из села появлялись один за другим груженные сетями рыбаки, за ними шли, неся на голове дневные припасы, женщины, загорелые юноши уже взялись за весла и всякий раз после нескольких гребков принимались грызть взятый с собой черствый хлеб. Филипп появился на скале и свистнул. Ему хотелось поговорить, но почтенный Зеведей нахмурился, сложил ладони воронкой и крикнул:
— У нас много работы, Филипп! Всего тебе хорошего! Ступай-ка лучше своей дорогой! Сказав так, он повернулся к Филиппу спиной.
— Тут неподалеку закинул невод Иона, пусть он с ним и беседует, а нам некогда, ребята!
Зеведей снова ухватился за узел на веревке и принялся тащить. Рыбаки опять затянули унылую, монотонную рабочую песню, устремив все, как один, взгляд на служившие буйками красные баклаги, которые приближались к ним.
Они уж было собрались вытащить на берег наполненное уловом брюхо мережи, но тут по всему полю прокатился протяжный гул. Послышались пронзительные, напоминающие причитания голоса. Почтенный Зеведей оттопырил свое огромное, поросшее волосами ухо, прислушался. Воспользовавшись случаем, рыбаки остановились.
— Что там за плач, ребята? Женщины причитают, — сказал Зеведей.
— Кто-то из великих помер, да продлится жизнь твоя, хозяин, — ответил старый рыбак.
Но Зеведей уже вскарабкался на скалу и рыскал хищным взглядом по равнине. По полю бежали мужчины и женщины. Они падали, поднимались и рыдали при этом. В селе началась суматоха, женщины рвали на себе волосы, а за ними, склонившись к земле, молча ступали, вытянувшись в ряд, мужчины.
— Да что же это происходит, ребята? — воскликнул почтенный Зеведей. — Куда вы? Почему женщины плачут?
Но люди, не отвечая, спешили к токам.
— Куда же вы? Кто умер? — орал Зеведей, размахивая кулаками. — Кто умер?
Приземистый толстяк остановился перевести дух.
— Зерно! — ответил он.
— Говори серьезно! Я — почтенный Зеведей и шуток не понимаю. Кто умер?
— Зерно, ячмень, хлеб! — послышались отовсюду голоса. Почтенный Зеведей так и застыл с раскрытым ртом, но затем вдруг резко хлопнул себя по бокам. Он понял.
— Потоп унес урожай с токов, — невнятно пробормотал он. — И наплачется же теперь беднота!
Голоса раздавались уже по всему полю, в селе не осталось ни души, женщины высыпали на тока и ползали в грязи, пытаясь выбрать из канав и борозд скудные остатки ячменя. Рыбаки стояли, расправив плечи, уже не в силах тащить сети. Увидав, что они тоже праздно уставились на поле, почтенный Зеведей пришел в ярость.
— За работу, ребята! — закричал он, спускаясь со скалы. — Ну-ка, взялись!
Он снова ухватился за веревку, делая вид, будто тоже работает.
— Мы, слава Богу, рыбаки, а не пахари. Нам-то какое дело до потопа? Рыбкам есть где плавать, они не захлебнутся! Дважды два — четыре!
Филипп бросил стадо и, прыгая со скалы на скалу, приблизился, желая поговорить.
— Новый потоп, ребята! — крикнул он. — Во имя бога, остановитесь, давайте поговорим! Наступил конец света! Гляньте-ка, сколько несчастий приключилось: третьего дня распяли великую надежду нашу — Зилота; вчера Бог отверз водопады небесные, как раз в ту самую минуту, когда тока были уже полны, и остались мы без хлеба. А недавно у меня разродилась овца и принесла агнца о двух головах… Поверьте мне, наступил конец света, и потому — заклинаю вас верой вашей? — бросайте работу и давайте поговорим!
Но почтенный Зеведей распалился от этих слов пуще прежнего. Кровь бросилась ему в голову.
— Послушай-ка, Филипп, оставь нас лучше в покое! — крикнул он. — Не видишь разве: мы заняты делом! Мы — рыбаки, а ты — чабан, а плакаться — теперь дело хлебопашцев! За работу, ребята!
— А разве тебе, почтенный Зеведей, не жаль земледельцев, которые помрут с голоду? — возразил пастух. — Они ведь, знаешь, тоже израильтяне и братья наши, и все мы — единое древо, хлебопашцы же — корни его, коль засохнут они, зачахнем и все мы… И вот еще что, почтенный Зеведей: коль все мы повымрем к приходу Мессии, кого же он тогда спасать будет, скажи на милость?
Почтенный Зеведей распалился до того, что, казалось, готов был лопнуть со злости.
— Ступай отселе, если в Бога веруешь, ступай к своим филиппятам: надоело уже слушать о Мессиях. То один придет — и тут же его распнут, то другой — и этого распнут. Знаешь, какие вести шлет Андрей отцу своему Ионе? Куда ни пойдешь, где ни остановишься — всюду крест, а пересохшие колодцы полны Мессий… Так что хватит! Нам хорошо и без Мессий, и без них у нас хлопот хоть отбавляй. Принеси-ка мне лучше сыру, а я тебе за него рыбы дам. Ты — мне, я — тебе, вот что есть Мессия!
Он засмеялся и повернулся к своим работникам:
— Ну-ка, живей, ребята! Разведем огонь, сварим ухи да похлебаем. Солнце уже высоко над головой.
Филипп уж было собрался сгонять своими ножищами стадо в один гурт, но вдруг остановился. На узкой тропинке, извивавшейся по берегу вокруг озера; показался нагруженный непосильной ношей ослик, а за ним — босой, с грудью нараспашку крупный рыжебородый мужчина. В руках у него была раздвоенная хворостина, которой он торопливо нахлестывал животное.
— Глянь-ка, не Иуда ли это Искариот, зловещая борода?! — сказал чабан, не двигаясь с места. — Он снова стал ходить по селам — то мотыгу изготовит, то мула подкует. Пойдем послушаем, что он нам скажет.
— Будь он проклят! — пробормотал почтенный Зеведей. — Не нравятся мне его волосы. Слышал я, такая же борода была у его праотца Каина.
— Он, злополучный, родился в Идумейской пустыне, где до сих пор рыскают львы, так что не нужно держать на него обиды, — сказал Филипп и, сунув два пальца в рот, принялся свистеть погонщику осла.
— Иуда! — закричал он. — Добро пожаловать! Иди сюда, дай-ка на тебя взглянуть!
Рыжебородый сплюнул и выругался: он явно недолюбливал и пастуха Филиппа, и дармоеда Зеведея, но он был кузнецом, человеком зависимым, и потому подошел ближе.
— Что нового слыхать в селах, по которым тебя носит? Что случилось в поле? — спросил Филипп. Рыжебородый остановил ослика, схватив его за хвост.
— Все просто чудесно, Господь премного милосерд, любит свой народ, за то Ему и слава! — ответил он, сухо рассмеявшись. — В Назарете Он распинает пророков, на поле насылает наводнение и отнимает хлеб у своего народа. Разве вы не слышите? Плач стоит над полем: женщины оплакивают зерно, словно дитя родное.
— Все, что вершит Бог, вершится во благо, — возразил почтенный Зеведей, досадуя, что лишние разговоры только наносят ущерб его добру. — Что бы ни свершил Бог, я Ему верю. Бог меня хранит, даже если все утонут, а я один спасусь. Бог меня хранит, даже если все спасутся, а я один утону. Все равно я в Него верую. Дважды два — четыре!
Услыхав эти слова, рыжебородый забыл, что зарабатывал на хлеб поденщиной и зависел ото всех. Зло взяло его, и он процедил сквозь зубы:
— Ты веруешь, почтенный Зеведей, потому только, что Всемогущий помог тебе хорошенько устроить свои дела. Твоя милость имеет в своем распоряжении пять лодок да пятьдесят рыбаков, которых держит в неволе и дает им на прокорм ровно столько, чтобы они ноги не протянули от голода да имели силы гнуть на тебя спину, в то время как твоя милость знай только набивает себе до краев сундуки, брюхо да кладовые. Оттого ты воздымаешь руки к небу и твердишь: «Бог справедлив, я в Него верую! Мир прекрасен, и да будет он всегда неизменным!» Но спроси про то Зилота, которого распяли третьего дня, потому что он боролся за нашу свободу; спроси крестьян, у которых Бог за одну ночь отнял весь их годовой урожай и которые теперь ползают в грязи, собирая остатки и оплакивая погибшие посевы; спроси про то у меня, потому как в своих странствиях по селам я вижу и слышу страдания Израиля! Доколе? Доколе?! Ты никогда не задавался этим вопросом, почтенный Зеведей?
— Говоря по правде, я не особенно доверяю рыжим. Ты ведь из рода Каина, который убил брата своего. Ступай-ка подобру-поздорову, не хочу я разговаривать с тобой! — ответил Зеведей и повернулся к нему спиной.
Рыжебородый ударил ослика хворостиной, тот встал на дыбы, рванулся и пустился вскачь.
— Погоди-ка, — тихо проговорил Иуда. — Погоди-ка, старый дармоед, придет еще Мессия и наведет порядок. И уже поворачивая за скалы, он обернулся и крикнул:
— Мы еще поговорим, почтенный Зеведей! Думаешь, Мессия никогда не придет? Придет! Придет и поставит всех мошенников на свое место. Видишь — я тоже верую. Так что, хозяин, до встречи в судный день!
— А, чтоб ты сгинул, рыжебородый! — огрызнулся Зеведей. Тут из воды показалось брюхо невода, наполненное лещами и барабульками.
Филипп пребывал в растерянности, не зная, на чью сторону встать. Слова Иуды были правдивыми и отважными. У него самого не раз появлялось желание взять да и выложить все разом, задать взбучку старому живоглоту, но все никак смелости не хватало. Строптивому хозяину и сам Бог нипочем, он распоряжался землей и водою, все пастбища, где паслись козы и овцы Филиппа, принадлежали ему — разве с таким потягаешься? Для этого нужно быть или сумасшедшим, или смельчаком, а Филипп не был ни тем ни другим. Он был болтуном, пустомелей и благоразумным.
Пока шло словопрение, Филипп пребывал в смущении и нерешительности. Теперь же, когда вытащили невод, он принялся за работу вместе с рыбаками, помогая им наполнять корзины. Почтенный Зеведей тоже вошел по пояс в воду, распоряжаясь рыбой и людьми.
Когда все уже радостно взирали на корзины, наполненные по самые края рыбой, со скалы напротив вдруг громко раздался хриплый голос рыжебородого:
— Эй, почтенный Зеведей!
Тот прикинулся глухим, но голос загремел снова:
— Эй, почтенный Зеведей! Образумь сына своего Иакова, а не то худо будет!
— Иакова?! — встревоженно воскликнул старик. Он уже настрадался из-за младшего, потерянного для него Иоанна и не желал терять еще и Иакова, потому как других сыновей у Зеведея не было, а в подспорье для работы он нуждался.
— Иакова?! — снова обеспокоенно воскликнул Зеведей. — Что ты хочешь сказать, проклятый рыжебородый?!
— По дороге я видел, как он любезничает и сговаривается с распинателем.
— С каким распинателем? Говори яснее, богомерзостный!
— С Сыном Плотника, который мастерит в Назарете кресты и распинает пророков… Так что, бедняга Зеведей, и этот пропал. Было у тебя два сына: одного отнял Бог, а другого — Дьявол!
Почтенный Зеведей так и застыл на месте с широко разинутым ртом. Из воды выскочила летучая рыбка, пролетела над головой у Зеведея, снова плюхнулась в воду и исчезла.
— Дурной знак! Дурной знак! — прошептал перепуганный старик. — Неужто сын уйдет от меня, как эта летучая рыбка, исчезнувшая в глубоких водах?
Он повернулся к Филиппу и спросил:
— Ты видел летучую рыбку? Все, что происходит в мире, имеет определенный смысл. А это что должно значить, по-твоему? Вы, пастухи…
— Если бы это была баранья лопатка, я бы смог ответить тебе, почтенный Зеведей, но с рыбами я дела не имею, — сухо ответил Филипп.
Он был зол, потому что у него не хватало мужества говорить так же смело, как Иуда.
— Пойду гляну на животных, — добавил пастух.
Забросив за спину пастуший посох и прыгая по скалам, он догнал Иуду.
— Погоди, брат! — крикнул Филипп. — Мне нужно поговорить с тобой.
— Проваливай, трус, — ответил рыжебородый, даже не обернувшись. — Проваливай к своим овцам и не суйся к мужчинам. И не смей называть меня братом, я тебе не брат!
— Да погоди же! Мне нужно поговорить с тобой. Не сердись!
Иуда остановился и презрительно посмотрел на него.
— Почему ты не решаешься рта раскрыть? Чего ты его боишься? И впредь бояться будешь? Разве ты еще не слышал новостей, не знаешь, что происходит, кто идет к нам и куда мы сами идем? Пришел час злополучный, грядет Царь Иудейский во всей славе своей, и несдобровать трусам!
— Иуда, — взмолился Филипп. — Смажь мне по роже, возьми хворостину и побей меня, чтобы пробудить во мне наконец самолюбие, потому что и сам я уже натерпелся от страха.
Иуда медленно подошел к пастуху и положил ему руку на плечо.
— Это голос твоего сердца, Филипп? — спросил он. — Или ты болтаешь просто так?
— Я и вправду весь извелся. А сегодня моя собственная душа вызвала у меня отвращение. Веди меня, указывай мне путь, Иуда, я готов.
Рыжебородый оглянулся вокруг и, понизив голос, спросил:
— Ты способен убить, Филипп?
— Человека?
— Конечно же, человека. А ты думал, овечку?
— Я еще ни разу не убивал, но уверен, что смогу. В прошлую луну я сам, без чьей-либо, помощи повалил и убил быка.
— А человека убить еще легче. Пошли с нами! Филипп содрогнулся, — он понял.
— Ты что тоже из них… из зилотов? — спросил он, и ужас появился у него на лице.
Ему много приходилось слышать об этом страшном братстве — о «Святых убийцах», которые, как гласила молва, держали в страхе людей от горы Ермон до самого Мертвого моря и далее, до Идумейской пустыни. Они рыскали, вооруженные железными ломами, веревками и ножами, провозглашая: «Не платите податей неверным, ибо только один у нас Господь — Адонаи, убивайте всякого еврея, который преступает святой Закон, который смеется, разговаривает и трудится вместе с врагами Бога нашего — римлянами! Крушите, убивайте, открывайте путь, по которому грядет Мессия! Очистите мир, готовьте дороги — он грядет!»
Среди бела дня входят они в города и селения, сами выносят приговор и убивают изменника саддукея и кровожадного римлянина. Они повергают в ужас богатеев и священников, первосвященники Предают их проклятию, а они все поднимают восстания, накликают все новые римские войска, и всякий раз вспыхивает резня и льется рекою кровь евреев.
— И ты тоже из них… из зилотов? — снова тихо спросил Филипп.
— Испугался, храбрец? — ответил рыжебородый и презрительно рассмеялся. — Мы не убийцы, не бойся. Мы боремся за свободу, дабы вызволить из неволи Бога нашего, дабы вызволить из неволи собственную душу, Филипп. Ну же! Пришло время показать, что и ты мужчина. Пошли с нами!
Но Филипп опустил голову, уже раскаиваясь, что разоткровенничался с Иудой. Благородные слова хороши, когда сидишь с другом за едой и выпивкой и, беседуя с важным видом, можешь сказать: «Я это сделаю! Я докажу всем…», но смотри — ни шагу дальше, а то не оберешься хлопот.
Иуда наклонился к нему и заговорил. О, как изменился теперь его голос, как нежно касалась и ласкала плечо Филиппа его тяжелая ручища!
— Что есть жизнь человеческая, Филипп? — говорил Иуда. — Чего она стоит? Ничего она не стоит без свободы. За свободу-то мы и боремся. Пошли с нами!
Филипп молчал. Если бы он мог уйти! Но Иуда держал его за плечо.
— Пошли с нами! Ты ведь мужчина, так решайся же! У тебя есть нож?
— Да.
— Всегда держи его наготове за пазухой: он может понадобиться в любую минуту. Мы живем в трудные времена, брат. Ты слышишь легкие шаги, приближающиеся к нам? Это Мессия. Путь ему не должен быть закрыт. Нож теперь нужнее хлеба. Вот, посмотри на меня!
Он распахнул одежду. Прямо на голом теле, на черной груди, сверкал обнаженный двуострый короткий бедуинский нож.
— Болван Иаков, сын Зеведея, виновен в том, что не вонзил сегодня нож в грудь предателю. Вчера перед моим уходом из Назарета мы с братьями приговорили его к смерти.
— Кого?
— И мне выпал жребий убить его.
— Кого? — снова, уже с раздражением спросил Филипп.
— Это мое дело, — резко ответил рыжебородый. — Не суйся в наши дела.
— Ты мне не доверяешь?
Иуда огляделся вокруг, нагнулся и схватил Филиппа за плечо.
— Послушай хорошенько, Филипп, что я тебе скажу, но учти — никому ни слова, не то ты пропал. Я сейчас направляюсь в обитель, в пустыню. Монахи позвали меня изготовить им орудия. Через несколько дней, так дня через три-четыре, я снова буду проходить мимо твоего пристанища, так что хорошенько поразмысли о нашей беседе, но никому ни слова, не вздумай разгласить тайну, решай все сам. И если ты настоящий мужчина и примешь правильное решение, я открою тебе имя того, кого мы убьем.
— Кого? Я его знаю?
— Не спеши. Ты еще не стал нашим братом.
Иуда протянул ручищу.
— Будь здоров, Филипп, — сказал он. — До сих пор ты был ничтожеством, жил ты или нет — земля того не ведала. Таким же ничтожеством был и я до того самого дня, пока не вступил в братство. Я уже не тот Иуда — рыжебородый кузнец, который трудился, как скотина, только для того, чтобы прокормить эти вот ножищи, брюхо и башку с безобразной рожей. Я тружусь для достижения великой цели. Слышишь? Великой цели. А тот, кто трудится для достижения великой цели, даже самый ничтожный, становится великим. Понял? Ничего больше я тебе не скажу. Будь здоров!
С этими словами Иуда ударил ослика и поспешно двинулся в сторону пустыни. Филипп остался один. Он уперся подбородком о пастушеский посох и смотрел вслед Иуде, пока тот не свернул со скалы и не пропал из виду.
«А ведь правду говорит этот рыжебородый, — подумал он, — святую правду. Казалось бы, высокопарные слова, ну и что из этого? На словах бывает все прекрасно, а вот на деле… Так что поразмысли хорошенько, Филипп, подумай и о своих овцах. Пораскинь мозгами, прежде чем дело делать. Ну, что ж, поживем — увидим».
Он снова закинул за спину посох, услышал позвякивание колокольчиков на шеях у коз и овец и, насвистывая, направился к ним.
Между тем работники Зеведея развели огонь и поставили вариться уху, вскипятив воду и бросив туда водящуюся среди камней рыбешку, моллюсков, морских ежей и поросший водорослями камень, чтобы стряпня пахла морем. Спустя некоторое время нужно было добавить еще лещей и барабулек — разве хватило бы им одной только мелководной рыбешки и моллюсков! Рыбаки собрались все вместе, уселись вокруг огня на корточках в ожидании, когда они смогут утолить голод, и вели тихую беседу. Старый рыбак наклонился и тайком сказал соседу:
— А хорошую взбучку задал ему кузнец. Погоди-ка, придет день, и бедняки окажутся наверху, а богатей — на самом дне. Вот тогда-то и наступит справедливость.
— Думаешь, так когда-нибудь будет, товарищ? — спросил рыбак, с самого детства тощий от голода. — Думаешь, когда-нибудь так взаправду будет в этом мире?
— Бог-то есть? Есть, — возразил старик. — Он справедлив? А разве Бог может не быть справедливым? Справедлив. Значит, так будет! Нужно только потерпеть, сынок, потерпеть.
— Эй, что вы там шепчетесь? — крикнул почтенный Зеведей, который вскинулся, словно ужаленный, уловив краем уха обрывок разговора. — Занимайтесь лучше делом, а Бога оставьте в покое, Он и сам знает, что Ему делать. Поглядите-ка на них!
Все сразу же замолчали. Старик встал, взял деревянный черпак и помешал стряпню.
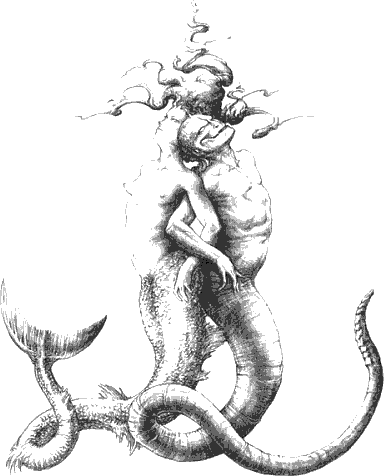 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |