"По следам дикого зубра" - читать интересную книгу автора (Пальман Вячеслав Иванович)
РАССКАЗ О СОБЫТИЯХ, НЕ ПОПАВШИХ В ДНЕВНИКИ ЗАРЕЦКОГО
Зоолог Филатов, с которым Андрей Михайлович Зарецкий не сумел встретиться в Петербурге, куда приезжал по вызову Ютнера и за своей женой, сдержал слово и прислал обстоятельное письмо в Псебай.
Есть в его письме строки о событии, в общих чертах известном из дневника, но с новыми деталями. Филатов, в частности, писал:
«Не последняя роль в продаже Кавказа за границу принадлежит таким известным людям, как принц Ольденбургский и его родственник граф Арним, владелец лесного парка и замка Бойценбург в Укермарке. О том, что в зверинце Беловежской пущи появился зубр кавказской расы, Гагенбека известил принц. Престарелый Гагенбек, собиратель редких зверей, не пожалел усилий для приобретения Кавказа».
Вернемся на два года назад и уточним эту новость.
Письмо принца Ольденбургского Карл Гагенбек получил в летние дни, когда по причине недуга уже более трех недель не выходил из дому и не занимался делами, полностью препоручив хлопотный Штеллингенский зоосад своему младшему сыну Генриху. В те дни Генрих находился в итальянской столице, где устраивал новый зоологический сад. Вызывать сына Карл не захотел. А письмо требовало немедленных действий.
Больной поднялся с кровати и постоял, прислушиваясь к себе. Голова кружилась. Приступы болезни начались много лет назад, но каждый раз они становились все жестче. Гагенбек глянул на себя в зеркало. Там отразилась высокая, подтянутая, вовсе не стариковская фигура. Сухощавое лицо могло бы принадлежать и сорокалетнему, не будь бледных мешков под глазами. Шестьдесят пять. Проклятая Африка! Тропики отняли у него здоровье.
Гагенбек поборол слабость и дернул шнурок звонка. В спальню вошла служанка.
— Узнайте, Паула, здесь ли Григер или Вахе. Попросите их ко мне.
Шаркая туфлями, он прошел в кабинет и сел за письмо. Перо не слушалось, буквы прыгали.
Да, лучше Вильгельма Григера и Карла Вахе ни один из его сотрудников не знал Россию. В свое время они встречались с принцем, получили рекомендательное письмо к одному буддийскому ламе, по какой-то причине находившемуся в Петербурге. Рекомендация и письмо ламы сослужили Григеру добрую службу, когда он прибыл во Внутреннюю Монголию, и через два года переговоров, охоты и торговли привез в Штеллинген двадцать восемь молодых диких лошадок, известных в зоологии как лошади Пржевальского. Ценнейшее приобретение!
Вспоминая былую удачу, Гагенбек слабо улыбнулся, весьма довольный собой. Он не скрывал тщеславия и не любил, когда кто-то обходил его, приобретая невиданных в Европе диких зверей. Может быть, именно тщеславию владельца и обязан зоосад Гамбурга таким разнообразием животных: почти семьдесят видов одних только млекопитающих со всех континентов земли… Кстати, экспедицию в Монголию он послал в тот день, когда русский натуралист Фальц-Фейн, в зоологическом парке которого под названием «Аскания-Нова» уже были дикие лошади из Азии, отказался продать ему хотя бы один экземпляр.
Досточтимый принц писал, что кавказский зубр в Беловежской пуще — единственный экземпляр в русских зоопарках. Единственный… Выходит, этого подвида нет и у Фальц-Фейна на Украине. Тем хуже для русского зоолога.
Вильгельм Григер явился под вечер. Степенный, располневший охотник за дикими зверями теперь редко выезжал за пределы Европы. Он полезно работал здесь, в Штеллингене.
— Вы на ногах, Карл? — Лицо Григера осветилось улыбкой, он осторожно пожал руку больного. — Очень рад. Значит, на пути к здоровью.
— Дело, дружище. Оно не терпит отлагательства. Прочти вот это.
Григер взял письмо, прочитал. Поджав губы, сказал:
— Они могут, конечно, продать. Но потребуют большие деньги.
— Граф Арним — вот кто поможет тебе.
— Каким образом? Зубр не у него, а в Беловежской пуще.
— Граф слишком большой любитель зверей и охоты, чтобы не отыскать пути для приобретения. У него в Бойценбурге гуляет немало зубров. Пообещаем ему этого кавказца.
— Но почему он не купит кавказца сам? — воскликнул Григер.
— Послушай. Пообещаем отдать кавказца… но не сразу, а через несколько лет. За три-четыре года зубр оставит нам потомство. Зубрята-полукровки от беловежских зубриц, естественно, наша собственность. Часть их продадим как редкость, вернем затраты. Вот тогда и отправим этого кавказца графу. С благодарностью. Но за этот будущий подарок он обязан оказать нам помощь. Он это сделает, если хорошо обдумает.
— А вдруг договорится сам и возьмет зверя в Бойценбург?
— Деньги, деньги, Вильгельм! Ты был прав, когда сказал о больших деньгах. Мы не постоим за этим. Арним скуповат и ни за что не захочет тратиться, если есть возможность получить что-то даром.
Григер с уважением посмотрел на хозяина:
— Когда прикажете ехать?
— Завтра. Запасайся билетом. Поедешь до Пренцлау, оттуда двадцать километров по шоссе. Возьмешь письмо. Кому? О, Арнимы могут писать кому угодно, даже самому царю. Русская государыня приходится им далекой родственницей. А Беловежская пуща — владение царя. Зубр Кавказ тоже. Если государю угодно, он прикажет добыть для себя сколько угодно кавказцев. Нам разрешит — мы добудем.
Граф Арним не увидел никакого препятствия для столь выгодного дела. Горный зубр? Гагенбеку он верил. Правда, Вильгельм Григер выехал в Петербург без письма. Граф сказал: «Ждите меня в российской столице». Григер ждал месяц. И получил из рук самого Арнима указание управляющему царской охотой в Беловежской пуще: продать Гамбургскому зоосаду за четыре тысячи рублей золотом зубренка под кличкой Кавказ.
Через месяц вагон с плотно сбитой клеткой, в которой стоял Кавказ, прибыл на новое место.
Клетку повезли в Штеллинген, поставили задней стенкой к дверям в отдельный загон, граничащий с обширным лесным массивом, где гуляли буйволы, бизоны, беловежские зубры и олени. Двое рабочих высадили стенку клетки.
Кавказ пятился задом, осторожно подымая ноги над перемешанным навозом.
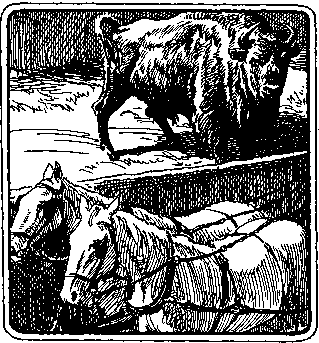 |
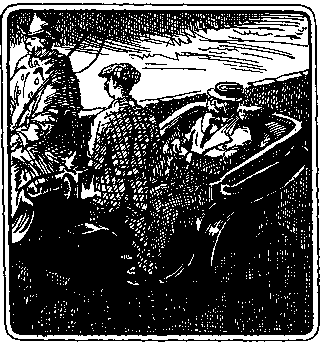 |
Карл Гагенбек сидел поодаль в коляске и смотрел. Его сын Генрих и Вильгельм Григер стояли рядом.
Хозяина поразил и несколько удивил вид животного.
Кавказу шел третий год, тело его под темной короткой, местами курчавой шерстью уже налилось силой возмужания. Но в росте он уступал беловежцам и тем более бизонам. Сурово-угрюмая морда, увенчанная черными рогами, не опускалась, как у бизонов, а гордо и властно сидела на мощнейшей шее, обросшей гривой. Он казался недоступным и боевым. Темно-карие глаза дико, даже злобно осматривали незнакомый загон, людей, редкоствольный лес за оградой. Нос шевелился, запахи раздражали уставшего зверя. Зубр потоптался на месте, разминая ноги, и вдруг с ходу сделал прыжок, второй и ударил рогастым лбом в доски забора, за которым находились люди. Раздался треск. Все шарахнулись прочь. Но ограда выдержала. Кавказ, возбужденно размахивая хвостом, уже обегал загон, выискивая слабое место.
— Характер истого азиата, — с нескрываемой гордостью произнес Гагенбек. — Приобрести такого зверя!.. Поздравляю тебя, Вильгельм.
Выпустить новичка к другим быкам наметили не раньше, как через две-три недели. Но Кавказ решил эту проблему по-своему. Уже на другое утро Гагенбеку доложили, что азиат находится в общем загоне. Он перескочил двухметровую ограду, затеял драку с беловежцами, отбил двух коров и теперь спокойно ходит с ними.
— Так тому и быть. Пусть ходит, — распорядился Гагенбек.
Прошло немногим менее года, и у беловежской зубрицы по имени Гарде появился темненький, веселого нрава зубревок-бычок со смешной бородой и по-отцовски горделиво поднятой мордой.
Его назвали Гаген.
— Что скажешь, Вильгельм? — спросил хозяин своего агента.
— Как первоклассный шахматист, вы способны видеть на десять ходов вперед, — ответил Григер.
— Представляешь настроение Фальц-Фейна, когда он узнает об этом событии? Распорядись, чтобы газеты не пропустили случая описать…
Своеобразный реванш за отказ продать лошадь Пржевальского.
Письмо Филатова, как и последний разговор с Ютнером, не оставило никаких сомнений у Зарецкого относительно судьбы Кавказа. Зубренок навсегда утерян для России.
И он и, уж конечно, Алексей Власович, «крестник» зубренка, не стеснялись в выражениях по адресу людей, для которых личные отношения и деньги дороже природы родной страны.
Никита Иванович Щербаков во время одного из таких разговоров сказал Телеусову:
— Чего ты кипятишься? Пымай еще одного-другого, отправим в Питер, а то в Москву, там зверинцы есть. Нехай живут и плодятся!
— Королю аглицкому, шведскому або цесарю римскому запродадут! Нет уж, учены, теперича ни за какие блага! Пущай тута гуляют.
Сам же Зарецкий вгорячах даже письмо написал Андриевскому и позволил себе, хоть и вежливо, упрекнуть его в произошедшем. Ответа не последовало. Но среди сохранившихся писем есть одно очень характерное и неожиданное: письмо Владимира Алексеевича Шильдера.
На листке отличной бумаги с золотым обрезом генерал поздравлял хорунжего Зарецкого с наследником! Как и от кого узнал он об этом, можно было лишь гадать. Но узнал даже имя мальчика — Михаил, по деду, и очень к месту — наконец-то! — вспомнил своего однополчанина, старого штабс-капитана Михаила Николаевича Зарецкого, которого тут же поздравил со званием дедушки, пожелал долголетия и счастья в семье.
После такого письма старый Зарецкий, несомненно, весь день ходил по дому в своем парадном мундире.
В конце столь милого письма Шильдер приписал несколько фраз — свидетельство разговора с Андриевским — о судьбе утерянного зубра.
«Бывает, что мысли наши о будущем не совпадают с властной действительностью. Тогда возникает вполне понятное разочарование. Именно это произошло с Кавказом. Драматизировать происшествие, как делаете это вы, не следует. Россия, слава богу, была и остается обладателем редкого вида дикого зверя. В вашей власти, Зарецкий, сохранить горное стадо в естественном его развитии».
Видимо, Андрей Михайлович не раз и не два перечитывал это исполненное достоинства письмо. Душа его понемногу успокаивалась. В самом деле, что мог егермейстер Андриевский или Шильдер, когда люди, обладающие неограниченной властью, в семейном кругу решают любые проблемы. Подумаешь, зубренок!..
Вспоминал Зарецкий и полные загадочности слова покойного Ютнера, сказанные при свидании на Мойке, в Петербурге: «Как знать, как знать, Зарецкий…» Что он имел в виду, этот многоумный натуралист, более ученый, чем управитель Охоты? Ужели считал, что Кавказу будет лучше в Гамбурге, чем в Беловежской пуще? «Как знать, как знать…»
Сохранилось и еще одно письмо, адресованное Дануте Зарецкой, письмо от ее институтской подруги Вали, несомненно, ответ на письмо, в котором молодая мама извещала подругу о благополучном рождении сына Мишеньки, который «оказался на редкость спокойным, крупным (представляешь, почти девять фунтов и росточком чуть менее четырнадцати вершков!) и головастеньким. Он почти не кричит, спит да кушает, а я гляжу на него и никак не могу наглядеться. Ужели мое? Наше с Андреем? На кого похож? Бабушка Соня уверяет, что вылитый отец, а мне сдается, что прекрасный, как моя молодая мама, чей портрет висит в доме тети, где мы все живем и где доктор Войнаровский с помощью умелой и ловкой Катюши, о которой я уже писала тебе, приняли маленького хлопчика, впервые вдохнувшего глоток кавказского воздуха».
В этом письме отчетливо прозвучали и тревожные мысли Дануты об опасностях, которые окружают ее мужа и Сашу Кухаревича, с которым Валя была знакома. «В Псебай вернулся, — пишет Данута, — тот страшный человек, который стрелял в Андрея. Мне долго не говорили об этом, но слухом земля полнится. Он был на волосок от смерти. Это месть ревнивца, хотя и не доказанная. Наемник еще раз выслеживал Андрея, но наши друзья ранили его. Негодяй долго валялся по лазаретам, выжил и вернулся в станицу. Сердце мое переполнено постоянной тревогой, ведь Андрей, как и прежде, по многу дней в лесу… Зима для меня стала самым хорошим временем года: муж почти все дни находится дома. Тогда тревоги мои проходят и я чувствую, как счастлива!»
Да, Ванятка Чебурнов только через шесть месяцев вернулся из госпиталя.
Вернулся живой, но, как говорится, не в форме. На всю жизнь он остался хромым, да так неудачно, что ни в далекий путь, ни в седло уже не годился: подстреленная нога сделалась как палка — не гнулась в колене, а волочилась, и, чтобы переступать, Ванятке приходилось делать этой чертовой ногой далекий полукруг, дабы не зацепить за землю.
В станице поговаривали, как горько жаловался он, что не придется ему хаживать по горам да постреливать кабанов и зубров. И как, хлебнув вина с брательником и соседями, скрежетал зубами и клялся жестоко отомстить за уродство. Казенный лесничий не навестил Ванятку, но с Семеном он встречался и, возможно, подбросил «на инвалидность» деньжонок, потому что вскорости Ванятка купил себе коня и рессорную коляску. Нашел дело — возить пассажиров из Псебая в Лабинскую и далее. Но в горы на той коляске ходу ему не было.
Псебайские власти и люди прямо заинтересованные — урядник Павлов, Никита Иванович Щербаков, Зарецкий, Кожевников — собрались в охотничьем доме князя, вызвали обоих Чебурновых и устроили им допрос. Гильзы со сбоченными ямками в пистонах, винтовка Ваняткина находились тут же. Толковали о казацкой чести и, минуя суд гласный, решили наказать человека, чья причастность к покушению на Зарецкого была для всех очевидна.
Ванятка все отрицал, но факты уличали его, станичники готовились вынести суровое решение — выселить меньшого Чебурнова из Псебая, как вдруг заявился Улагай, сурово произнес «честь имею» и потребовал доложить, что тут происходит. Есаул побледнел, когда Щербаков довольно прозрачно высказался о причастности «третьего лица» к покушению на тропе. С неожиданной яростью Улагай объявил, что оскорбление, нанесенное ему, пусть даже в иносказательной форме, будет смыто кровью, и бешеными глазами уставился на Зарецкого. Хорунжий тоже побледнел, вскочил и, сказавши: «Я готов, присылайте секундантов», выдержал взгляд есаула. Улагай не ответил, а затем усмехнулся и заявил, что по праву старшего офицера он закрывает это «незаконное сборище», оставляя за собой закон самому разобраться в происшедшем.
Тут уж ничего не поделаешь!
Секундантов он так и не прислал. Дуэль не состоялась. Но слова «смыть кровью», конечно, не забылись.
Всего через сутки Псебай был потрясен злодеянием, о котором мы узнаем из письма капитана Калиновского, ответившего на донесение хорунжего. Капитан писал:
«Огорчен несчастием, столь же загадочным, сколь и опасным для жизни Вашей семьи. Надеюсь, что атаман Лабинского отдела произведет расследование и накажет виновных. Учитывая заслуги бывшего управляющего Охотой, коему принадлежал дом, и с согласия наказного атамана Войска Кубанского, высылаю Вам из средств Охоты пятьсот рублей на постройку нового дома для родственников Ваших и бывшего управляющего Носке. С глубоким уважением…»
Чем же вызвано это странное письмо? Что за несчастье случилось в семье Зарецких?
…В тот тихий и теплый день позднего лета Андрей Михайлович, Данута, тетя Эмилия и уже начавший ходить Мишанька — так звали своего сына отец и мать — все вместе отправились к дедушке и бабе, решив после гостевания оставить маленького в доме старых Зарецких. Андрею Михайловичу предстояло ехать в очередной поход по кордонам, он хотел навестить Кухаревичей, которые жили и работали тихо, без неприятностей и потрясений, показываясь в станице разве что два-три раза в году. Даже на зиму они оставались в горах.
Маленькие ножки внука в который уже раз протопали по комнатам старого дома, по гулкой веранде, по ступенькам во двор и сад. Он успел насидеться и на коленях деда и в объятиях любящей бабушки. За столом шла неспешная беседа, шумел самовар, было спокойно и славно, как бывает только в счастливых семьях.
Спустился вечер, прохладный и сонный, типичный для лета в лесных предгорьях, где знойный воздух близкой степи и холод недалеких снежных хребтов, встречаясь и перемешиваясь, создают ту особенную, дивную погоду над зелеными холмами, которая несет людям добрый настрой души, отличное здоровье и долголетие.
Софья Павловна уложила внука. Он заснул мгновенно.
И вот тогда, в поздний уже час, на церковной колокольне вдруг тревожно и гулко забили в набат. Пожар…
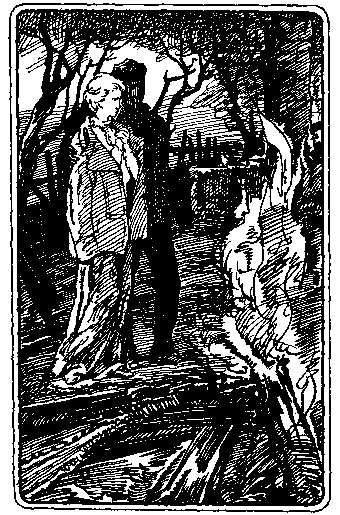 |
Софья Павловна мелко перекрестилась. Тетя Эмилия схватилась за сердце. Все выскочили на улицу. Бежали люди. Звенели ведра. Горело где-то недалеко, красное пламя беззвучно взлетало все выше, зловеще подсвечивая дома и деревья. Набат не утихал.
Андрей Михайлович глянул на Дануту. Схватив тетю и Софью Павловну за руки, крикнув суетившемуся дедушке, чтобы оставался с внуком, она быстро пошла с двумя женщинами вперед.
За поворотом улицы горел их дом. Он четко рисовался на фоне красного пламени, охватившего всю заднюю часть. Эмилия ахнула и потеряла сознание. Ее затащили в ближайшие ворота.
Люди боролись с огнем, но пожар быстро пожирал сухое деревянное строение. Воду таскали из бочек, луж, плескали в разбитые окна. Кто-то пробрался внутрь. Выкидывали на улицу стулья, ящики, сундучки, картины… Звенело битое стекло, гудело, набирая силу, пламя; оно обняло всю дворовую сторону дома и жадно тянулось к фасаду. Толпа прибывала, станица проснулась, на улице росла куча вещей. И все понимали, что дом уже не спасти.
Андрей Михайлович с десятком мужчин отстаивал сарай и соседние дома. Их все время обливали водой. Тревожно шелестели усыхающие на глазах листья тополей около дома. Кусты смородины, яблони, цветы почернели от жара или были вытоптаны.
Часа через полтора все было кончено. Осталась груда горящих бревен, да неприкаянно стояла черная печь с обвалившейся трубой. Грузили на телегу вещи, чтобы везти к Зарецким. Расходились, судача, люди.
Пришли расстроенные женщины в слезах. Данута задумчиво кусала губы. Глаза ее возбужденно блестели. Всё понимала. Андрей Михайлович ходил по двору, присматривался. Она подошла к нему. Кивком головы Зарецкий показал на пятно все еще горевшей земли у заднего крыльца.
— Керосин. А вон и брошенный жбан. Выбили окно, облили веранду.
— Я так и думала, — сказала Данута. — Опять месть. Как жить? И все подло, из-за угла! Ох, Андрюша!..
— Как жить? Око за око! Зуб за зуб! — Он заговорил сурово, и лицо его вдруг сделалось непривычно жестоким. Впервые Данута видела своего мужа таким. Не юношу — мужчину.
Наутро в охотничьем домике Псебая собрались те же люди, которые недавно пытались судить Чебурнова. Щербаков сказал:
— Работа не Ваняткина. И не Семена. Хромой спал, я проверил. Да и не способен он к тому. А Семен третий день в Лабинской. Керосин у лавочника в эти дни брали все известные люди. Подожгли чужие. Выбрали время, когда вас не было.
Зарецкий сказал:
— За огородом, в лесу, стояли два коня. Круг вытоптали. Долго выжидали. Я нашел и место и след. Ушли за гору.
Вот тогда Андрей Михайлович и написал сдержанное донесение Калиновскому, ответ которого нам уже известен.
Судя по тому, что тетя Эмилия перебралась жить к Зарецким, дом на пожарище решили не строить. На полученные деньги сделали пристройку и купили взамен сгоревших вещи.
С выездом в горы Зарецкий задержался. Перед отъездом он видел, как отец с выражением суровой решимости на лице сосредоточенно перебирал, смазывал и заряжал свой карабин. Револьвер на ночь он прятал под подушку. Сын отнесся к этому с полным пониманием. В нем и самом что-то сдвинулось: на жизнь смотрел строже. Дануте в который раз наказал:
— Глаз с Мишаньки не спускай!..
По-видимому, в тот же год, а может быть, и раньше Андрей Михайлович через Дануту начал переписку с петербургским зоологом Григорием Александровичем Кожевниковым.
Прежде всего он написал, что имеет все основания оценить Западный Кавказ как очень удобную среду обитания по меньшей мере для двух-трех тысяч зубров. Конечно, при сохранении заповедного режима. Привел факты, которые наблюдал сам: даже часто посещаемые поляны и леса, где зубры, можно сказать, днюют и ночуют, нисколько не изрежены и не вытоптаны. Южные леса и луга щедры на прирост, этим они отличаются от среднерусских, в частности от Беловежской пущи. Здесь все растет удивительно быстро. На десятине леса в отдельных местах он сам считает до четырехсот кубических саженей древесины! Подросту, кустарникам нет счету.
Зоолог ответил, что верит Зарецкому, весьма рад, что в России есть возможность размножить зубров, как и других полезных животных, которые уже на грани вымирания, — речного бобра, соболя или лося. Далее он написал:
"Вам надобно знать, что в Аскании-Нова усилиями милейшего Фридриха Фальц-Фейна и его способных учеников с 1902 года успешно размножаются зубры, привезенные из Беловежского зверинца. Родоначальниками асканийского стада считают быка Белостока, коров Биалу и Бибру, у которых живы зубрята. Позже сюда привезли быка Бима, он тоже дал обширное потомство. Ныне в асканийском зверинце уже десятки равнинных зубров. Еще одна «точка» пополнения вида. Как жаль, что в Гатчине, где более двух десятков зубров, да и в Крыму такой работой не занимаются.
Вам, может быть, известно, что еще в 1897 году Фальц-Фейн купил в Гамбурге бизона-годовичка, который вскоре пал, успев оставить только двух потомков. А в 1900 году для Аскания приобрели второго бизона, и от него сейчас имеется пять молодых. Естественно, что вскоре здесь появились зубро-бизоны. Мне удалось видеть их. Мощнейшие звери эти гибриды! Очень красивые и, кажется, жизнестойкие. Я склонен приветствовать эту интересную работу, поскольку такое смешение подвидов помогает сохранить древнего зверя.
Но асканийские новаторы не остановились на этом, они пошли далее, используя опыт Валицкого из Виляновского зверинца. Этот зоолог еще полвека назад скрещивал зубра с домашним швейцарским скотом. Так вот и асканийцы в 1904 году скрестили своих зубров с серым украинским домашним скотом, получили гибриды первого поколения, а в 1908 — второе поколение на зубра. Пожалуй, станут возможными и гибриды иного порядка: зубр + бизон + серый украинский скот.
Что получит человечество от подобных опытов, сказать трудно. Возможно, будет какая-то хозяйственная выгода. Но все это рождает опасения уже другого плана: не потерять бы в этом нарастающем кровосмешении наследственные свойства диких зубров, как потерялась в свое время наследственность дикого тура, едва ли не полностью растворившаяся в некоторых породах домашнего скота таких стран, как Голландия, Австро-Венгрия, Испания и юг Украины.
Хочу сказать Вам, что специалисты, создавшие Пшинский охотничий парк в поместье князя Плесе, что в Верхней Силезии[5], оказались дальновиднее своих коллег в Гамбурге, Аскании-Нова и Пилявине: они приобретали только равнинных, беловежских зубров и проводили размножение их, сохранив в чистоте равнинный подвид зубра. Их здесь более семи десятков…"
Еще в одном сохранившемся письме зоолога на имя Зарецкого мы находим очень уместное предупреждение. «Насколько мне известно, — писал ученый, — на высокогорных пастбищах охоты был разрешен выпас домашнего скота из ближних станиц и селений местных жителей. На эти же пастбища летом выходят Ваши дикие зубры. Нельзя исключить возможность контакта — словом, того самого, что искусственно делают в Аскании-Нова. Я уж не говорю об опасности заражения диких зубров страшнейшими болезнями домашнего скота. Ящуром, например. Вам нельзя оставаться безучастным в этой области, коль скоро на Вас лежит обязанность сохранения дикого стада. Тяжелые болезни в прошлом среди зубров на Кавказе уже случались. Не подумать ли о заблаговременном разграничении лугов для зубра и для летних выпасов домашнего скота?»
Последнее письмо получено, надо думать, незадолго до пожара в Псебае. Хотел того Андрей Михайлович или не хотел, но, выбирая маршрут для поездки по кордонам, он думал и об этом письме. И поехал сразу на северный кордон. В Гузерипле поредевшие стада зубров чаще всего сталкивались близ Фишта с домашним скотом. Предупредить Кухаревича…
Измученный крутой и тяжелой дорогой, Зарецкий спешился в виду караулки часов в десять вечера, потемну, и повел Алана на поводу. Мост через Белую не из тех переправ, на которые можно положиться. Так что лучше пешком.
Уже ступив на мост, он улыбнулся, мимолетно вспомнив ниточку — хитрость Кати, благодаря которой удалось избежать еще одной опасности. И почти тотчас лица его коснулась будто бы паутина. Снова нить… Он не порвал ее, а приподнял, провел Алана и за пихтовыми ветками увидел окошки. Они уютно светились.
Зарецкий отвел коня под навес, снял седло, дал травы, которая лежала тут горкой, и, приглядевшись, заметил, что рядом стоят три лошади. Одна была чужой. И под седлом. Лишь подпруги ослаблены. Кто такой?
Выверенным жестом он расстегнул кобуру и чуть вытянул револьвер. Постоял, прислушался. Дом молчал. Тогда он осторожно прошел в сени, стукнул два раза в дверь и тут же открыл ее, оставаясь в тени.
С лавки поднялся незнакомый смуглый, черноусый человек. И тоже быстрым движением сунул руку в брючный карман.
— Тихо! — В руке егеря блестел револьвер. — Выньте руку. Вот так. И сядьте. Где Кухаревич?
— Вы кто будете? — сипло, от испуга, что ли, спросил черноусый, пытаясь перехватить инициативу.
— Где Кухаревич? — уже требовательней повторил Зарецкий.
— В отъезде.
— Катя?
— Здесь. Я ее жду. Сейчас будет.
— Назовите себя!
— Сурен. Сурен из Туапсе.
— Зачем вы здесь?
— К знакомым. — Черноусый, успокаиваясь, слегка развел руки. — В гости…
— С оружием?
— Ну, какое там оружие. Так, на всякий случай.
— На стол. Спокойно. И сядьте вон там.
Сурен послушно выложил старенький револьвер. Сел, где указано.
Теперь он улыбался, посматривал дружески. Но оставался в состоянии неуверенности, тем более что егерь все еще стоял у дверей с револьвером в руках и лицо его не выражало готовности к ответному дружелюбию.
Хлопнула дверь в сенях. Сурен сделал движение, чтобы встать, но егерь повел стволом револьвера в его сторону, и он опять сел. Дверь открылась не сразу, в сенях повозились, раздвинулась щель, и Катя неловко, боком, даже спиной влезла в караулку.
На согнутой правой руке ее обвисала тяжелая стопа аккуратно нарезанных листов бумаги размером в распахнутую школьную тетрадь.
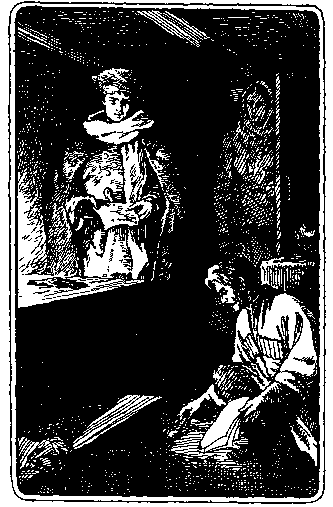 |
Сперва она увидела Сурена за столом и озабоченно спросила:
— Задержала я тебя?
Он не отозвался, взглядом указал ей за спину, где стоял Зарецкий. Опущенная Катина голова повернулась, она увидела поначалу чужие сапоги, сказала «Ох!», и вся стопа листков выскользнула из рук ее на пол. Лишь тут она подняла глаза, особенно черные на побелевшем лице, узнала Андрея и даже пошатнулась от только что пережитого.
— Ведь я подумала… — Она проглотила комок в горле. — А это вы… Здравствуйте, Андрей! Как вы меня испугали!.. — И обессиленно опустилась на лавку.
Сурен стал подбирать рассыпанные листки.
— Не знал я… — загадочно начал Зарецкий, но что-то заставило его умолкнуть. Он поднял один листок, повернул к свету.
Крупные буквы заголовка — «Российская социал-демократическая рабочая партия. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». «Товарищи и граждане!..» — бросилось ему в глаза. А далее уже обычным шрифтом шло: «Опять измена, опять наглое издевательство над измученным русским народом! Бесстыдный палач свободы, гнусный сатрап-душегуб в самодержавной короне со всей сворой…»
И Катя и Сурен стояли, не сводя с него глаз. Андрей был ошеломлен. Он не находил слов, не знал, как отнестись… У них на кордоне!..
— Вы, наверное, есть хотите, да? — быстро сказала Катя. — Ой, ну конечно! Столько проехать! А я, глупая, стою и хлопаю глазами! Раздевайтесь, садитесь, Андрей, я сейчас быстро. Вот только руки вымою.
Руки у нее были густо запачканы черной типографской краской. Жирная краска светилась и по строчкам прокламаций.
Сурен собрал с полу листки, аккуратно сложил их в кипу, подровнял и, достав брезентовую сумку, запихнул в нее взрывчатый материал, — все это неторопливо, по-хозяйски, словно никого постороннего тут и не было. Катя что-то быстро говорила, хлопотала у печки.
Андрей понял наконец всю нелепость своего поведения, уложил дурацки зажатый револьвер в кобуру, снял бурку, ремень и шагнул к столу.
— Где Саша?
— С минуты на минуту подъедет. Он наверху, у зубров, что-то там не понравилось ему.
— Ну, я поеду, — спокойно сказал Сурен.
— А ужинать? — Катя озабоченно глянула на него. — А Саша?
— Время, Катюша. И долгая дорога по темноте. В Солох надо прибыть непременно вечером, мне там показываться не положено.
— Саша так хотел видеть тебя! — сокрушенно сказала Катя. — Я виновата, что задержала. Ну что ж. Доброго пути, Сурен.
— Честь имею! — Сурен обернулся к Зарецкому. — Сожалею, что знакомились при таких обстоятельствах.
Он тихо закрыл за собой дверь.
Неловкое молчание нарушила Катя.
— Удивлены? Шокированы? Может быть, испуганы? Да? Милый Андрюша, неужели вы думали, что мы оставим главное дело своей жизни, успокоимся в глубине этих гор? Нет и нет! Решайте как угодно, ругайте, запрещайте, выгоняйте, но мы с Сашей свое партийное дело ставим выше всех благ, выше личного счастья. Да, печатаем прокламации, переправляем в Туапсе, Новороссийск, на Кубань.
— У вас здесь типография?
— Громко сказано. Печатный станок. И шрифты. Все делаю я. Саша свято и прилежно занимается егерской службой.
— Где же вы печатаете?
— В дольмене. Так удобно! И никто ни за что не догадается.
Дольмен — странное тяжелое сооружение из цельных каменных плит весом пудов по двести каждая, загадка далекого народа, некогда населявшего эти места, то ли могильник, то ли святилище, а может, просто амбар с одним круглым отверстием в передней стенке, — стоял в густой поросли орешника под кронами грабов и лип выше наезженной дороги.
Зарецкий усмехнулся:
— Мне даже в голову не приходило, что вы, что здесь…
— Вам неприятно, да? — Катя впилась в него взглядом.
— Неприятен не сам факт. То, что скрывали. Я не чужой для вас. Боялись?
— Простите. Для вашего же спокойствия. И вот… — Она вдруг рассмеялась. — И не узнали бы сто лет! Подвела моя сигнализация.
— Ниточка?
Она кивнула.
— Я вспомнил о ней, когда наткнулся. Хитрость на хитрость.
— Ах, вот оно что! Обычно у меня так: если оборвется нитка, падает палка, под ней проводка в дольмен, я слышу звон. Ну, и принимаю меры.
— Какие меры? Стреляете?
— Что вы! Выползаю и наваливаю у входа камни. А сама в лес.
За окнами коротко заржал конь. Катя поставила на стол пышки, чайник.
Вошел Саша, утомленный, ссутулившийся, увидел Андрея и вскинул руки. Помывшись, он уселся рядом.
Андрей протянул ему прокламацию:
— Ты сочинял?
— Нет. Текст прислали из Центра. Я так не умею. Кратко, сильно, убедительно. Даже ты уверуешь. — Он, казалось, не увидел ничего особенного в том, что Андрей посвящен в их тайну.
— Я не читал. Только заголовок.
— Ну, так прочти! Толковая вещь, поверь другу.
— Ладно, без агитации. Накрыл я вас, конспираторы. Вместе со связным. Дальше что?
— А ничего. Так и будет. На кордоне порядок. Зубры и прочие подопечные в полной сохранности.
— Ты убежден?
— Еще как! Сурена видел? Отличный человек. Сама преданность и деловитость. Так вот, среди пастухов на перевале он высший авторитет. Он приказал следить за диким зверем, как за своим стадом. Считай, что у тебя на этом кордоне не один егерь, а сорок. Браконьерам хода нет. Доказательства? Можешь приписать к своим итогам девять зубрят-сеголеток. Только один погиб. Нелепый случай: коровы затоптали, когда неведомо отчего бежали по узкому распадку. Олени все целы. И медведи. Ни одного выстрела на северном кордоне!
Кухаревич говорил быстро, был, что называется, в ударе. А Катя не спускала глаз с Андрея. Испытание дружбы. Хотят они того или нет, а ведь с этого дня Зарецкий — их сообщник. Или…
— Все отлично, — задумчиво сказал Андрей. — Но я боюсь другого. Приеду вот сюда в один не очень прекрасный день, а тут пусто, следы погрома, ни друзей моих, ни охраны. И за мной приедут.
— Риск неизбежен, он рядом с нами. Если какой провокатор… Но Сурен единственный, кто знает о типографии. Это надежный товарищ. Провал по его вине исключается. Никогда наше подполье не располагало такой надежной базой!
— Ах вы, товарищи революционеры! — И Зарецкий наконец-то улыбнулся.
Саша посмотрел на жену, она на Андрея. Все трое поднялись и минуту-другую стояли посреди комнаты в обнимку, молчаливо подтверждая неколебимую дружбу.
Уснули поздно, проснулись рано. И снова Катя осталась на кордоне одна.
Два всадника утром пошли в гору, на Абаго.
Наверху, в густых и сочных лугах, где коней никакой силой не удержишь от вкусной и сладкой травы, которую они хватают на ходу, — в этих лугах, осматривая скалы на той стороне Молчепы, Андрей сказал:
— Смотри, какой табунок туров. Сотни две, не меньше?
— Там и серны хватает. Я насчитал до семидесяти.
— Овцы-козы от твоих пастухов не забегают к ним?
— Исключено.
— Сказано категорично. И все же я боюсь заразы. Особенно от молочного скота для зубров.
— Они не встречаются.
— Ты так уверен…
— И ты уверуешь. Вот проедем две-три версты за Молчепу, увидишь.
Они с трудом отыскали переправу, вскарабкались на крутобережье, и Алан остановился, упершись грудью в невысокую, но прочную изгородь.
Сколько труда и времени затрачено на эту бесконечную по протяженности ограду, которая так искусно вписалась в естественные преграды, что подчас ее и заметить трудно! Всего-то три-четыре жерди, крест-накрест связанные перекрученной лозой, вделанные в камни, пропущенные дальше обрывов, чтобы ни одна прыгучая коза, ни один бычок из домашнего стада не проник на территорию диких зверей. Конечно, один егерь с такой работой справиться не мог. Разве те сорок помощников…
Андрей Михайлович готовился обстоятельно рассказать, как опасен ящур и другие болезни для зубров, как надо оберегать их от всякого контакта с домашним скотом, но вид изгороди, уходившей ломаной линией вниз и вверх по склонистому нагорью, избавлял его от поучения. Саша без приказа, по своей инициативе, принял самые надежные меры.
— Когда ты успел? — с признательностью спросил Андрей.
— Да так, потихоньку. Года полтора.
— Но зубры такую изгородь перескочат. Или собьют.
— И не подумают. Сколько наблюдаю, даже близко не подходят. Железом пахнет, человеком.
Они ночевали на западном отроге горы Тыбга. Проговорили у костра весь вечер, полночи. И о семейных делах, об Улагае и о положении в Охоте, теперь вроде уже ничейной.
— Ну, а что говорят о политике? — спросил Саша.
— Более всего, что война неизбежна.
— У нас тоже такое мнение, — сказал Саша, имея в виду партию, к которой принадлежал.
— Да, предчувствие всеобщей беды. Отдельные казачьи полки ушли на север и на запад. Усилилась военная подготовка. Там маневры, тут маневры. До заповедника никому нет дела. Не представляю, что будет со зверем, если уйдем воевать. А тут еще вы тревожите людей.
— Мы против империалистических войн. Кстати, новая прокламация будет именно об этом.
— Ох, Саша, боюсь я за вас!
— Кто-то должен говорить правду. Не мы, так другие. А пока что наша организация делает свое дело. Война — всегда продолжение политики. Классовой политики. Кто делает политику, тот и устраивает войны.
Зарецкий промолчал.
Утром, когда сошла роса и над хребтом Аспидным поднялось солнце, они успели разглядеть на лугах десятка полтора зубров и множество оленей. Вернулись к костру, затоптали огонь и простились. Зарецкий хотел пробиться отсюда на Кишу. Хожеными тропами он старался не пользоваться.
Каких только встреч не случается в горах, но столкнуться с Василием Васильевичем Кожевниковым чуть ли не в тридцати верстах от кордона, да еще с шумным, непривычно возбужденным, то и дело стреляющим в воздух из винтовки, — такой встречи Зарецкий никак не ожидал!
За час до этого он поразился обилию животных, то и дело проскальзывающих мимо к верхней Кише. Олени, косули, лисы тенями мелькали в кустах. Выше по лесистым склонам слышался характерный треск веток: то бежали, конечно, зубры.
И вот — Кожевников. Когда бородатый силач увидел перед собой Зарецкого, он даже испугался. Привидение, что ли?..
— Ты что это, Васильевич, шум устраиваешь, патроны переводишь? — спросил Андрей Михайлович. — И вид у тебя, словно самого гонят?
— Угадал. Гонят. Охота прибыла, Михайлович.
— Какая охота? Когда? Где?
— Прямо ко мне на кордон пожаловали. Погода, вишь, сухая, так всей гурьбой через Майкоп и Даховскую пробились. Человек до полсотни. Шум, гам, завтра собираются зубров стрелять. Все какие-то шалые, крови им давай!
Неслыханно! Охота, да еще на Кише, где полно зубров!..
— А ты куда же теперь? Сбежал?
— А что я? Там Никита Иванович прискакал, станичные атаманы, ну, и все другие егеря, стараются хоть какой порядок навести, а я улучил минуту — и пошел сгонять зверя в глубину. Сколько угоню, столько и спасем. Ты мово племяша не встрел? Я его к Телеусову на коне услал, предупредить. Не дай бог, в Умпырь пробьются!
— Едем со мной, — приказал Зарецкий.
По пути к кордону Кожевников рассказал, что приехали генералы, два каких-то сенатора, как их зовут, очкастые, важные, потом помощник наказного атамана, полковники, ну, а особо высоких чинов нету. Но люди эти, видать, отчаянные, торопят, стрельбу по кабанам учинили, медведя-шатуна успели завалить.
Издали, как стемнело, Андрей увидел отсвет костров, почему-то напомнивших ему псебайский пожар, услышал разноголосый шум, нестройные песни и подумал, что медвежатина потребовала возлияний.
Они спешились в стороне, чтобы не привлекать внимания. Лагерь напоминал сборище удалых разбойников, только что добравшихся до заветного клада. У всех костров — а их насчитывалось восемь — пили, ели, звенели посудой. Разговор шел на высоких тонах, кто-то пытался петь, кто-то трижды выстрелил из револьвера, поднялась ссора, шум, потом поутихло.
Отыскался Щербаков, начал бранить охотников: никого не признают, егерей не хотят, сами, мол, знаем, как и что, с утра собираются гай устраивать в долине, иначе говоря — гнать всех зверей на поляну и там, окружив их, бить.
Рядом с Никитой Ивановичем стоял серьезный человек с лицом смуглым, черноусым. Глубокими черными глазами он рассматривал Зарецкого. Они уже знакомились, но случайно, поговорить тогда не удалось, хотя им-то было о чем говорить. Христофор Георгиевич Шапошников первым начал писать письма в Академию наук с предложением создать на Кавказе заповедник. Это произошло спустя три года после его возвращения в Майкоп из Берлина, где он учился в университете.
Зарецкий спросил его:
— Вы какими судьбами здесь?
— Бродил по горам, пополнял свои коллекции. Увидел охотников, понял, что вам нужна помощь, увязался за Щербаковым. Вы узнайте прежде всего, есть ли у наезжих людей разрешение для охоты. И кем оно подписано, это разрешение.
— Есть, да чудное какое-то, — сказал Щербаков. — У генерала, фамилию не знаю, малявый такой с виду.
Егеря собрались вместе, держали совет. Капитан Калиновский дипломатично ушел, не хотел брать на себя никакой ответственности. Кожевников предложил увести хотя бы половину винтовок подальше от Сулиминой поляны, про которую охотники уже наслышаны. Туда они непременно потащатся, знают о зубрах.
— Куда уводить-то? — спросил Щербаков. — Тут везде зверя полно.
— К Лабазановой горе, — ответил Кожевников. — По дороге туров ветреней, пусть постреляют в удовольствие, коли смогут, а у той Лабазановой горы доси пусто, одни серны бегают.
— Это выход, — согласился Андрей Михайлович. — Ты и поведешь, Васильевич. Мы тоже с гаем пойдем, но только раньше охотников. Отсечем поляну, прочешем лес, и если что останется на их долю, то и на жертвенник.
Четыре егеря с Шапошниковым во главе не стали ждать рассвета, сразу ушли в черную ночь. А Зарецкий отправился искать «малявого с виду» генерала, чтобы ознакомиться с разрешением на охоту.
Пока он ходил от костра к костру, чувство глухого раздражения все более нарастало в нем. Что за дикое сборище! Почти все пьяны, говорили приказными голосами, ощущали себя хозяевами в этом святом по заповедности месте. Невозможно было понять, кто здесь старший; кажется, все чувствовали себя старшими и хотели поступать как заблагорассудится.
Капитан Калиновский указал Андрею Михайловичу на владетеля грамоты. Маленький, сухой, моложавого вида генерал от артиллерии сидел у костра в распахнутом мундире, скрестив руки на груди. Тут же полулежали два полных господина в поблескивающих очках — видимо, те сенаторы, о которых говорил Кожевников.
Зарецкий, щелкнув каблуками, представился: егерь, хранитель диких зубров. Генерал поднял бровь, кивнул, но не поднялся, не переменил позы.
— Могу познакомиться с разрешением на охоту? В мои обязанности входит…
— Ну, если входит, конечно.
Генерал чуть обернулся, адъютант достал бумагу и протянул генералу. Тот, не развернув листа, молча отдал его Зарецкому.
Странное было это разрешение, скорее частное письмо. Оно адресовалось наказному атаману Войска Кубанского. На обычной почтовой бумаге великий князь собственноручно писал:
"Милостивый государь Андрей Иванович. Высокочтимые господа наши, одержимые страстным желанием испробовать свои силы в охоте на дикого зверя, попросили у меня разрешения посетить Кубанскую охоту и провести несколько дней в свое удовольствие. Не имея ничего против разрядки чувств, прошу Вас, господин генерал-лейтенант, отрядить с группой гостей своего полномочного человека для руководства и организации этой экспедиции, согласовав ее с егерями Охоты.
С самым глубоким к Вам уважением…"
И знакомая по прошлым документам размашистая подпись.
В самом обращении к атаману князь подчеркивал, что если он и остается пока арендатором Охоты, то все же не может обходить и начальство области, коему принадлежат все угодья на Кавказе.
— Вы удовлетворены? — спросил генерал, принимая бумагу.
— Так точно! Мне остается узнать, кому атаман Войска Кубанского поручил руководство охотой, и согласовать действия охотников с нами.
Генерал повел глазами влево, указывая на полусонного соседа, который не очень-то вслушивался в разговор.
— Полковник Лисицкий.
Это был начальник канцелярии кубанского генерал-губернатора.
Тот лениво поднялся, без особого интереса осмотрел егеря, коротко приказал:
— Завтра. Завтра, хорунжий. И будьте здоровы!
— Смею напомнить, что охота гаем требует строгой организации, господин полковник, иначе могут быть несчастные случаи.
— Несчастные случаи с зубрами? — сострил генерал и улыбнулся.
— С охотниками, ваше высокопревосходительство. В лесу плохо видно, а пуля — дура.
— Завтра утром прошу… к нашему шалашу. — Полковник тоже попытался шутить.
Он был пьян.
Зарецкий отдал честь и отошел от костра.
Он уже понял, что нет сил и возможностей взять под контроль эту охоту, представленную расхристанной толпой людей. Для них это забава, средство отвлечься от тяжелой действительности, от заботы, связанной с войной, от неуверенности в будущем. Пир во время чумы…
Так в XVI веке писал в поэме о зубрах Гуссовский.
Стойкая злость захлестывала Зарецкого. Ладно, будет им охота! Завтра они проспят зорю, и егеря успеют разогнать зубров, которые еще остались после рейда Кожевникова. К этому злорадному ощущению прибавлялась крупица гордости: впервые в истории великокняжеской Охоты егеря организованно выступают в качестве охранителей зверя от вельмож, а не соучастниками охоты.
Сняв с плеча винтовку, он поднялся на крыльцо кордона и лицом к лицу столкнулся с Улагаем. За спиной есаула топтался Семен Чебурнов и какие-то два черкеса.
Кровь прилила к щекам Зарецкого. Есаул отвернулся. Ни слова приветствия, ни слова вообще. С гулко забившимся сердцем Андрей шагнул в помещение. Что этому здесь надо?
В комнате сидел Кожевников.
— Встрелись? — спросил он. — Ну, гляди в оба! Он не хотел показываться, меня увидел — и назад. А я тут охотников подговаривал, чтобы иттить со мной в Лабазановы пещеры. Будто от себя. Намек дал, что ради деньжонок. Тайно. Кажись, клюнуло. А теперь и не знаю. Оставлять тебя без поддержки неохота. Их четверо, видал?
— За себя постою, не беспокойся.
— Тут Власович с часу на час прибудет, ты уж его не отпускай от себя. А я пойду. Дня четыре повожу, пока сами домой запросятся. Придут, так им уже не до охоты.
Спали они с Кожевниковым бок о бок у костра. Помещение кордона на ночь занял сухонький генерал. Сон то и дело прерывался выкриками от других костров, где все еще пировали. Неспокойная ночь. И где-то рядом Улагай со своими янычарами. Кожевников часто подымался и осматривался.
Далеко не все охотники проснулись на заре, да и настроение у них нельзя было назвать боевым. Кожевников ушел. Около него сгрудилось десятка полтора храбрецов, денщики держали лошадей, а егерь тихо-вкрадчиво говорил, подогревая страсть:
— Жил тот Лабазан в пещерах, там у его, сказывают, клад зарыт, а на могиле черепа зубриные. А уж зверя в лесах опосля его смерти расплодилось!
Вскоре добрая половина охоты растаяла в предрассветном тумане.
Остальных егерей в лагере не видели с вечера. Они гнали зверя с Сулиминой поляны в глубь долины.
Сухонький генерал проснулся первым, денщик подал ему умыться, побрил. Покушав, он изволил заметить егеря. Генерал подошел, приветливо поздоровался, расспросил о службе, после чего высказал затаенную мечту свалить зубра. Никогда не видел этого зверя, но много слышал. И будет очень благодарен…
— Не удастся, ваше высокопревосходительство, — сказал Зарецкий.
— Даже с вашей помощью?
— Зубры сейчас высоко на альпике. Там, на лугах, к ним на выстрел никто не подойдет. Если бы позже, в октябре.
Генерал пожевал губами. Доводы казались ему уважительными. Привычно скрестив по-наполеоновски руки, меланхолично заметил:
— Последняя, быть может, возможность, хорунжий.
— Приедете следующей осенью.
— Нет. Неотвратимо идем к войне. Не до охоты.
Вышел заспанный, помятый полковник.
— А, это вы, — сказал он. — Все еще хотите охотничий пасьянс разложить? Ты — туда, ты — сюда… Кто вас будет слушать? Орлы горят желанием. Пусть где хотят, как хотят и сколько хотят.
И все-таки Андрею удалось показать границы гая, расставить охотников так, чтобы не постреляли друг друга. Далекие хлопки выстрелов радовали его: егеря делали свое дело.
Занимаясь всем этим, Зарецкий постоянно искал есаула или его людей. Он не терял собранности и осторожности. Выстрел на охоте… С кем не бывает. Такая история Улагая вполне устраивала.
Но ничего не случилось. Гай свернулся часам к трем. Итогом всеобщего загона оказались четыре косули, старый, ленивый медведь и два красавца оленя, каким-то чудом ушедшие от егерей. Охотников, добывших оленей, несли на руках. Появился и Семен Чебурнов. По тому, как один из удачливых охотников обнял его, Зарецкий понял, что Семен помогал выслеживать рогача. И тут деньжонки заработал.
Есаул со своими черкесами словно сквозь землю провалился.
Зато приехал Телеусов. И уже не отходил от Андрея.
Еще три дня продолжалась охота в этом районе. И три дня не приходили вести из группы Кожевникова. Лишь на четвертые сутки показалась молчаливая цепочка всадников во главе с бородатым егерем. Без зубров. Правда, на вьюках колыхалось мясо в мешках, шесть турьих голов свидетельствовали о некоторой удаче. Привезли также семь зубриных черепов со снятыми рогами — это уже из Лабазановых пещер. Но клада не обнаружили, как и «множества зверя».
— Доволен? — спросил бородач у Андрея.
— Спасибо, старина.
— А где твой вражина?
— Исчез куда-то. Чебурнов здесь.
— Значит, выслеживает. Ждут, пока съедет охота. Давай и мы сгинем незаметно, а? Боюсь, как бы не разделались…
— Нет. Не отступлю, — твердо ответил Зарецкий. — Не прятаться, не обороняться, а лицом к лицу. Надоело жить с оглядкой.
— И то добре. Только нас с Телеусом не отгоняй. Их вон сколько.
Взбудоражив хребет Пшекиш, все леса вдоль Киши, охота собрала довольно скромную дань, но даже без зубров она утолила жажду крови. Охотники притихли и на девятый день отбыли в сторону Майкопа. Егеря разъехались по своем кордонам.
На Кише остались Зарецкий, Кожевников и Телеусов.
Какая же тишина воцарилась после отъезда охоты!
Кажется, сам воздух стал другим, очистившись от дыма, запаха жареного, винного духа, порохового чада и человеческого пота. Свежий ветер с хребтов набросил в долину ароматы трав и холодок ледников. Процеживаясь через лес, он насыщался кисловатым духом кивсяка, жаром жасмина и винной пряностью зрелых плодов, уже усеявших кроны диких груш, яблонь и черешни.
Но главное — тишина. Мирный шелест листвы, тихий шорох высокотравья, бормотанье ручьев, редкая перекличка птиц — все эти природные звуки не спугивали, а, скорей, углубляли покой.
Три егеря, незаметно покинув кордон, с утра сидели в лесу под защитой скал. Тишина убаюкала их. Где-то близко бродили четверо вооруженных людей, выслеживая Зарецкого.
Улагай, уклонившийся от честной дуэли, которую сам же в запальчивости предложил, конечно, не отказался от своей мысли «кровью смыть оскорбление». Со своей стороны Андрей Зарецкий не желал больше ни отступать, ни обороняться. Он готов был к встрече с есаулом, чтобы покончить с опасной неопределенностью.
— Ты его в глаза не увидишь, — убеждал Алексей Власович. — Скорее, нарвешься на наемников-джигитов, а он останется в стороне с чистыми ручками.
— Они ловкие, эти черкесы. Да и Семена мы хорошо знаем. Небось уже тропы перекрыли, ждут. — Это говорил Василий Васильевич. — Одно нам остается: коль войны хотят, дать им войну. Выследим, обезоружим. Это мы вправе. Чего болтаются здеся с винтовками?
— Но Улагай имеет право…
— Его с ними не будет, это точно. Он таится один. Знать не знаю, ведать не ведаю… Их обезвредим, а уж с им ты встретишься и как там хотишь.
Уговорив Андрея Михайловича посидеть в укромном месте до ночи, а может, и до утра, Кожевников и Телеусов ушли в разведку.
Где искать затаившихся подлецов, как не над тропой в Хамышки? Именно туда должен ехать Зарецкий. Предположение не обмануло следопытов. Тайно обходя склоны долины, осматривая с верхних скал все уязвимые места над тропой, они углядели «гнездо» с двумя джигитами. Убийцы ждали жертву.
— Повяжем? — спросил Алексей Власович.
— Не-е… Надо ихнего связного выследить, Семена. Он непременно рыскает от этих двух к Улагаю и обратно. Ежели угадаем его тропу, отыщем и того, главного.
— Ой, Василий, на опасное дело толкаешь Андрея!
— Он сам хотит. Справится. Знаешь, как стреляет. И силенкой бог его не обидел. А кончать надо, без этого жизни ему нет, рано-поздно они его ухайдакают, а не то и всю семью. Опасно, да справедливо: лицом к лицу, чья возьмет.
«Гнездо» оставалось под наблюдением егерей. Но они проглядели, как подъехал Семен. Когда навели бинокли, там было уже трое. Вот и дождались. Снялись, прошли саженей на двести дальше засады, нашли след коня Семенова и пошли в глубь круто падающего леса, пока не утеряли приметы. Пришлось вернуться, лечь в камнях и дождаться Чебурнова.
Он скоро проехал назад. Смело так, даже песню мурлыкал.
Троих засекли. Осталось увидеть самого есаула.
Потайка оказалась недалеко, чуть более версты от засады. На высоком плоском уступе, в сосняке, дымил костер, конь на длинном поводе пасся немного дальше. А у самого обрыва, где саженях в пятидесяти ниже ревел приток Киши, лежал, завернувшись в бурку, казенный лесничий. У костра хлопотал Семен.
Егеря как можно быстрей вернулись назад. Теперь Семен поедет к «гнезду» не скоро, будет слушать, не прогремит ли эхо долгожданных выстрелов по Андрею.
Обезоружить двух черкесов удалось не сразу. Бока затекли, пока один из джигитов не встал и не отошел в кусты, где они укрывались. Бородач, силы огромной, навалился на него и не дал пикнуть. Паклю в рот, сыромятный ремень на руки, на ноги, концом к стволу березы — и лежи, моргай.
Второй даже не обернулся на шорох, боялся глаз спустить с тропы. Его оглушили ударом приклада, чтобы не успел нажать на спусковой крючок. Удар получился не детский, пришлось бегать за водой, отливать. Когда открыл глаза, руки-ноги повязаны, хотел крикнуть, да где там!
Обезвредив наемников, егеря перевели дух, забрали винтовки и кинжалы и пошли за Чебурновым. Его черед настал.
Наверное, Улагай нервничал, не дал Семену засидеться у костра и снова отправил его к засаде, на этот раз пешком.
Два егеря вышли на полпути из-за пихтовых стволов. Семен скинул было винтовку, но тут же оказался на земле, лицом его вдавили в лесную прель, чтобы не заорал, тем же манером связали руки и повели к «гнезду».
Он мычал, просил освободить рот.
— Орать зачнешь? — спросил Кожевников.
Семен затряс головой.
— Пикнешь — пришибу, так и знай. Ты моего кулака уже отведал.
— За что, ребята? — жалобно проблеял Семен, когда с него сняли повязку.
— Смертоубийство кто затеял? Кого вы караулите?
— Медведя…
— Дуракам кажи. Теперича засудят тебя, Семен, не отвертишься. Джигиты ваши уже признались. Всё, доигрались.
Чебурнов впервые испугался. Враз обозлившись, крикнул:
— Того и берите, кто приказывает. Я — что? Я подневольный. А того вам слабо взять! Не по зубам.
— Не твое это дело, паршивец! — со злостью сказал Телеусов.
Семена усадили недалеко от черкесов. Кожевников выбрал себе место, чтобы видеть всех троих, поставил винтовку меж ног и, свернув цигарку, с облегчением закурил.
Телеусов на черкесской лошади, с другой в поводу заторопился к Зарецкому.
— Нашли, — сказал он, задыхаясь от волнения. — Троих повязали, Василий сторожит их, а я за тобой. Вражина твой на скале лежит, вестей о твоей смерти ждет. Пойдешь, ай как?
Андрей вспыхнул, заторопился. Бросился к Алану, подтянул подпруги и, крикнув: «Оставайся здесь!» — помчался было, но вдруг осадил коня и закричал:
— Давай быстро, Власович! В седло, в седло! Дорогу покажи!
Солнце скатывалось за горный массив, красноватый свет его, прорываясь на седловинах, полосами освещал лес — где зелено, где уже черно. Ветер затих, тепло и нега разливались в воздухе.
Телеусов остановил коня.
— Там! — Он указал на высокое плато в сосняке. — И пусть свершится правое дело.
Он принял Алана и потихоньку перекрестился. Он боялся за своего друга. Мог помочь. Но не предложил. Пусть сам…
Зарецкий подкинул винтовку и пошел навстречу своей судьбе. Или своей смерти?..
 |
Он раздвинул сосновую поросль и увидел Улагая. Есаул стоял, освещенный красноватым солнцем, в профиль к нему, на самом краю обрыва — руки за спиной, голова откинута, простоволоса. Тишина раздражала его. Ужели не прозвучит выстрел? Винтовка лежала возле ног.
Андрей переступил влево, коснулся плечом толстого ствола сосны. Минуту глядел на врага, такого уязвимого сейчас, в сущности, беззащитного. Выстрел — и нет его. Тряхнул головой, отбрасывая дурную мысль. Уподобиться ему?..
Громко, чтобы враг не сомневался, кто рядом, сказал:
— Керим Улагай, мы здесь одни. И я готов…
Быстрым, прямо-таки кошачьим движением Улагай схватил винтовку, и не успел Зарецкий передернуть затвором, как выстрелил. Их разделяли саженей тридцать — сорок, промахнуться трудно, но и у Зарецкого инстинкт охотника сработал молниеносно. Он подался корпусом к стволу дерева, и пуля, срезав кусок древесины с корой, заодно сорвала с правого плеча его и сукно и живую кожу. Теплая кровь обрызнула щеку. «Висок!» — мелькнула страшная мысль, в глазах поплыл туман. Но все это быстро прошло. «Ранил, мерзавец!» Пьянея от крови, егерь сделал шаг вперед. Улагай, отбросив правила чести, нервно передергивал затвор, но, видно, патрон у него перекосила, он пронзительно взвизгнул, бросил винтовку и сам, как срезанный, плашмя упал на землю, впившись в нее побелевшими пальцами, зубами. Смерть. Смерть!
— Выстрел за мной, есаул, — уже спокойнее сказал Зарецкий, твердо зная, что сейчас он подымет винтовку и ненавистный ему человек обратится в ничто. — Встань и посмотри смерти в глаза. Ты заслужил ее, подлый человек. Ну! Я жду. Не будь трусом в последнюю минуту…
Улагай медленно поднялся. Белое лицо его поразило Зарецкого. Мертвец. Еще живой, но уже мертвец.
— Стреляй! Стреляй! — И вдруг обеими руками закрыл лицо. Не хватило духа. — Нет! Я не хочу!..
— Ты послал убийцу на мою тропу в Хамышках?
— Я не мог простить тебе…
— Ты сжег наш дом?
— Я не мог видеть вашего счастья…
— Чего же ты хочешь, Улагай?
— Я сам не знаю. — Он отнял руки от лица. Глаза его с ужасом смотрели на винтовку, на черную дырочку ствола. Хрипло, но уже внятно он попросил: — Оставь мне жизнь.
— И ты снова пошлешь убийцу подкарауливать меня?
— Нет. Ты даришь мне жизнь. Я дарю тебе покой и счастье.
— Мне и близким моим. Повтори, Улагай!
— Тебе и близким твоим…
— Слово?
— Честное слово офицера!
Андрей Михайлович опустил винтовку и вышел из сосняка.
— Запомни, Улагай, этот день. И уходи. Твой конь пасется рядом. Не жди своих наемников, они у нас. Я отпущу их. Но пусть и они забудут о наших лесах.
Улагай наклонил голову. Поднял винтовку. Накинул бурку. Под пристальным взглядом Зарецкого каким-то волочащимся шагом, униженный и побитый, пошел он к лошади, устало перевалился в седло и, безвольно согнувшись, скрылся на потемневшей лесной тропе.
Конь Чебурнова поплелся было за всадником, но отстал, закружился на месте и, чуя других людей, просительно заржал. Боялся одиночества и темнеющего леса.
Алексей Власович взял и эту лошадь, поднялся к Зарецкому, который так и стоял, не в силах отвести взгляда от тропы, где скрылся Улагай.
— Ты раненый! — Телеусов бросил поводья, живо открыл сумку, вытащил сверток, приказал: — Снимай куртку! Рука работает? Больно?
Он ловко и аккуратно принялся колдовать над раной. Лишь убедившись, что задета только мякоть и не опасно, успокоился. И тогда спросил:
— Значит, это он в тебя первым стрелял? Как же ты дался? А я ведь думал, что ты… Дрожал и с места сойти не мог. Все билось в голове: что будет, когда обнаружится… Значит, ты его отпустил? С миром? Ну и чудной ты! Ведь он не простит.
— Дал честное слово офицера!
— А ты поверил? Кому?!
Телеусов покрутил головой, додумывая свои мысли, потом другим, каким-то искусственным голосом докончил:
— Конечно, вам виднее, ваше благородие.
Опережая ночь, они подъехали к Кожевникову, который ладил костер и молча слушал стенания связанного Чебурнова. Егеря подняли пленников, связали одной веревкой и повели на кордон, как водили в древности своих врагов славяне. Там еще раз обыскали, отдали коней с пустыми сумами и напутствовали:
— Вон тропа, топайте по ней, и чтоб духу вашего…
— А винтовки? — спросил Чебурнов.
— У псебайского урядника будешь просить.
Три всадника и две вьючные лошади пробирались едва заметными тропами к верховьям Киши.
Шли гуськом, молча. Каждый думал про себя свою думу.
Андрей Михайлович зябко поеживался, передергивал туго забинтованным плечом, от которого шел едкий запах дегтя. Телеусов почитал особо приготовленный березовый деготь наилучшим лекарством для ран. Не раз испытано.
Он ехал вторым, ведя за собой вьючных коней. И всякий раз, заметив непроизвольное движение плеча у ведущего, участливо спрашивал:
— Все болит?
Зарецкий коротко бросал через плечо: «Пустяки!», или: «Так, немного» — и снова умолкал, вспоминая минувший драматический день.
Странно, но он все-таки меньше думал об унижении есаула, которого страх смерти вынудил отказаться от кровной обиды. Все это казалось здесь, в спокойном лесу, каким-то далеким, зыбким и вроде бы несущественным. Лишь рана напоминала о смертельной опасности, которой он подвергал себя.
Более всего он размышлял об охоте, безалаберной, скоротечной, кровавой, как бандитский налет, о поведении высокопоставленных лиц. Слишком очевидным был у них страх перед будущим. «После нас хоть потоп…» Эта неуправляемая охота могла стоить жизни многим зубрам, оленям, другим животным. Она могла стать побоищем. Но егеря, по долгу службы обязанные помогать отыскивать и бить зверя, выступили с удивительным единодушием в защиту зверя. Ни один зубр не пал. Все они, как и Шапошников и Зарецкий, понимали безнравственность этой последней охоты, когда один хозяин фактически отказался от своих прав на Кавказ, а другой не торопился взять ее в свои руки. Однако хозяева нашлись. Они и есть хозяева — егеря. И что бы ни произошло в будущем, именно они в ответе за свой заповедник. В особенности за зубра.
Зарецкий думал и о том, как удержать егерей, если им перестанут платить за работу, а это могло произойти очень скоро. Напрашивался только один выход: уговорить их переселиться на глубинные кордоны. С семьями, скотиной, со всем подворьем. Сделать их постоянными жителями на Кише, Умпыре, Закане, Гузерипле, в Бабук-ауле. Места для жизни там отличные.
И еще он подумал: последняя это охота в местах охраняемых или можно ждать новых налетов петербургских и кубанских стрелков, для которых «ничейный» Кавказ — рай обетованный?..
Снова зачесалось и заломило плечо. Что скажет он, когда приедет домой? Можно, конечно, промолчать, но окровавленная рубашка, порванный пулей сюртук, сама рана? Впрочем, на Умпыре он попробует привести одежду в порядок, а рана… Сказать, что упал, напоролся на сук? Данута проницательна, ее не обманешь.
Алексей Власович тем временем пребывал в самом добром настроении. Все плохое позади, звери не пострадали. И с Улагаем порядок, есаулу остается только одно: уехать из этих мест подальше. Слух-то пройдет… И еще радовался он возможности показать завтра Андрею недавно выслеженное им стадо зубриц, где на восемь коров четыре зубренка. И зубров на Серегевом гае покажет. И новый дом, в котором уже живут два его помощника с женами. Сам он тоже подумывает: а не перебраться ли туда со всем семейством? Сколько дней Михайлович пробудет у него? Вместе бы проехать к барсу, пусть поглядит, как сдружились человек и хищный зверь.
Кожевников замыкал караван. Он смотрел на передних лошадей с полными сумами, где были увязаны винтовки, патронташи, кинжалы, сушеное мясо, соль — словом, все отобранное у наемников Улагая. Чего Андрей пожалел этого вражину? Слово!.. Да он про то слово в ту же минуту и забудет! Как в поддавки играют.
Небо стало меркнуть, ущелья затуманились, птицы умолкли.
— При-ва-ал! — протяжно крикнул Василий Васильевич, углядев впереди подходящую полянку с ручьем.
Спешились, размялись, вздохнули. И лошади глубоко вздохнули, свалив с себя груз.
— Давайте тихо, — предупредил Кожевников. — Туточки где-то зубры, которых мы угнали. Может, усмотрим, они через часок на пастбище выйдут. Рука твоя позволит, Михайлович?
— Что рука! Свербит немного да чешется.
— Подживает, значит.
Проводив коней на траву, егеря пошли наверх, откуда падал огромный луговой склон в окаемке лесов.
Тихий мир лежал перед ними. Все более длинная тень ложилась от низовых лесов на поляну; она освещалась розовым светом лишь в своей верхней части, тогда как в нижней синела таинственно и прохладно.
Но глаз улавливал в этом красивом, тихом мире и какую-то грустную пустоту, незавершенность композиции, словно на полотне художника, где еще не наложены обязательные мазки. Открытый взору мир выглядел слишком пустым, растительно-тихим, как незаселенный рай.
Солнце садилось. Тень от леса накрыла большую половину луга.
И тогда в синеве затененной поляны возникли фигуры зверей. Сперва их было немного — три стайки оленух с молодняком. Но вот от леса отделились и стали рассыпаться по лугу бурые громады зубров. Через четверть часа вся теневая часть была усыпана зверями.
Зубры мелкими стадами, по четыре — шесть голов, заняли центр и правую сторону луга. Они медленно продвигались к двузубому, полуразрушенному утесу почти посреди луга, где оловянно блестела мочажина с водой. Солонец. Опущенные в траву морды зверей непрерывно кивали, словно раскланивались друг с другом. По левой стороне рассыпались олени и шустрые серны, малыши их уже выскочили на солнечный свет, пятнистые спины оживили луг. Со скал, прыгая через расщелины, сбегали к траве бесстрашные туры.
Перед взорами егерей предстал первобытный мир, каким он был, наверное, до человека. И каким мог оставаться всюду, где человек брал природу под свою защиту.
У Зарецкого шевелились губы, он считал зубров. Телеусов опустил бинокль, улыбался в усы. Василий Васильевич тоже считал зверей.
— Сорок семь, — сказал Зарецкий. — Все твои, Васильевич?
— Из тех, что мы согнали с охоты. По виду скажу, что стада успокоились. Теперь помаленьку вернутся в привычные места. Тут хорошо, а всё не дома. Любят свой дом.
Солнце скрылось, и темнота быстро охватила горы, леса, луг. Смотрины кончились.
— Даже представить себе жутко, встреться охотникам вот это сообщество, — задумчиво произнес Зарецкий. — То-то была бы бойня!
— Само собой, — отозвался Кожевников. — Они затем и ехали.
— В истории человечества всякое бывало. И на Кавказе тоже.
Егеря осторожно пошли к своему лагерю.
— В этих местах? — спросил Телеусов.
— Нет, на юге. Там один вельможа по имени Агабахан лет пятьсот назад в честь победы на войне повелел устроить громадный загон, куда тысячи людей согнали великое множество зверя. Сановники и хан сидели на вышках в этом загоне и убивали по выбору. Сотнями. Тысячами, ради удовольствия. Беззащитных, обезумевших животных. Но тогда еще не было ружей… А вот полтораста лет назад, уже в Америке, куда переселялись люди из Европы, на Великих равнинах паслось, как считают, до семидесяти миллионов бизонов. Их стреляли просто так, из-за куска кожи или чтобы вырезать лакомство — язык зверя. Какой-то охотник по фамилии Коди за полтора года убил более четырех тысяч бизонов! Лет сорок назад их оставалось уже не более сотни тысяч. По последним данным, удалось сохранить одну тысячу. Этих и взяли под охрану.
— Ну, а тот, Коди или как его там? Судили? — спросил Телеусов.
— В герои нарекли. Книги о нем писали.
— С ума мы, что ли, сходим, братцы?
— Ты в эти дни своими глазами видел сумасшедших. Боюсь, не последних.
На другой день егеря увидели русло обмелевшего Лабенка, и Зарецкий с радостным удивлением оглядел уже обжитой дом кордона, пожал руки семейным наблюдателям — первым новоселам.
— А у нас и банька готова, не угодно ли с дороги? — предложили умпырские робинзоны.
— Тебе самое кстати, Михайлович, — сказал Телеусов. — Для раны пользительное дело, ежели еще с березовым веником. Давай?
Каким свежим и помолодевшим ощутил свое тело Зарецкий после деревенской бани с веником и парком! Лучше стала заживающая рана. Спал мертвым сном.
Провели здесь три дня. Ездили смотреть зубров. Слушали рассказ наблюдателей, которые спугнули браконьеров, пытавшихся с юга проникнуть в охраняемые леса. Показали отнятые ружья.
— И отпустили с миром? — строго спросил Кожевников.
— Да как сказать… — замялись хлопцы. — Теперь-то небось уже поправились…
На кордонах война за зверя не прекращалась.
Зарецкого не пришлось уговаривать ехать на мостик барса. Тем более по пути к дому.
Телеусов добавил на вьюки кое-какой инструмент, проволоку, гвозди, чтобы поправить мост, захватил мяса. Лошадей перековали. Попрощавшись с Кожевниковым и новоселами, два всадника отбыли вниз по Лабенку.
Ночевали уже у моста, успели осмотреть его. Да, ремонт требовался. Опасным стал мостик.
Хозяин этого места заявил о себе без промедления. Его рычание с мяукающей концовкой напугало лошадей и обрадовало Телеусова.
— Здорово, здорово! — крикнул он и заторопился.
Взял кусок мяса, отошел от костра и кинул подарок в кусты жимолости. Вернувшись, взял лошадей.
— Отведу их на поляну, где прошлый раз паслись. От греха подальше. Друг-то наш к костру прибудет.
Барс, конечно, нашел мясо, но у костра гостить не торопился. Наверное, присматривался, нет ли какого подвоха.
С утра начали работать на мосту. Спилили два граба, накололи новые плахи, связали цепями и проволокой ненадежные места. Хлопот хватило на весь день и еще осталось.
Барс заявился только под вечер. Встал на камне, на виду, похоже специально, чтобы на него поглядели — вот я каков! Зеленоглазый красавец в пятнистой шкуре. Егеря делали вид, что зверь их не интересует, и это совсем успокоило хищника. Он подошел ближе, прошелся саженях в тридцати. Ему бросили еще кусок. Взял, лег, как кошка, и, жмурясь от удовольствия, съел. Потом постоял в ожидании и переступил еще шагов на десять ближе. Вот он я…
Алексей Власович присел и на корточках, с мясом в руке, стал двигаться к зверю: ниже ростом — меньше страху. Барс чуть попятился. Они сошлись сажени на три. Человек, протягивая мясо, заговорил со зверем. Уж каких добрых слов не сказывал, какими ласками не награждал хищника! Смысла сказанного барс, разумеется, не понимал, но интонация доброты доходила до него. Зарецкий смотрел — и глазам не верил: барс прилег и положил голову на передние лапы — словно говорил: ты мне друг и я не боюсь тебя. Телеусов кинул ему кусок — недобросил. И тогда барс подгреб мясо лапой и, чуть отодвинувшись, принялся грызть, не обращая внимания на человека — не страшный, знакомый, чего бояться?
Телеусов опять заговорил, а барс лежал, не спуская с него глаз.
— Подходи, Андрей, — сказал егерь через плечо. — Мясо возьми. На корточках.
Барс нехотя отошел. Недалеко. Андрей Михайлович тем временем подкатился и сел обок с Телеусовым. И опять к барсу полетело мясо. Хищник поморгал, потянул носом, привыкая к полузабытому запаху Зарецкого, и стал подходить.
— Ты не бойся, это свой, приглядись-ка да поздоровкайся.
Зарецкий мог, наверное, подойти еще поближе, барс был спокоен, но не решился. Мясо было съедено, люди и зверь посидели в отдалении, и егеря тем же манером, на корточках, пошмыгали к костру, а барс остался. Он по-кошачьи облизывал лапу и тер нос, усы, лоб.
Пока люди делали мост, он крутился возле, подходил к мосту, дожидаясь, когда разрешат пройти на ту сторону.
— Давай разойдемся, — сказал Телеусов. — Ты здесь, а я стану на той стороне. Как он войдет, ты замкни его, стань у входа. Посмотрим, что выкинет.
Видно, барсу хотелось на ту сторону. Он смело ступил на новый настил, но тут заколебался. Переступал осторожно, принюхиваясь к каждой плахе. И вдруг заметил, что человек сзади раскинул руки, ухватившись сразу за оба перильца. Западня?.. Дико оглянувшись, зверь прижался брюхом, как перед прыжком, с надеждой глянул вперед. Мостик покачивался над потоком. Телеусов стоял в самом конце, прижавшись спиной к дереву, за которое был зачален канат. Проход был, но узкий. Полуползком, напружиненный, как сталь, барс подкрался и вдруг рассчитанным прыжком, почти на уровне лица егеря, так, что тот почувствовал щеками мягкую шерсть, перелетел в кусты.
— Пронесло! — Алексей Власович вздохнул и провел по лицу ладонью. — Иди, он нам свои пещеры покажет. Да захвати кусочек.
Барс скрылся, потом появился выше. Они пошли за ним. Левей моста за зверем чернел вход в пещеру. Егеря поднялись — и туда. Барс попятился в кусты можжевельника.
— Э-э, сколь душ ты погубил! — Телеусов ткнул ногой кости, набросанные у пещеры. — Глянь, волчьи черепа. А это серна и еще волк або собака. Вот где он живет.
Согнувшись, вошли в пещеру. Она оказалась обширной и сухой, заворачивала вглубь, но там светился второй вход, заслоненный сосенками.
— Удобное место. — Зарецкий огляделся. — Тут и человеку жить можно. Мост виден, отход обеспечен. Стратег наш трехлапый.
Почему-то барсу захотелось повторить маневр людей. Они вышли в распадок, спустились вниз. И он тоже, словно проверяя, прошел следом. Но смотрел спокойно. «Мой дом — ваш дом…»
— Будь здоров! — крикнул Телеусов.
И они вернулись к лагерю. Барс лег мордой на мостик и надолго застыл в этой позиции. Размышлял, что ли…
— Ну?! — Телеусов глядел на Андрея.
— Никто не поверит!
— Пущай не верят. А у нас с тобой друг. С клыками и когтями. Нас не тронет, от чужих оградит. Ай не так?
— Ему еще показать надо, кто чужие.
— Все остальные, окромя нас с тобой.
Уезжая в сторону Черноречья, они еще какое-то время видели своего барса. Он шел за ними. Нервная дрожь то и дело пробегала по лошадиным спинам.
Вот еще выдержка из второго письма Филатова:
"Уведомляю вас, Андрей Михайлович, о недавней кончине Карла Гагенбека, последовавшей 14 апреля 1913 года, на семидесятом году жизни. Очевидцы рассказали мне, что гроб с телом выдающегося натуралиста на руках пронесли по аллеям зоопарка, чтобы звери в последний раз могли увидеть своего Цезаря. Такова была воля покойного.
Для Вас небезынтересно знать и следующее: на похороны старого Гагенбека приехал граф Арним. Передают, что на другой же день он потребовал от наследников — Лоренца и Генриха — выполнить давнее обязательство, которое в письменной форме оставил ему покойный: передать в Бойценбург кавказского зубра.
В самой любезной форме сыновья Гагенбека представили оправдание, почему они задержали отправку зубра: в 1912-м и 1913 годах от него не было потомства. Лоренц и Генрих убедили графа оставить Кавказа в Штеллингене еще на год-другой, после чего обязались лично доставить зубра в Бойценбург.
Арним скрепя сердце согласился на новые условия, которые и были узаконены документом.
Так что Ваш питомец до сих пор проживает в городе Гамбурге…"
Как же удивился Андрей Михайлович, когда на подходе к родной станице вдруг увидел Дануту и своего малыша!
Они бежали к нему. Мишанька повизгивал и отставал, мама тянула его за руку и сама что-то возбужденно кричала.
Андрей соскочил с седла, подбросил на руках сына, прижал к себе жену, расцеловал обоих, и пошел-пошел круговорот вопросов, восклицаний, ответов, визга, смеха.
Алан стоял сбоку, переступал с ноги на ногу и косил синеватым глазом на людей, к которым искренне был привязан. И когда хозяин усадил в седло Мишаньку, враз вцепившегося за луку и за гриву, когда Данута прижала красивую голову коня и поцеловала его в нос, он не шелохнулся, дабы не повредить малышу, коротенькие ножки которого смешно торчали по обе стороны широкого седла.
Так они и пошли — Мишанька верхом, поддерживаемый сильной рукой отца, и Данута об руку с мужем.
— Мы третий день ходим встречать тебя, — сказала она. — И вот, как видишь… Ты ехал один?
— С Телеусовым. Он остался на лесопилке, брата проведать. И еще нас провожал барс.
— Барс?
— О, это целая история, я расскажу тебе потом. Прямо по Киплингу. Шерхан, только добрый. Как поживают наши?
— Когда тебя нет, папа места себе не находит. А мама все шепчет и молится.
Андрей вспомнил выстрел у сосны. Не любовь ли матери спасла его в тот миг?..
Как описать общую радость, когда вся семья оказалась в уютном отчем доме! Не так уж часто удавалось собираться вместе. И на этот раз Андрей с болью в сердце заметил, что делает с людьми неумолимое время. Совсем седая, сухонькая мама. Еще более сгорбившаяся, пухлолицая, готовая ежеминутно расплакаться Эмилия. Пожелтевшее лицо отца с сурово сведенными седыми бровями. Старость, старость. А вместе с ней и страшная беспомощность, когда без поддержки детей и внуков уже нельзя, невозможно прожить. Вот когда нужно вместе.
Ранним утром другого дня явился Щербаков, снял фуражку, пожал всем руки и скороговоркой сказал:
— С плохими вестями, Михайлович. Не обессудь.
— Рассказывай. — Зарецкий подвинул старшему егерю стул.
— Нет, прежде о новости хорошей: казенный лесничий съехал из наших мест. Говорят, перевелся в свои края, в Суворово-Черкесский аул. Хоть молебен заказывай.
Андрей Михайлович сохранил присутствие духа. Даже не улыбнулся.
— Ну, а плохие вести?
Та самая безалаберная дикая охота, которую они постарались вытеснить, грозным эхом отозвалась в станицах и охраняемых лесах. Щербаков выложил на стол перед Зарецким два рапорта с кордона на Большой Лабе. Там, неподалеку от больших станиц Бесстрашной и Упорной до Преградной и Урупа, паслись стада зубров, которые давно привлекали к себе жаждущих охоты станичников. Стоило только казакам узнать об охоте — и невиданный размах лесного разбоя захлестнул охраняемую территорию. Сразу семь или восемь групп «охотников», до сотни человек, устремились в горы. И пошла потеха!
— Сообщили, что убито семь зубров, — говорил Щербаков, — десятка два оленей и серн. А уж кабанов, медведей!.. На куниц силков понаставили тысячи, мясо зубров идет для приманки в капканы. Дело чуть до смертоубийства не дошло. Власенку ранили, двух других избили до полусмерти. И все мерзавцы, кого повязали, орут в один голос: «Значит, нам нельзя бить зубра, а гостей из Питера не вяжете! Кому можно, а кому нельзя? Князь — не хозяин, леса наши и зверь наш, валяйте от греха подальше!»
Андрей слушал, потрясенный. Семь зубров! А возможно, и больше, кто там считал! А что на Гузерипле? Что на Кише? Ехал, радовался: удалось наконец главное дело жизни — стадо растет, зверь сохраняется. Чертова охота все перевернула. Слух о ней прошел — и прости-прощай спокойствие! Станичники взялись за винтовки, силками и капканами лес опутали. Как им объяснишь, что дикий зверь не для князя, что это народное достояние, что зубра нужно сохранить потомству?
— Пиши, Михайлович, рапорт в Екатеринодар, пусть через станичных атаманов воздействуют. А то завтра и псебайцы войной на Умпырь пойдут, и даховцы в Кишу проберутся. Истребят зверя.
— Кому писать-то?
— Самому наказному атаману пиши.
Андрей Михайлович задумался. Разве что…
На другой же день он отправил прошение на имя недавно назначенного атамана Войска Кубанского генерала Кияшко. Тем временем Щербаков, собрав восемь егерей, уехал на Большую Лабу. Хоть как-то преградить пути к дикому зверю.
Ответа от наказного атамана не последовало.
Урон зверю мог быть ужасающим, но тут пришла спасительная зима, отрезала пути-дороги в глубинку, засыпала снегом тропы. Передышка.
Неожиданно в Псебае появилась Катя. Едва переступив порог, спросила Дануту:
— Можно, я побуду у вас два дня?
— Что ты спрашиваешь? — удивилась Данута. — Где Саша?
— Он покинул кордон.
— Арестован?!
— Нет. Его срочно отозвал Центр. Сейчас в Новороссийске. Где будет завтра, не знаю.
— А ты?
— Послезавтра еду в Ростов. Что-то происходит, как перед большими событиями. Я со слезами оставила Гузерипль. Так привыкла…
Андрей только за голову схватился, когда пришел домой и Катя повторила для него свой короткий рассказ. Пустой кордон! И неизвестность Сашиной судьбы…
В один из первых зимних дней, когда Андрей Зарецкий — похудевший, неузнаваемо суровый, с резкой складкой меж бровей — находился дома и задумчиво ласкал сына, ворвалась Данута. Раскрасневшееся лицо ее так и сияло от радости.
— Вот, читай! — Она протянула ему свежий номер журнала «Нива». — Я по дороге листала и сразу нашла…
Небольшая заметка гласила:
"Недавно в швейцарском городе Берне состоялся Первый международный конгресс по охране природы, созванный после длительной организаторской работы, которую взяли на себя братья Соразем, известные в Европе натуралисты.
Среди материалов этого весьма своевременного учреждения мы, к радости своей, находим оценку деятельности россиян, сумевших, как сказано, сохранить в своих резерватах единственных по уникальности зубров, число которых в Беловежской пуще, на Западном Кавказе, в Гатчине и Аскании-Нова по разным источникам считают от 1200 до 2000 голов. Россия обеспечила хорошую охрану этих доисторических быков, показав остальной Европе пример полезной всему человечеству деятельности".
Андрей Михайлович поцеловал жену. Спасибо. Конечно, приятное извещение. Первое признание егерской службы. Может быть, после этого что-нибудь изменится к лучшему? Все-таки авторитетный конгресс.
Шли недели. Ничто не менялось.
С первых дней марта Зарецкий и все егеря безликой Кубанской охоты, не зная усталости, объезжали кордоны, проверяли дороги и тропы. Гремели выстрелы, приходили подметные письма с угрозами. Словом, шла не тайная, а уже явная война, где убежденность и храбрость одних людей встречались с силой и подлостью других, чьим девизом была легкая нажива.
Лето 1914 года осталось в памяти егерей как самое тяжкое испытание их возможностей.
Пока дикий зубр охранялся, он спокойно жил, свободно передвигался, в стадах появлялся молодняк. А сами стада оставались вне опасности под защитой егерей. Уйди они — и зубры становились беззащитными. Их считали на сотни. Охотников на них — тысячами. Зыбкое существование на ограниченной территории в окружении сильных врагов. Уцелеют ли?..
Андрей Михайлович вынашивал дерзкий по замыслу план. Он хотел обратиться через газеты к научной общественности России и рассказать о тяжелом положении зубров на Кавказе. Для этого хотел ехать в Петербург, поговорить с зоологами, побывать в Академии наук. Он уже сделал набросок статьи. Данута готовила ему вещи в дорогу.
И вдруг все изменилось. Планы, задумки, сама жизнь — все перевернулось.
20 июля[6] 1914 года Германия объявила войну России.
Уже на другой день известие это достигло самых дальних уголков области Войска Кубанского.
За какой-нибудь час Псебай стал похожим на потревоженный улей. Казаки вышли на улицы, толпами повалили к станичному правлению. Все больше людей в черкесках и при оружии вливалось в толпу. Звонили колокола. В обеих церквах служили молебен. Из открытых окон слышался неутешный женский плач. Ржали кони. Скакали вестовые.
Утром 22 июля казаки потянулись на учебный плац. С конями, с зачехленными винтовками, с полными сумами. Съезжались из лесных хуторов и ближних поселков. Их провожали целыми семьями.
Андрей Зарецкий, с лицом побледневшим и строгим, застегивал походные сумы. Отец помогал ему. Руки старого воина дрожали. В широко раскрытых глазах притихшего Мишаньки застыл непроходящий страх.
— Что же теперь? — шептала Данута.
Андрей молчал. Мысли мешались, путались. Сынок. Данута, Кухаревич, зубры, лесные тропы, старые родители. Телеусов, снова зубры — дело его жизни. Как же они без него? Что будет с ними? Почти все егеря уходили на войну. Впрочем, уходили и охотники, еще недавно бродившие по следам зубров. Может быть, это благо, когда меньше винтовок в станицах? О господи, благо! Война — благо?.. А надеяться надо. Без надежды нельзя.
Прощание было тяжелым. В последнюю минуту мама и Данута подсадили в седло к Андрею Мишаньку. Глаза его блестели от слез. Понимал…
Раздалась команда. Сотня пошла в Лабинск.
В первом ряду негромкий, дрожащий голос вдруг запел:
Сотня голосов сразу подхватила, словно только и ждала запева, чтобы утопить в песне и щемящую жалость, и боль, и тяжелую, чугунную неизвестность:
Андрей оглянулся. Данута стояла, прижав ладони к лицу.
Вторая сотня, взявшая рысью с места, догоняла их.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |