"Сколько стоит долг" - читать интересную книгу автора (Погодин Радий Петрович)
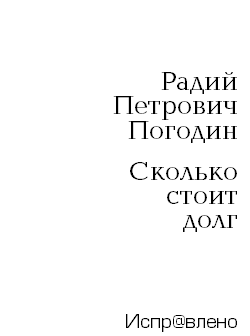 |
Радий Петрович Погодин Сколько стоит долг
Земля здесь глухая. Скалы. Искалеченные морозом деревья жмутся друг к другу. Они не скрипят на ветру, не жалуются. Они молчаливы, упрямы и тверды. Полярное море расстилает в сопках мокрые паруса-туманы.
Льды. Ночь. Синий снег.
Люди с тоскливой душой не выдерживают здесь больше года. Сердце у них осклизнет от дождей, сморщится от мороза, от страха. Позабыв честь, позабыв товарищей, бегут они назад, к городам, где стены оклеены обоями в сто слоёв. Но речь пойдёт не о них. Речь пойдёт о весёлых парнях и девчатах. О хорошей погоде и мальчишке Павлухе.
Был конец мая. Ночь улетела к другому полюсу.
Шла домой дневная смена. Вечерняя спешила к рабочим местам. В столовой посёлка толпились любители гуляшей и бифштексов. Здешние жители никогда не жаловались на аппетит, и если услышишь от человека: «Я что-то есть не хочу», — значит, у него просто нет денег.
В красных уголках общежитий уже хрипели капризные радиолы. В белые ванны семейных квартир ударили кипячёные струи воды. Кто почитал сон за высшее благо, уже поглядывал на свою постель, готовясь, как здесь говорят, придавить подушку.
В этот час в посёлке появился мальчишка.
Его мохнатая шапка словно выскочила из собачьей драки и ещё не успела зализать ран. Ватник с жёлтым нерпичьим воротником в крапинку был застёгнут на четыре щербатые пуговицы от дамского пальто. Громадные рыбацкие сапоги-бахилы доходили мальчишке до самых пахов. Он будто оседлал их и ехал по грязи не спеша, доверив бахилам свою судьбу. Сырой клейкий ветер отполировал мальчишкины щёки до красного блеска.
В посёлке собственных мальчишек не было, если не считать, конечно, самых маленьких малышей, которые народились недавно у здешних молодожёнов. Эти ребятишки ещё и сами не знали, кто они — мальчики или девочки. То было известно лишь их родителям да нянечкам в яслях.
Первым увидел странного парнишку экскаваторщик Ромка Панкевич. Правда, Ромкой его уже мало кто называл. Неприлично звать женатого человека Ромкой, хоть ты и учился с ним вместе в ремесленном, вместе копил деньги на первый шерстяной костюм, спал в палатке на одной кровати, укрываясь двумя одеялами и двумя ватниками. Скоро Роман закончит Всесоюзный индустриальный институт и все станут называть его Роман Адамович.
Роман посмотрел на парнишку просто из любопытства.
По усталому лицу, по ногам, которые едва двигались, он угадал, что пришёл мальчишка издалека. По глазам, которые светились упрямо, по суровой морщинке между бровей Роман понял, что мальчишка готов идти ещё столько же, если понадобится.
Далёкие воспоминания кольнули Романа. Ему показалось вдруг, что это он сам, мокрый и голодный, бредёт по грязи в неизвестную свою жизнь. Роман потряс головой. Сказал:
— Кыш, рассыпься.
Мальчишка остановился.
— Ты что, выпимши? — загудела косматая шапка простуженным голосом. Как тут к начальству пройти?
— К начальству ходят ногами, и — заметь — очень редко по собственному желанию. — Роман, вероятно, думал совсем о другом, потому что сошёл с крыльца в грязь, не пожалев начищенных ботинок. Он долго рассматривал незнакомца, потирая синюю бритую щёку.
Тяжёлые бахилы передвинулись на два шага вперёд.
— Не можешь сказать, тогда не заслоняй дорогу, — сердито проворчал их хозяин.
Голос у мальчишки был глухой; за упрямым блеском глаз притаились испуг и тревога. Роману было очень знакомо всё это. Роман не сошёл с дороги. Он сказал:
— Ты не гуди, я ведь тебя и в милицию отправить могу.
Роман ждал, как ответит мальчишка на его слова. Но бахилы продолжали двигаться, а мальчишкины глаза ничуть не изменили своего выражения. Тогда Роман ухватил мальчишку за нерпичий воротник, вытащил его из грязи вместе с бахилами и поставил на приступочку возле дома.
— Потолкуем… Какое у тебя к начальству дело?
— Не хватай! — брыкался мальчишка. — Ворот оторвёшь… П-пусти, говорю!
Роман втолкнул мальчишку в сени, прижал его к батарее парового отопления.
— Пооттай немножко, потом дальше пойдём. Может, и доберёмся с тобой до начальства.
Сложением Роман был под стать своей машине — шестикубовому экскаватору. Под фланелевой курткой булыжниками громоздились мускулы.
— Ты не имеешь полного права меня задерживать, — сказал мальчишка.
— А ты не имеешь полного права разгуливать в погранзоне. Покажи документы!
Мальчишка выставил вперёд один бахил, постукал носком по полу.
— Ха, — сказал он. — Умный нашёлся. Перво ты мне свой документы представь.
Мальчишка отчаянно окал и заикался.
Роман шлёпнул его по косматой шапке. Чтобы рассеять взаимные подозрения, он взял мальчишку одной рукой за ватник, чуть пониже воротника, другой рукой за штаны, чуть пониже ватника, и понёс на второй этаж.
Мальчишка бил экскаваторщика кулаками по ногам, задевал бахилами железные стойки перил. Перила гудели. Мальчишка вопил:
— Пусти, тебе сказано!
Роман встряхивал его:
— Будет, ну будет уже. Ровно маленький.
На площадке второго этажа Роман ногой постучал в дверь и, когда она отворилась, втащил мальчишку в квартиру.
— Аня, смотри, чего я принёс, — сказал он маленькой перепуганной женщине. — Как тебя зовут-то хоть, скажи.
— Ну, Павлуха. Чего пристали?
Аня поморщилась.
— Ты его в комнату не тащи, пожалуйста. Грязь с него ручьями льёт. Она подошла к Павлухе, бесцеремонно взяла его за подбородок и повернула к свету.
Павлуха нацелился было боднуть её головой в живот и тут же отлетел в угол, загремев пудовыми сапожищами.
— Ты Аню не тронь, — сказал Роман. — Мы сына ждём.
— Ну и идите ищите своего сопливого сына. А меня отпустите. Я не к вам шёл, понятно?
Роман подождал, пока Павлуха поднимется с пола, потом подтолкнул его к ванной.
— Сына нам искать незачем. Он просто не родился ещё. Поэтому ты с Аней воевать и не думай. Снимай свою робу, я её потом в сушилку отнесу.
Роман сам стащил шапку с Павлухиной головы и вдруг задал вопрос, который в наше время уже не часто услышишь:
— Волосы у тебя не шевелятся?
— С чего бы им шевелиться-то?
— Как — от чего? От бекасов. Насекомые такие маленькие, ножками шевелят… — Наверное, опять вспомнились Роману какие-то дальние, прошлые годы.
Павлуха покраснел, подтянул верхнюю губу к носу.
— Ты глупостей-то не говори. Я перед дорогой в баню ходил.
— А то смотри, можешь в ванне помыться.
Аня опять поморщилась, вопросительно глянула на мужа.
Роман снял лыжную куртку, засучил рукава ковбойки в красную клетку.
Павлуха покосился на его руки, вздохнул:
— Силу-то накопил…
— Накопил, — согласился Роман. — Аня, сходи, пожалуйста, позови Зину. Я его тут постерегу.
— Ты зачем его к нам привёл? — недовольно сказала Аня. — Грубит ещё. В милицию его нужно. Может, он жулик.
— Позови Зину, — негромко повторил Роман.
Аня накинула на плечи пуховый платок и вышла, недружелюбно глянув на Павлуху.
— Зря уходишь, — сказал ей вслед Павлуха. — Гляди, уворую у тебя тут всё…
— Ты не бухти. Ты ватник снимай, — скомандовал Роман. — Давай, давай, Павлуха, пошевеливайся… Наследили мы тут с тобой. — Роман принёс тряпку, подтёр пол и втолкнул мальчишку на кухню, к столу, покрытому голубой клеёнкой.
— А что ты мной командуешь?! — обозлился Павлуха. — Что я тебе, сродственник, что ли?
— Сродственник, — спокойно подтвердил Роман. — Садись вот на табуретку. Выкладывай — откуда удрал?
— Да не… Куда сейчас удерёшь — милиция-то зачем. Фигу сейчас удерёшь… Я тутошний. Трещаковский район знаешь? Оттудова я, из колхоза.
Павлуха уселся на табуретку, нахально выставил перед собой ноги в бахилах. Без ватника и шапки он казался похудее, повыше и помоложе — лет тринадцати. Только озабоченный взгляд да складочки возле рта накидывали ему ещё пару лет.
Роман спросил:
— Мать есть?
— Понятно, есть. Я не из сиротства сюда пришёл.
— Отец?
Павлуха забурлил носом. Заикался он сильно. Когда непослушные буквы налипали на его язык свинцовыми грузилами, он мотал головой, словно хотел вытряхнуть их изо рта.
— Про б-батьку спрашиваешь?.. Сейчас б-батьки нету…
Павлуха замолчал. Он смотрел на стены, на занавески, на новые чистенькие кастрюли. Глаза его заволакивались дрёмой. Павлуха вздрагивал, поворачивал голову к окну и напряжённо сплющивал губы. Роман поставил чайник на керогаз, достал из буфета две кружки, хлеб, колбасу и сахар.
— Садись подзаправься. Сейчас Зина придёт. Она комсомольский секретарь. Ты ведь только с начальством желаешь разговаривать?
Павлуха покосился на еду. Шея у него дрогнула, губы сплющились ещё сильнее.
— Ешь, — сказал Роман. — Небось в желудке у тебя, как в стратосфере.
Павлуха опять покосился на еду. Спросил шёпотом:
— А ты кто?
— Экскаваторщик.
— Это не твой экскаватор в карьере стоит?
— Мой.
— Я так и подумал. Громадная штука. Танк она, пожалуй, переборет, а? Если не стрелявши… — Павлуха задержал свой взгляд на колбасе, подтянул ноги поближе к табурету. — В Трещакове теперь тоже колбасу продают. А раньше не привозили. Только рыбные консервы. А зачем нам рыбные консервы, если мы рыбацкий колхоз? У нас и свежей рыбы хватает…
Роман отрезал ломоть хлеба, накрыл его толстым пластом холодного масла, придавил сверху сочными колбасными кругляшами.
— Рубай.
Павлуха взял бутерброд деликатно, втянул носом острый чесноковый дух. Жилы на шее у него натянулись в том самом месте, где у взрослого мужчины утюгом выпирает кадык.
— Слушай, — сказал он, — давай я тебе лучше всё расскажу, а ты уж этой, секретарше. Не люблю я, когда мне мораль объясняют. Я, слушай, злой.
— Ты ешь… — Роман налил в кружку чай крепкой заварки, опустил в него четыре куска сахару и пододвинул мальчишке.
Павлуха жевал и рассказывал:
— Живём мы в Трещаковском районе. Отсюдова километров сто, а может, и поболе. Я-то полдороги на машине ехал. Если б ногами, я бы тебе точно сказал. Колхоз рыбой занимается: промышляет селёдку, треску, кету, зубатку, палтуса. Едал палтуса? Ровно колбаса, правда? Матерь моя в колхозе состоит. Сети починяет, поплавки ладит. Раньше, когда у нас рыбозавода не было, она засольщицей работала. Сейчас — по мелочи. На промысел в колхозе, известно, мужики ходят — дело мужчинское. На сейнерах[1], на карбасах[2]. А женщины, те, известно, в дому. Иногда кое-что помогают, когда рыба большая идёт. А у нашей матери нас трое. Нас одеть нужно… — Павлуха проглотил кусок колбасы и прибавил со вздохом: — А мы, младшему седьмой пошёл, мы, понимаешь, поесть очень способные. Известно, как сядем за стол, крошки после нас не найдёшь. У нас в дому даже мухи не водятся. Говорят, у нас аппетит от климата. Воздух тут редкий. Не замечал?
Павлуха взял другой бутерброд. Говорить он стал медленнее, часто останавливался, наверно, подошёл к самому главному.
— Сейчас у матери от ревматизма руки больные. Перевёл её председатель на техническую должность — правление убирать, пакеты разносить. Матерь-то ночью плакала. В старухи, говорит, меня зачислили… Я тогда пошёл к председателю, потребовал: «Ставь меня в бригаду на промысел. Я член колхоза или не член колхоза?!» Он говорит: «Павлуха, нету такого закона, чтобы тебя на промысел посылать. Годов тебе мало. Это, говорит, не картошку копать. В судовую роль, мол, тебя не запишут».
Я осердился, закричал: «Зачисляй, козлиная борода, а то матерь моя совсем заболеет!..» Известно, турнул меня из конторы… Потом сам к нам домой пришёл. Он, председатель, ещё с материным отцом рыбачил. Раскричался: «Ты, говорит, ещё икра несолёная, салага косопузая. Матерь мы по путёвке в санаторию послать можем. А насчёт промысла у тебя, говорит, ещё сопли жидкие…»
Роман слушал Павлуху, хмурил лоб и подёргивал тяжёлым плечом, потом спохватился, сделал Павлухе ещё бутербродов.
— Рубай, рубай. Не торопись только.
Павлуха позабыл приличие, забрал бутерброд в кулак и впился в него зубами.
— Я тогда в Трещаково пошёл, к председателю райисполкома. Анной Трофимовной её зовут. Зубарёва она. Говорю ей: «Чуркин бюрократ проклятый, повлияйте на него в письменном виде. Напишите ему насчёт меня бумагу». А она походила по кабинету… Ейные сыновья в войну на Рыбачьем погибли, вроде должна мне посодействовать. А она села за стол и говорит: «Могу, говорит, я тебя, Павлуха, в Мурманск в школу-интернат определить, а насчёт работы — стоп, машина. Интернат, говорит, новая форма социал… л…..листического воспитания. Будешь ты, говорит, Павлуха, человеком. А мамке твоей по общественной линии поможем». Я её, знаешь, очень уважаю, Анну Трофимовну. Но я ей категорически сказал, что я и без ейного интерната человек… Мамка, известно, заплакала, когда про всё узнала. Говорит: «Зачем ты придумал меня позорить. Еда есть, одежонка есть — перебьёмся. А на работу через два года пойдёшь. Подумают, что я тебя силком гоню…»
Павлуха перестал жевать, отхлебнул остывшего чаю, наклонился к Роману и зашептал:
— А я тебе насчёт мамки скажу. Она ложку и ту кулаком держит. А чтобы иголку взять, малому чулки заштопать, — пальцы у неё не сжимаются. Верка, сестрёнка, все эти дела делает. Одиннадцать лет нашей Верке… Матерь-то про болезнь скрывает. Ей, слышишь, обидно… Гордая она.
Павлуха наклонился к Роману ещё ближе. Прошептал совсем тихо:
— Я тебе ещё про мамку скажу. Она молодая. Она через нас старилась. Понял?..
Скрипнула под Павлухой табуретка. Павлуха выпрямился, помолчал, значительно подёргивая головой. Потом посмотрел на свои негнущиеся сапоги и сказал с каким-то неожиданным удивлением в голосе:
— А сапоги мне председатель дал, Чуркин. Они ему без надобности. У него всё равно на правой ноге протез.
Роман тоже глянул на Павлухины сапоги.
— Батька твой где? — спросил он глухо. — Куда батька делся?
— Батька-то? А шут его знает. Он из вербованных. Чуркин говорит, нестоящий они народ — акулы, живоглоты. Чуркин говорит, что у некоторых вербовка вроде как специальность. Они за что хочешь возьмутся, лишь бы деньгу зашибить. Они за деньгой едут… В Трещакове рыбозавод строили, потом склады из пенобетона. Когда работа кончилась, предложили батьке в колхоз вступить. У нас мужики хорошо зарабатывают. Работа, известно, рыбацкая — опасная. Батька тогда сказал: «Съезжу на родину в город Колпинск». Это под Ленинградом такой город есть.
— Колпино, — поправил Павлуху Роман.
— Ага… Он туда и поехал. Потом мамке письмо прислал. Объяснял на шести страницах, будто соскучился по перемене мест. Дескать, тягу имеет к неизвестным просторам… Говорили люди, что он на Камчатку подался.
— Алименты мать получает?
— Получала б, конечно. Только его никак не могут отыскать.
Павлуха рассказывал всё обстоятельно, не стыдясь, не лукавя. Значит, не прятала мать своей беды от ребят, и не было, видно, в колхозе людей, которым чужая беда на потеху.
Когда в комнату вошла Аня, а следом за ней высокая девушка в короткой шубейке и несколько парней в ватниках, Павлуха опустил глаза в пол. Повозился на табуретке и смолк.
Роман встал, кивнул на Павлуху.
— Вот, Зина, к нам на работу привинтил. Парень — гвоздь, с остриём и шляпкой.
Роман подвинул стул девушке.
Парни рассматривали Павлухины сапоги. Зина расстегнула шубейку, села за стол и неприветливо посмотрела на Павлуху. Наверное, Аня наговорила ей что-нибудь по дороге.
— Выкладывай.
Павлуха мотнул головой.
— Н-не б-буду… Документы могу показать, а г-говорить не буду. — Он вытащил из кармана метрическое свидетельство и справку об окончании шестого класса неполной средней школы.
Роман подмигнул Зине: мол, не нужно тормошить парнишку, пусть сперва в себя придёт, пообвыкнется. Девушка повертела Павлушкины документы в руках и зачем-то спрятала их в карман под шубу.
— Я думаю, насчёт работы сейчас и заикаться не следует, — сказала она.
— Я не потому заикаюсь, — угрюмо ответил Павлуха. — Это меня медведь лизал.
Зина уставилась на Павлуху. Парни, что пришли вместе с ней, загрохотали стульями, уселись вокруг стола и расставили локти. Даже Аня присела на подоконник.
— То есть как это медведь лизал? — спросила она.
— Известно как, языком.
Роман стоял у стены, сложив на груди здоровенные руки. Роман знал: все люди, чего бы они ни достигли в жизни, тоскуют по своему детству: радостным оно было или тяжёлым — не имеет значения.
Павлуха сиротливо ёжился на табурете.
— Что вы на меня уставились? — вдруг крикнул он. — Сидят тут и смотрят. Что я вам, ископаемый, что ли?
Ребята-комсомольцы пошире расставили локти. Секретарь Зина положила в рот кусочек сахару. Аня, Романова жена, попросила:
— Ты расскажи про медведя-то, интересно ведь. — В её голосе было столько простодушного любопытства и недоумения, что Павлухины брови сами собой разошлись.
— За рассказ деньги платят, — пробормотал он и, видимо, вспомнив съеденные бутерброды, посмотрел через плечо на Романа.
— Рассказывать, что ли?
— Валяй, — сказал Роман. — Это свои ребята.
Павлуха немного пошлёпал губами, потряс головой, выталкивая изо рта первые упрямые буквы, и начал со своего любимого слова. Должно быть, оно легче всего пролезало сквозь Павлухины непослушные губы.
— Известно, я маленький был. Тогда наши колхозные это… женщины, брусникой подрабатывали. Идут в лес целой артелью ягоды собирать. Совок такой есть деревянный с зубьями. Совком ягод пуда три набрать можно. Матерь меня с собой брала. Посадит под куст на платок, а сама ходит вокруг, ягоду обирает. Однажды, говорит, подошла к кусту меня проведать, а там медведь меня лижет. Я, известно, уже наполовину задохся. Вонючий у него дух изо рта. Говорили, луплю его по морде кулаками, а он только пофыркивает. Ему интересно со мной побаловаться. Он, говорят, даже лапой меня пошевеливал, чтобы я побойчее брыкался. Матерь, как увидела, так и зашлась не своим голосом. Медведь, известно, бабьего визга не переносит. Заревел он на мою мать, чтобы она, стало быть, замолчала. А она все ягоды, что в корзине были, ему в морду швырк и ещё пуще визжит. Тут остальные бабы набежали, думали, змея, а как увидели медведя, такой концерт подняли. У нас женщины лютые, — известно, рыбачки. Ихнего визгу даже белый медведь боится. Рыбаки говорят, тонет он сразу от ихнего шума. Медведь, конечно, в кусты скакнул… Только я не от него заикаться начал.
— Как это не от него? — сказала Аня. — У меня бы сразу разрыв сердца. — Аня зажмурилась и потрясла головой.
— Если бы я поболе был. А то маленький. Мне что медведь, что корова. Когда мамка стала плакать, тогда и я заревел. А после меня медведем дразнили. Выйду на улицу, мальчишки сразу кричат: «Павлуха, медведь-то сзади!» Говорят, я шибко вздрагивал. Потом поотвыкли. Мальчишкам матери уши надрали. А некоторые сами сообразили… Один раз батька по бюллетеню ходил — чирь у него сидел на шее, что ли. Я разревелся тогда. Батька и так и сяк, и ругал меня, и шлёпал, я только громче реву. С животом у меня было не в порядке. Тогда батька пошёл в сени, взял там полушубок, выворотил его шерстью наверх и, значит, в комнату ползёт на четвереньках и ревёт по-медвежьи… Вот оно тогда и получилось. Говорят, я в обмороке лежал. А потом, это, заикаться стал…
Парни-комсомольцы сидели вокруг стола, морщили лбы. Что в таком случае скажешь? Зина-секретарь крутила на крышке чайника пластмассовую пупышку-ручку.
— Я бы такого урода поленом, — всхлипнула на подоконнике Аня.
Роман надел свою лыжную куртку, сказал ребятам:
— Пошли, потолковать нужно. Аня, пусть Павлуха у нас побудет.
— Пусть, — сказала Аня.
Решение комсомольцы вынесли такое — оставить Павлуху на стройке до осени. Осенью определить его в школу-интернат. Брать его на каникулы, пусть к работе привыкает, специальность себе выберет. Зина-секретарь постукивала карандашом по ладошке, говорила:
— Правильно это, но…
А когда ребята уже подобрали Павлухе работу учеником монтажника на обогатительной фабрике, Зина открыла ящик своего стола и вытащила оттуда книгу с четырьмя крупными буквами на заглавном листе — КЗОТ — Кодекс законов о труде. В книге было чёрным по белому написано, что детский труд в СССР запрещён законом. Можно работать только с пятнадцати лет, и то по четыре часа в день первое время.
— Вот, — сказала Зина. — Трудно нам будет с Павлухой.
— В постройком пойдём, — сказали ребята.
На следующий день Роман отправился в постройком. Роман знал в посёлке каждого. И его знали тоже.
— Здравствуй, Игорь, — сказал Роман председателю постройкома.
— Здорово, Роман, — ответил ему председатель. — По делам пришёл или так? Садись.
Роман сел прямо за стол к председателю. Были они почти одного роста. Только лицо у председателя, может быть, малость помягче, выражение глаз не такое уверенное. Председатель недавно заступил на свою должность. Он ещё стеснялся своего новенького стула и отутюженного пиджака.
Роман начал разговор издалека:
— Мы с тобой товарищи?
— Чего спрашиваешь?
— Помнишь, как мы рудник от наводнения спасали?
— Ну…
— Это ведь ты тогда несработавшие запалы во взрывчатке менял?
— Слушай, тебе путёвка нужна или ссуда?
— Нет… Игорь, а ведь взрывчатка могла взорваться.
— Слушай, Роман, скажи лучше сразу: зачем пришёл?
— Вот я и говорю: запалы мы менять умеем.
Роман посмотрел председателю в глаза и выложил всё, что знал про Павлуху.
— Ты, как председатель постройкома, что можешь ответить? Мальчишке четырнадцать лет.
— Не бери за горло, — сказал председатель. Он не стал говорить дальше, а положил перед Романом книгу с четырьмя буквами на заглавном листе — КЗОТ.
И тогда Роман произнёс речь. Он говорил, что довольно стыдно прослыть бюрократом, но ещё противнее, когда люди прячут свою лень и свою холодную кровь за хорошим законом. Потом Роман спросил:
— Слушай, Игорь, может быть, Павлуха и есть главный шкет Советского Союза! Может быть, правы наши отцы, когда гордятся, что пошли на заводы с четырнадцати и успевали учиться в фабзавучах и на рабфаках?
Председатель восхищённо смотрел на Романа. Может быть, он хотел хлопнуть его по спине и сказать: «Ромка, правда твоя». Но вместо этого он растерянно произнёс:
— Не могу…
Неделю прожил Павлуха у Романа. Роман обещал каждый день:
— Обожди, придумаем что-нибудь. Напиши письмо матери, чтобы не волновалась.
Кто-то из ребят предложил накидывать по полтиннику на комсомольские взносы и выплачивать из этих денег Павлухе стипендию.
Отвергли.
Предлагали подделать Павлухины метрики.
Отвергли.
Павлуха ел мало. Всё спрашивал:
— Аня, а сколько этот паштет в банке стоит?
— Тебе зачем?
— Так, интересуюсь…
Павлуха выходил на улицу, будто невзначай заглядывал в магазин, смотрел цены. «Шесть гривен банка, — считал он в уме. — Я одну треть съел. Сахар девяносто. Считай двести граммов… Надо сахару поменьше есть…»
Потом Павлуха шёл в столовую и там считал:
«Гречневая каша с мясом — гуляш — двадцать три. У Ани каша жирнее, известно… Борщ — двадцать одна…»
Стелили Павлухе на раскладушке в кухне.
— Простыней нет, — ворчала Аня. — У нас у самих две смены. Я ему старую скатёрку постлала.
Роман не возражал, говорил только:
— Нам с Павлухой всё равно — хоть на скатерти, хоть на занавеске, лишь бы под крышей.
Однажды вечером к Роману пришёл Игорь. Роман, Аня и Павлуха сидели за столом, ужинали. Игорь разделся, сел к столу и попросил тарелку.
— Слушай, Ромка, — сказал он, — я придумал. Я могу твоего Павлуху в сыновья взять. Будет жить у меня. Мамке его будем посылать каждый месяц деньжат. А что? По-моему, дело.
Роман облизал ложку и постукал ею по широкому прямому своему лбу.
— Какой-то философ воскликнул: «Человек — это неправдоподобно!»
— Ну и дурак твой философ, — улыбнулся Игорь. — Всё правдоподобно. Станем вместе жить…
Роман перегнулся через стол, ткнул Игоря ложкой в грудь.
— А вот ты умный и есть настоящий дурак. Благодетель… Павлуха только и дожидается, когда ты его в сыновья возьмёшь. У него мать есть, сестрёнка, брат маленький. Он на работу пришёл.
Игорь оттолкнул ложку, заскрипел стулом и гаркнул, наливаясь обидой:
— Ты из меня идиота не делай. Как его на работу оформить, если у него даже паспорта нет?
Тогда поднялась Аня.
— Я, наверно, невпопад, — заговорила она необычно звенящим голосом. — Я думаю, в людях должно жить волнение. Вот чтобы не так просто, не так по одному рассудку. Может, это романтика, я не знаю. Может быть, я глупая. Зато я уверена — людям, у которых это отсутствует, здорово не повезло в жизни.
— Крой, Анюта, — сказал Роман.
Игорь угрюмо отхлебнул из чашки.
— Волнение… А Павлуха вон так и ходит нестриженый… Я к вам с душой, а вы… Павлуха, куда ты? Стой, Павлуха!
Но Павлуха, нахлобучив шапку, уже выскочил из дома.
Роман нашёл его часа через два. Павлуха сидел на скале, что поднялась за посёлком сизой кособокой призмой. Он плакал.
Роман уселся возле него на острый щербатый камень.
— Перестань, — сказал он. — От медведя не плакал, а тут завыл. Давай лучше песню споём.
Предложение спеть песню прозвучало довольно странно. Но Павлухе было всё равно.
— Пой, — сказал он, — тебе что, — и отвернулся.
— Вот именно, мне что. У меня есть дом, семья, работа, учёба. Я сына жду… Зине, Игорю и всем нашим ребятам тоже своих забот хватает… Роман похрустел пальцами, стиснув их в замок. Казалось, он спорит с кем-то о деле ясном, как дважды два. Вдруг, словно разозлившись на своего упрямого собеседника, Роман сказал: — Дать бы тебе как следует, чтобы людей не оскорблял…
Павлуха отодвинулся от него на самый край валуна. Но Роман дотянулся, снял с Павлухиной головы мохнатую шапку и вытер ему мокрое от слёз лицо.
— Перестань хлюпать. Что у тебя за беда? В школу-интернат пожалуйста. В ремесленное — будь любезен с нового набора. А сестрёнку твою устроят и мамке пропасть не дадут. Нюни цедить причины нет. А тебе всё мало, всё сразу подавай. Как же — пуп земли вырос. Один философ, знаешь, воскликнул: «Человек — это удивительно!»
— Ты за столом иначе говорил, — пробормотал Павлуха.
— Тогда я про одно говорил, сейчас про другое…
— Тебе легко говорить. — Павлуха подтянул голенища сапог повыше, застегнул ватник на все четыре пуговицы. — Пойду, — сказал он. — Матерь, наверно, моё письмо получила… Обрадовалась, известно…
— Да замолчишь ты, наконец! — крикнул Роман. — Сидит тут и гудит… А моя мать никогда от меня письма не получит… Я тоже шёл! Война была. Немец пёр по дорогам на железных колёсах. А мне шесть лет. Без отца, без матери, без хлеба. Шёл и не плакал. Старый человек меня подобрал. Скрипка у него была в чёрном футляре…
Роман толкнул ногой большой камень, и он покатился в пыльном клубке, увлекая за собой маленькие камушки. Роман глядел, как сшибаются друг с другом каменья, как текут они сухим ручейком.
— Скрипка у него, — повторил Роман. — Главная струна на скрипке порвалась. Он у всех спрашивал: «Простите, не найдётся ли у вас струн для скрипки?»
Люди смотрели на него, как на полоумного. Война кругом, а он струны спрашивает. Я ему пообещал, когда вырасту, сколько хочешь струн куплю, самых толстых, чтобы не рвались. Он засмеялся. Сказал: «Будет у тебя сын, научи его музыке. Вот и всё. Вот мы и квиты… будем».
Роман позабыл, наверное, про Павлухину беду. Он положил руку ему на плечо, встряхнул слегка.
— Песню знаешь? «По дальним странам я хожу и мой сурок со мною»… Этой песне он меня научил… Солдаты-красноармейцы сидели вокруг костра. Концентраты в котелках варили. У дороги их пушка стояла. Они пушку из окружения вытащили. Так с нею шли и не бросали. Дали нам красноармейцы концентратовой каши. Просят: «Сыграй, отец, — может, последний раз музыку слушать…»
Старик достал скрипку, извинился, что одной струны не хватает, и заиграл. Я запел.
Солдаты глаза попрятали. Не так они себе начало войны представляли. Молчали солдаты, когда я кончил петь, только сосали цигарки до такого края, пока в носу палёным не запахло. Старик тогда им сказал:
— Извините, товарищи бойцы, я вам сейчас сыграю другую, очень красивую песню.
Начал он было играть и опустил смычок:
— Простите, товарищи военные, не хватает у моего инструмента голоса для этой песни. Эту песню на серебряных трубах играть нужно. — Он вдруг прижал скрипку к груди и запел: — «Вставайте, люди русские!»
Роман высморкался в большой, как салфетка, платок, нашарил под ногами ещё один камень, тронул его каблуком.
Павлуха смотрел на вершины сопок, лиловые от подкрашенного солнцем тумана. Если бы сейчас война, разве пустил бы Павлуха слезу. Он бы…
— Старик меня в Ленинград привёз. Определил в детский дом. Потом я узнал, что он умер в блокаду… Ты себе и представить не можешь, скольким людям я на свете должен. Всей моей жизни не хватит, чтоб расплатиться. Они про меня и забыли, наверное. Был такой парнишка — Ромка-детдомовец. Был парнишка — Ромка-фезеушник. Почему был? Он есть. Он сейчас стал Романом Адамовичем!..
Роман сильно толкнул камень ногой. Камень покатился по склону, покачался на самой кромке утёса и заскользил вниз, ломая невидимые отсюда кусты.
— Эй вы там! — раздался сердитый окрик. — У вас что в голове?
Снизу из-за утёса показались два сухих кулака. Потом на скалу вскарабкался пожилой человек в брезентовой куртке.
— Это ты толкаешь камни? — спросил он у Павлухи. — Инструмент мне сейчас чуть не сломал…
Роман поднялся, кашлянул.
— Это я, Виктор Николаевич… Виноват…
Пожилой человек посмотрел на обоих исподлобья, как-то смешно шевельнул щекой.
— А хоть бы и так. Недоструганная какая-то молодёжь нынче. У вас по три стружки в голове на брата… Сапоги какие-то напялил, ботфорты… Мушкетёр. — Он кивнул на Павлухины сапоги, вытащил из кармана серебристую коробочку, положил под язык большую белую таблетку, сказал, причмокнув:
— Ладно, камень далеко упал. Это я так, для острастки… О чём говорили?..
— Так, — смущённо сказал Роман. — Биографию Павлухе рассказывал.
Виктор Николаевич окинул мальчишку быстрым ухватистым взглядом.
— Это и есть знаменитый землепроходец? Мне ваша девушка про него рассказывала, Зина-секретарь…
А на другой день в квартиру Романа пришли: секретарь комсомольцев Зина, председатель постройкома — Игорь и пожилой человек инженер-геодезист Виктор Николаевич. Шея у геодезиста была замотана шарфом, кожа на лице тёмная и твёрдая.
— Вот, — сказала Зина, — Виктор Николаевич.
Геодезист кивнул, сказав вместо приветствия:
— Вот так Павлуха. Сапоги-то, глядите, какие. Мне бы такие. Крепкие сапоги. Мужская обувь.
— Виктор Николаевич имеет право школьников к работе привлекать во время летних каникул, — объяснил Игорь. Он глядел на Павлуху с победной гордостью. А Зина, посмеиваясь, грызла сухарь, словно это и не она привела сюда Виктора Николаевича. — Жить станешь в общежитии, аванс на первое время тебе выдадут, а уж дальше всё с Виктором Николаевичем. Он теперь твой начальник. Собирай барахлишко, мы тебе койку покажем в общежитии, распоряжался Игорь. — Давай, Павлуха.
Павлуха посмотрел на Зину. Глаза у неё уже не были шершавыми, как в первый раз.
— Ну, ты, главный шкет, — сказала она.
Павлуха долго тянул букву «с», а когда Роман сказал за него спасибо, отвернулся.
Ночью Павлуха проснулся, посмотрел на часы. Из щелей в занавесках глядело солнце. Оно падало на циферблат красным пятном. Чёрные стрелки будто висели в воздухе, окружённые закорючками цифр.
Павлухе было неуютно под чистой простыней. Кровать не по росту. Комната большая и голая. Мутная лампочка у потолка. Дыхание спящих людей. И насмешливый храп из дальнего угла.
Павлуха забрался под одеяло с головой, стараясь дышать тихо, боясь ворочаться. Ночное солнце скользило за окном. Где-то далеко лязгал ковш экскаватора.
Под утро Павлуха крепко уснул. Какой-то сон промелькнул у него в мозгу, оставив ощущение тревоги. Павлуха сжался в комочек, заполз под подушку и зачмокал губами.
— Вставай! — расталкивал его Роман.
Роман пришёл в общежитие прямо со смены. Он хотел проводить Павлуху в новую жизнь.
— Пора, — сказал Роман.
Павлуха вскочил с постели.
В утренние часы комната становилась тесной. Она заполнялась спинами, крепкими лодыжками, горячими мускулами и хрипловатым гоготом. Жильцов было четверо, но по утрам они двигались шире, говорили громче.
С кровати напротив спрыгнул лохматый парень и, не открывая глаз, принялся делать зарядку. Потом он снова юркнул под одеяло, сказал:
— Я шикарный сон видел. Мне только конец доглядеть осталось.
Роман стащил с лохматого одеяло. Тот сел на кровати, помигал глазами и сказал, глядя на Павлуху:
— Неправильно, парень. У тебя ведь перёд сзади.
Павлуха конфузливо проверил одежду.
Соседи смеялись. Роман тоже смеялся. Павлуха посмущался минутку и засмеялся вместе со всеми.
— Умой лицо, — сказал лохматый. — Торопится, будто получку дают.
Когда Павлуха умылся, сосед накормил его хлебом с селёдкой, напоил чаем из алюминиевой кружки. Потом каждый шлёпнул его по спине.
— Ну, Павлуха, будь!
— Известно, — пробормотал своё непременное слово Павлуха.
Роман проводил Павлуху до конторы геодезистов. Сдал его с рук на руки Виктору Николаевичу. Тоже шлёпнул по спине и тоже сказал:
— Будь, Павлуха…
Начинает человек новую жизнь и сам себе кажется иным. И всё, к чему привык, что уже перестал замечать, тоже становится не таким обычным. Как будто принарядилась земля, стряхнула с себя серую скучную пыль. Обнажились другие, яркие краски. Каждый человек, если он не безнадёжно солиден, совершает это весёлое открытие много раз в своей жизни и всегда с удовольствием.
Виктор Николаевич и Павлуха отмечали места для шурфов, проводили сложные съёмки, в которых Павлуха ничего не понимал. Он ставил на отметках полосатые рейки, бегал с рулеткой и мерной проволокой. Неделями не приходили они с Виктором Николаевичем в посёлок, лазали по скалистым вершинам, по заросшим брусникой и мхами распадкам.
С сопок, куда они кряхтя, а иногда и ползком затаскивали ящик с теодолитом[3] и тяжёлую треногу, открывалась красивая панорама металлургического комбината: обогатительные фабрики, построенные на склонах белыми уступами, плавильный завод с такой высоченной трубой, что даже издали казалось, будто она проткнула небо и прячет там свою закопчённую маковку. По дорогам бежали машины, везли из карьеров руду. Красные автобусы. Синие автобусы. Улицы посёлка, прорубленные в сосняке. Флаг над поселковым Советом. Скоро посёлок станет городом.
Ещё была видна узкая чёрная речушка, по которой проходила государственная граница Союза Советских Социалистических Республик и Норвегии.
Чужая страна за рекой ничем не отличалась от нашей: те же сопки, редколесье, замшелые валуны, голубые озёра. И было странно думать, что там другая жизнь, что люди там говорят на другом языке. А в домиках с низкими крышами тревожат людей по ночам не понятные для нас думы.
Работать с Виктором Николаевичем было интересно. Он знал, откуда взялись разные камни, зачем растут на камнях деревья, куда плывут облака, о чём кричат птицы. Он всё знал. Иногда он говорил Павлухе:
— Мы с тобой сухопутные моряки. Ходим по свету, открываем новые земли, новые дороги.
— Ну уж, — возражал Павлуха. — Сейчас ни одной новой земли нипочём не открыть.
— А уж это ты брось. Вот здесь, например, пять лет назад были голые камни. Даже волки околевали здесь от тоски. А сейчас посмотри, какое веселье. Пейзаж без жилья только в золочёной раме хорош. Я, Павлуха, по этаким пейзажам ноги до колен истоптал.
Вечером они разводили костёр, вываливали на сковородку консервы. Виктор Николаевич говорил:
— По всему свету наш брат геодезист ходит, землю столбит. Мы с тобой спать ложимся, а на другой стороне земли, может, двое проснулись, завтрак себе готовят. Ты знаешь, что они на завтрак едят?
— Не…
— И я не знаю. На той стороне земли всё иначе. Там ни берёзок, ни сосен — сплошные пальмы.
Павлуха ложился возле костра на сосновые лапы, глядел в розовое небо.
Солнце здесь не садится в июне — ходит по небу кругами, ночью задевает за верхушки сопок калёным боком. Деревья тогда похожи на зажжённые свечи, а в распадках стынет горячий солнечный шлак, играя сизыми и пунцовыми красками.
«Эта земля не хуже, хоть тут и нету пальм, — думал Павлуха. — Виктор Николаевич весёлый человек. Роман тоже весёлый. И все здесь весёлые. И погода стоит отличная, как будто север отступил к самому полюсу, но и там его тревожат весёлые люди».
Много на земле весёлых людей. Они не смеются беспрестанно, не пляшут без конца, не горланят песен без передышки. Они просто идут на шаг впереди других. С ними не устанешь и не замёрзнешь. Давно уже стало известно, больше всех устают последние. А что касается погоды, она всегда хороша, когда весело у человека на сердце, когда ему некого бояться, нечего стыдиться и незачем врать.
Павлуха думал, засыпая у костра: «С получки денег мамке направлю. Роману отдам за кормёжку. Я ему должен. Если останется, куплю себе рубаху в красную клетку. Может, Виктору Николаевичу мои сапоги подарить?..»
Взбираясь на сопки, ночуя в распадках, Виктор Николаевич сосал иногда большие белые лепёшки из серебристой коробочки. Таких коробочек у него было несколько.
Павлуха полюбопытствовал:
— Что это вы под язык кладёте, — может, витамин какой?
— Точно, Павлуха, витамин «Ю», специально для стариков, которые не хотят дома сидеть.
В тот день установили они на невысокой горушке теодолит и хотели было начать съёмку. Но после полудня из расщелины наполз туман. Он набился в лощину, осел на волосах серым бисером, прилип к щекам и ладошкам.
— Ты не верти ничего, — предупредил Павлуху Виктор Николаевич. Собьёшь прибор — опять полдня на ориентировку уйдёт.
— Что я, малолетка? Я небось понимаю, — сказал Павлуха.
Павлуха посмотрел на его истрёпанные ботинки. Спросил, опустив голову:
— Виктор Николаевич, почему вы меня на работу взяли?
— Крючок ты, Павлуха. И чего у тебя в носу свербит?
Он поднял Павлухину голову, глянул ему в глаза и сказал:
— Я, Павлуха, одному человеку задолжал… Младшему моему сыну.
— Он умер? — Павлуха спросил и тут же пожалел об этом.
— Нет, почему. Он живой… У меня их трое, сынов. Старший в Москве, в авиации. Средний в Калининграде — моряк. Младший… — Виктор Николаевич помолчал, словно раздумывая, говорить или нет. Потом сказал: — Младший в тюрьме.
Павлухе показалось, что туман сгустился, стало трудно дышать.
— До шестого был отличник, — продолжал Виктор Николаевич — танцор… А позднее… Я тогда на Камчатке работал. Старшие поразъехались. Старуха-то от меня скрывала…
«Вы моего батьку на Камчатке не встречали?» — хотел спросить Павлуха. Промолчал и подумал: «Почему же всё-таки он меня на работу принял?»
Павлуха посмотрел на геодезиста. Тот сидел на пеньке, запрокинув голову. Он широко открывал рот, словно старался откусить кусочек тумана, потом вдруг повалился с пенька на землю. Подбородок и грудь у него вздрагивали, как от редких ударов.
— Елки! — вскрикнул Павлуха, бросился к старому геодезисту, чтобы помочь ему сесть.
Но Виктор Николаевич поднял руку и потряс головой: мол, не трогай, я сейчас сам…
Павлуха ползал вокруг него на коленях.
— Виктор Николаевич, чего же вы?.. Виктор Николаевич, негоже ведь так… — И вдруг крикнул: — Дядя Витя!
Когда веки геодезиста крепко сомкнулись, выдавив две светлые крупные слезы, Павлуха вскочил и побежал к дороге. Шоссе проходило невдалеке от горушки. Ещё со склона Павлуха заметил пятнадцатитонный «МАЗ», груженный мешками.
— Стой! — закричал Павлуха и, расставив руки, бросился наперерез зелёному самосвалу с быком на радиаторе.
Он споткнулся в своих сапожищах, упал плашмя на дорогу. Его обдало горячим горьким дымом. Машина пронеслась над ним и, скрипнув тормозами, швырнув из-под шин острую щебёнку, остановилась.
Из кабины выскочил перепуганный шофёр. Он схватил Павлуху за волосы. Руки у него тряслись.
— Живой?
— Живой.
— Живой… Вот я тебе как смажу по ноздрям, — сказал шофёр, набирая воздуху в лёгкие, и закричал: — Чего ты под машину лезешь! Без глаз?! Дуракам везёт — между колёс упал…
Павлуха узнал в шофёре своего лохматого соседа по общежитию. Он вцепился ему в рукав.
— Чего ты… Т-ты не махайся… Дядя Витя же…
— Племянник нашёлся. Драть тебя без передыха, чтобы глаза промигались. — Лохматый залез в кабину, погрозил Павлухе кулаком, дал газ, и тяжёлая машина, дрогнув зелёным кузовом, покатила дальше.
— Стой!! — завопил Павлуха. — Стой!
Он снова побежал к горушке. Виктор Николаевич лежал на спине, подсунув руки со сжатыми кулаками под лопатки. Лицо его было серым. На нём резко и холодно блестела седая щетина. Если цвет волос действительно зависит от соединения металлов, то в волосах Виктора Николаевича остался лишь чистый нержавеющий никель.
Павлуха схватил теодолит вместе с треногой. Колени его подгибались от тяжести. Он больше не кричал: «Стой!» Он расставил треногу посреди шоссе.
— Теперь станете… — бормотал он. — Натурально станете, бензинщики бесчувственные…
Машина остановилась. В кузове на скамейках рядами сидели пограничники, а у самой кабины торчали уши серой овчарки.
Из кабины на дорогу выскочил старший лейтенант с пистолетом в деревянной кобуре, прицепленным к поясу.
— Ты чего здесь посреди дороги расставился? Колышкин! Трохимчук! Убрать треногу!
Из кузова выпрыгнули двое солдат. Пограничники торопились. Наверное, у них было очень важное дело. Наверно, их нельзя задерживать. Но разве Павлуха думал об этом? Он закричал, ухватив офицера за пояс:
— Виктор Николаевич умирает! Геодезист. Его в больницу нужно. Товарищ старший лейтенант!
— Это ты специально треногу поставил, чтобы машину остановить?
— Известно…
— Сименихин! — подойдя к машине, сказал офицер. — Пойдёте с мальчишкой. Колышкин пойдёт с вами.
Из кузова выпрыгнул сержант с санитарной сумкой через плечо.
Машина рванулась с места, и тут же пропал её след, только запах бензина повис над дорогой.
Павлуха бежал, оглядываясь. Рядом шагали два солдата в зелёных пограничных куртках с карабинами через плечо.
Виктор Николаевич лежал в той же позе. А возле него на траве светлела коробочка со стариковским витамином «Ю».
Сержант поднял её, покачал головой.
— Валидол… — Он снял сумку, опустился на четвереньки и зашептал: Сейчас, отец, сейчас…
Павлуха отвернулся, когда острая игла шприца воткнулась в руку Виктора Николаевича.
— Теперь только осторожность, — сказал сержант. — Слушай, пацан, у вас найдётся палатка или одеяло? Что-нибудь такое.
— Одеяло.
— Треногу нужно разобрать, — сказал солдат, — из неё носилки удобно сделать. Пойдём, пацан, за треногой. — Солдат взвалил на плечи рюкзак, взял серый ящик из-под теодолита и направился к дороге.
Павлуха, захватив котелок и чайник, побежал за ним.
У дороги они разобрали треногу. Солдат Колышкин ушёл обратно. Павлуха сел прямо на пыльный щебень.
«Люди живут, — думал он, — и всё время работают. А витамин „Ю“ этот, наверное, ни шиша не помогает — придумали для отвода глаз. А если не работать человеку, тогда все витамины будут ни к чему. Вот положи сейчас Виктора Николаевича на пуховую перину, подавай ему по утрам какаву, ставь градусники, и будет он уже не человек, а бесполезный лежачий больной. И всё тогда будет ни к чему. Худо — лежит человек и слышит, как спотыкается его собственное сердце, и человек уговаривает его: постучи, дружок, ещё, ну что же ты меня предаёшь?»
Павлуха принялся щупать свою грудь, искать сердце. Но не обнаружил его ни слева, ни справа. Тогда он стал искать пульс и тоже ничего не нашёл.
Пришли солдаты-пограничники. Они принесли Виктора Николаевича на самодельных носилках. Глаза у геодезиста уже приоткрылись. Он смотрел прямо в небо, в вечную синеву, куда, по старым преданиям, улетают тихие души усопших. Но смотрел строго, словно делил небеса на треугольники и мысленно забивал колышки в тех местах, где удобно возводить мосты, строить воздушные города, прокладывать дороги и линии высоковольтных передач.
По шоссе катил пятнадцатитонный «МАЗ». Он затормозил резко. Из него выпрыгнул лохматый Павлухин сосед, крикнул:
— Говори, что у тебя стряслось… — Он увидел лежащего на носилках геодезиста и пробормотал: — Вот тебе на… Ты что же, Павлуха, не мог толком сказать?..
Он открыл задний борт и всё говорил, словно хотел оправдаться:
— Я уж возле обогатительной фабрики сообразил. Ну, думаю, у Павлухи что-то стряслось, раз он под машину полез. Вот ведь репа…
Солдаты осторожно поставили носилки в кузов машины, потом погрузили туда инструменты и вещи. Павлуха хотел подсунуть под голову Виктора Николаевича рюкзак, но солдаты подняли носилки, чтобы Виктора Николаевича не трясло на промоинах. Они стояли, широко расставив ноги, а за плечами у них поблёскивали боевые карабины.
В городе Виктора Николаевича сдали в больницу.
— Я, Павлуха, того. Я побегу, — сказал лохматый Павлухин сосед. — На фабрике цемент ждут. Ты до посёлка на попутке доедешь…
Солдаты помогли Павлухе погрузить прибор и вещи на попутную машину.
— Спасибо вам, — сказал Павлуха.
— Ладно, парень, шагай… — Солдаты закурили папиросы «Огонёк» и двинулись своей дорогой.
«Если бы деньги, я бы им „Казбек“ купил», — подумал Павлуха.
Красное солнце висело над трубой плавильного завода. Оно было похоже на факел. Учёные говорят, что в будущем повесят люди над севером искусственный электрический огонь, который станет освещать эту стылую землю зимой, даже будет играть по утрам красивые мелодии.
Навстречу неслись машины с грузами. У шлагбаумов перекликались шофёры. Жизнь текла ровно, упруго.
«А Виктору Николаевичу небось уже какаву подают на блюдце, — подумал Павлуха. — Только он её пить не захочет. Он любит крепкий чай из походного чайника…»
В конторе геодезистов толкотня — давали получку. Павлуху пустили без очереди: он устал с дороги, он молодец, он геройский малый. Кассирша отбирала у всех по полтиннику на вкусные вещи для Виктора Николаевича. Все понимали, что незачем они старику, что раздаст он их соседям по палате. Но всем хотелось передать ему привет и много хороших слов. И лучше всего это смогут сделать пустяковые цветы, умытые яблоки и апельсины, которые растут на другой стороне земли и пахнут жаркими ветрами.
Павлуха стащил свои сапоги.
— Вот, — сказал он. — От меня это Виктору Николаевичу. Они ему впору будут.
Кассирша вылезла из-за стола, даже не задвинув ящик с деньгами.
— Соскочило у парня, — сказала она. — Ты бы ему ещё портянки завернул для комплекта.
Геодезисты засмеялись.
— Он их в больнице на тумбочку поставит…
Павлуха растерялся.
— Он ведь в больнице временно. Он не захочет там долго лежать. Чего вы смеётесь?..
Геодезисты взяли его под мышки, вставили в сапоги и подтолкнули к столу. Павлуха получил деньги: и полевые, и суточные, и зарплату. Как и со всех, кассирша высчитала с него на подарок Виктору Николаевичу.
Павлуха не пошёл к себе в общежитие. Он направился к Роману. Ему казалось, что люди не принимают его всерьёз. Им бы только шутить и смеяться. Им не понять. Павлуха отдаёт долги! Вон у него сколько денег: «Мамке пошлю, Роману за питание отдам… Кому ещё?..»
Роман встретил Павлуху шумно. В комнате было много народа. Все сидели за столом и громко разговаривали. Здесь были Зина, Игорь и другие ребята.
— Здорово, Павлуха! — Роман стиснул его за плечи и подтащил к дивану. — Ты посмотри…
На диване в пелёнках лежал человек, крошечный, с наморщенным лбом и туманными синими глазками. Человек месил воздух красными пятками, красными кулачками и показывал мягкие дёсны.
— Мальчишка небось?
— Парень по всем категориям. Посмотри.
Павлуха сконфузился. Аня засмеялась. Она была худенькая и очень лёгкая. Казалось, что Анино платье надето на невесомое существо, которое бьётся и вздрагивает от радости и движется, движется…
— Поздравляю, — сказал Павлуха, стыдясь этого звучного слова. — Я тогда после зайду… Я неумытый.
— Ты что, штрейкбрехер? — сказал Роман. — Садись, выпьем за сына. Роман подтащил Павлуху к столу, налил ему в стакан жёлтенького сладкого вина. — Давай… Ап!
Павлуха выпил, облизал губы. Парни и девчата за столом хвалили малыша, смеялись над Романом. А тот, не зная, куда себя деть, ухмылялся и хвастал:
— Телом весь в меня, а характером в Аню. Спокойный, порядок понимает, кричит только по заказу, когда есть захочет и когда мокрый.
Зина жевала конфеты и смеялась. Игорь разглаживал ногтем серебристые обёртки, которые она бросала в блюдце, и складывал их одну на другую, ровно-ровно, край в край.
— Мне из больницы звонили, — сказал он шёпотом. — Ты, Павлуха, молодец.
В углу стоял трёхколёсный велосипед, обвешанный пакетами и погремушками.
«Подарки, — сообразил Павлуха. — Смехота: только родился — и уже подарки. За что?»
Павлуха сунул руку в карман, нащупал там пачку денег и снова принялся считать: «Мамке тридцать рублей, себе на полмесяца. Роману за пропитание…» Он посмотрел на Романа.
Роман был громадным, весёлым, счастливым.
— Ешь, Павлуха, — говорил он. — Рубай колбасу, сыр голландский, шпроты. Закусывай. У меня сын…
«Не возьмёт, — тоскливо подумал Павлуха. — Ещё даст по шее, пожалуй».
Павлуха вытащил руку из кармана, слез со стула на пол. Он снял свой сапоги, потом прошёл босиком к велосипеду и поставил их там.
— Это хорошие сапоги, — сказал он. — Рыбацкие. Это от меня… Пускай носит…
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |