"Всемирная история без комплексов и стереотипов. Том 2" - читать интересную книгу автора (Гитин Валерий Григорьевич)
Тьма власти
 |
Пора бы, конечно, перестать всплескивать руками, задаваясь бесполезным вопросом: «Кто нами правит?!» История человечества отвечает на него более чем исчерпывающе: нами, нормальными людьми, правят дебилы, шлюхи, садисты, психопаты, убийцы, насильники, воры, клятвопреступники и прочая нечисть. Так было во все времена, во все периоды развития цивилизации, и это — правило, непреложное правило, которое лишь подтверждают немногочисленные исключения, увы…
А может быть, это они и есть нормальные, а мы…
Так или иначе, но они, бесспорно, обладают неподдающимся анализу качеством, предопределяющим их возвышение над другими людьми.
Современные исследователи называют это качество «харизмой» или «фактором Икс».
О наличии этого таинственного фактора можно было бы спорить, если бы не существовало убедительных подтверждений его проявлений в ходе опытов, проводимых этологами (деятелями науки о поведении животных). Они неоднократно отмечали странности в поведении крыс, собак и других животных, которые, встретив своего собрата, внешне абсолютно ничем не отличающегося от контрольной особи, неожиданно падали ниц перед ним, выказывая знаки безусловного повиновения.
Люди, обладающие этим «фактором X», уверенно, и как говорится, ничтоже сумняшеся, стремятся к высшей власти даже в тех случаях, когда отсутствуют какие бы то ни было предпосылки для такого стремления, когда даже робкое предположение о подобном кажется не более чем неумной шуткой. И тем не менее…
Середина XV века. Италия. Даже в те распущенные времена весь Рим потрясен скандальными похождениями некоего Родриго Борджиа, военного, не совершившего ни одного воинского подвига, но широко известного своим безудержным распутством. Собственно, не он первый, не он последний, мало ли на свете сексуально озабоченных тыловых крыс?
То обстоятельство, что он был племянником валенсийского кардинала Алонсо Борджиа, никак не выделяло его из общей массы: в то время кардиналов в Италии было хоть пруд пруди, и у каждого имелись племянники, а то и незаконнорожденные дети, ну и что?
Но вот случается так, что кардинал Алонсо Борджиа вдруг становится Папой Каликстом III (правил 1455—1458 гг.), а Родриго Борджиа— на правах его племянника, не более того, — кардиналом. Да, все в жизни не так уж сложно при наличии связей и не слишком уязвимой совести.
Итак, отпетый гуляка и дебошир преображается в почтенного кардинала, что все окружающие почему-то воспринимают как должное. Может быть, действительно, так должно?
Став кардиналом, Родриго Борджиа входит во вкус положения князя Церкви и очень скоро становится обладателем несметных богатств, разумеется, вследствие участия в самых сомнительных спекуляциях. По-иному на планете Земля внезапно разбогатеть невозможно, если не считать, конечно, в качестве источников дохода ограбление банка, разбой на большой дороге, организацию финансовой «пирамиды» и т.п.
КСТАТИ:
«За каждым быстро нажитым богатством стоит преступление».
Ну и что? Кого из преступников можно было бы смутить подобными высказываниями? Да и вообще — смутить…
Новоиспеченный кардинал, спешно пополняя свою сокровищницу, не забывал и о простых жизненных радостях. Среди довольно многочисленного контингента его сексуальных партнерш была замужняя римлянка Ванноцца Катанеи, которая родила от него трех сыновей — Чезаре, Хуана и Жоффре, а также дочь Лукрецию. Видимо, эта Ванноцца представляла собой в каком-то плане нечто выдающееся, если Родриго Борджиа поддерживал с ней связь столько лет, да еще и официально признал своими всех этих детей.
Едва ли сам он знал, сколько у него вообще детей, при такой беспутной жизни, но этих он все же выделил из общей массы.
А жизнь его, судя по свидетельствам хронистов, была весьма и весьма насыщенной…
Письмо Папы Пия II кардиналу Родриго Борджиа 2 июня 1460 года
«Возлюбленный сын, Мы узнали, что Вы, забыв о высоком Вашем положении, присутствовали четыре дня назад (с семнадцати до двадцать двух часов) в саду Джиованни де Бичи, где было и несколько жительниц Сиены, живущих в мирской суете…
Мы слышали, что Вы наблюдали за их распутными танцами, что ни в одном из любовных соблазнов не было недостатка, и Вы вели себя как мирянин. Стыд мешает мне говорить о происшедшем, ибо не только такие деяния, но даже упоминание о них недопустимо рядом с Вашим именем. Я знаю, что мужья, отцы, братья и родственники этих молодых женщин и девушек не были приглашены, чтобы ничто не помешало Вашей похоти. Вы не только присутствовали на этой оргии, Вы ее вдохновляли и руководили ею».
Никакой ответной реакции.
А в 1492 году распутный кардинал Родриго Борджиа добивается избрания его понтификом. И он избран! Отныне он называется Папой Александром VI(правил 1492—1503 гг.), и в этой роли он заявляет о себе как об одной из самых одиозных фигур эпохи Возрождения.
Используя свои папские возможности, Александр VI буквально ограбил Италию, да и весь католический мир, а что до сексуальных удовольствий понтифика, то, судя по отзывам современников, он подчинил этим целям, как говорится, все живое и теплое.
При этом он не забывал своего официального потомства. Старший сын, Чезаре, по решению отца, посвятил себя духовной карьере, а Хуан и Жоффре стали владетельными сеньорами в Испании. Младшей, Лукреции, была уготована особая роль, но ее пора еще не пришла…
Чезаре получил хорошее воспитание в Риме, затем был отправлен в Перузу, где изучал право и философию. Король Арагонский (разумеется, под давлением Александра VI) признал законность его происхождения и присвоил ему право быть подданным королевств Арагона и Валенсии. Вскоре он получает должность каноника в Валенсии, а еще через некоторое время — архиепископа.
Он становится правой рукой отца во всех его делах и оставляет недобрый след в Истории как беспощадный устранитель всех, кого папский престол счел неудобным или лишним. В число таких людей зачастую попадали первые лица многочисленных мелких итальянских государств, кардиналы, вельможи, военачальники — все, чьи жизни были признаны ненужными или нежелательными.
Некоторые историки, умиленные целью объединения Италии, чего вроде бы добивались эти дьявольские отец и сын, пытаются смягчить их вину: дескать, время-то какое, а тут еще и раздробленность, как же было ее преодолеть, не запачкав рук… Далась им эта раздробленность… Ревнители коллективизации… Это все равно, что насильственным путем объединить несколько хуторов в колхоз… Все собиратели земель во все времена руководствовались только лишь стремлением подобрать то, что плохо лежит. Или отобрать его у законных хозяев, предварительно устранив их…
Что они, Чезаре Борджиа и его батюшка Александр VI, и делали, не останавливаясь ни перед чем. В самом буквальном смысле слова. Излюбленным средством решения ими любых проблем был яд. Отравляли они со знанием дела, масштабно, дерзко, с применением самых разнообразных подручных средств. Недаром же фамилия Борджиа стала синонимом понятия «коварный отравитель».
Чезаре, правда, пользовался не только ядами: эта капризная натура не терпела однообразия ни в чем, включая и убийство. Например, своего брата Хуана он зарезал. Так же он поступил и с целым рядом других людей, либо не вписавшихся в его жизненные планы, либо попросту вызвавших его неудовольствие.
Например, когда некий дон Жуан де Червильоне отказался уступить ему на время свою жену (только-то!), Чезаре приказал отрубить ему голову прямо посреди людной улицы. И данный случай далеко не оригинален.
Это был достойный сын своего отца, унаследовавший от него не только жестокость, коварство, вероломство и тому подобные «достоинства», но и болезненное сластолюбие. Не удовлетворившись всеми возможными вариантами сексуальных связей на подвластных ему территориях, Чезаре сделал своей постоянной партнершей родную сестру Лукрецию. Правда, ему пришлось делить ее ласки с их отцом, Папой Александром VI, но эта ситуация лишь добавляла остроты удовольствиям, которым предавалось трио кровосмесителей.
Поэт Понтано писал, что донна Лукреция приходилась Папе Александру VI одновременно «дочерью, женой и невесткой».
Они любили устраивать и массовые оргии, о чем свидетельствуют записи хронистов того времени.
ФАКТЫ:
«Вечером 30 октября 1501 года в покоях графа Валентино (Чезаре Борджиа) в папском дворце был праздник. На нем присутствовали пятьдесят проституток высшего класса. После трапезы они танцевали со слугами и гостями. Сначала все были в платьях, но потом совершенно обнажились. Когда гости закончили есть, горящие свечи со стола переставили на пол, и голым куртизанкам швыряли каштаны, чтобы те подбирали их, ползая между подсвечниками на четвереньках.
Папа, граф и его сестра Лукреция наблюдали за этим зрелищем. Коллекция шелковых шарфов, чулок и брошей предназначалась в награду тому, кто совершит наибольшее количество соитий с проститутками. Зрители, бывшие судьями, вручали победителям призы».
«В город явился крестьянин с двумя кобылами, нагруженными дровами. Когда они появились на площади Святого Петра, какой-то папский слуга, пробегая мимо, схватился за поводья, сбросил поклажу и отвел кобыл в маленький дворик за дворцовыми воротами. Там были выпущены четыре жеребца без седел и уздечек. Они бросились к кобылам, передрались между собой, кусаясь и лягаясь с громким ржанием, и покрыли кобыл с яростным пылом. Папа наблюдал за этим из окна своих покоев, Лукреция была рядом с ним. Оба хохотали до упаду и открыто проявляли свое удовольствие».
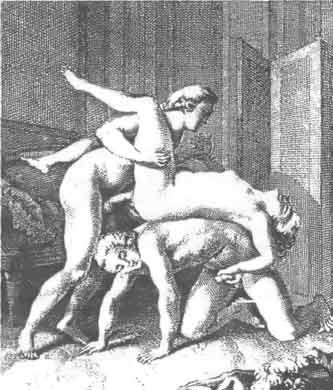 |
Почтенный епископ Бурхард упоминал еще о всякого рода «насилиях, непотребных действиях, совершаемых во дворце Святого Петра, бесчестных вещах, творимых с подростками и юными девушками, о проститутках, допущенных ко двору, и папских детях, рожденных от инцеста».
Ну и что? Вот если бы вывели на сцену какого-нибудь экзотического праведника из списка власть имущих, тогда стоило бы ахать, охать и анализировать причины и следствия, а так… рутина.
Папа Александр VI и его сынок Чезаре несколько раз выдавали Лукрецию замуж, преследуя опять-таки благие цели объединения итальянских земель. При этом оба они, естественно, продолжали с нею сексуальные игры. Третьего ее мужа Чезаре убил лично, не уступая такого удовольствия слугам.
Весной 1503 года Папа Александр VI и Чезаре устроили пышный пир в честь нескольких кардиналов, которых они решили отправить на тот свет, но по ошибке оба. отведали отравленного вина, вследствие чего старшее чудовище умерло на месте, а младшее, хоть и с трудом, но оклемалось.
Когда был избран Папой Джулиано делла Ровере (Юлий II), заклятый враг Чезаре Борджиа, тот купил себе жизнь ценой всех сокровищ своего отца и отречения от прав на герцогство Романья.
Далее он скитается, два года содержится в качестве пленника в испанском замке Медина дель Кампо, бежит оттуда к королю Наварры и 12 марта 1506 года в конце концов погибает в бою. Это был, пожалуй, единственный его поступок, не проклятый человечеством.
КСТАТИ:
«Он хвастается, что происходит по боковой линии от Авеля. Все правильно, он — потомок Каина».
А вот субъект совсем иного плана.
Франциск I (1494—1547 гг.), король Франции с 1515 года, зафиксирован Историей как не очень серьезный человек, но одержимый идеей абсолютной монархии. Для воплощения этой идеи он ничего подлинно исторического не предпринял, разве что в сфере правил внутреннего распорядка своей резиденции.
Он активно участвовал в европейских разборках, не преследуя далеко идущих политических целей, а так, скорее, за компанию. В 1515 году он совершил поход в Италию и даже одержал победу в битве под Мариньяно, однако второй его поход завершился бесславным пленением со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Франциск I был известен как монарх, склонный к заключению совершенно неожиданных договоров (например, с турецким султаном или Венецианской республикой), которые аннулировались с такой же сказочной быстротой, с какой и заключались. Векторы его внешней политики постоянно пребывали в хаотическом движении, в котором никто не мог установить хоть какую-то закономерность.
Но он еще известен как щедрый покровитель Рабле, Челлини и Леонардо да Винчи, как инициатор строительства роскошных дворцов в Шамфоре, в Сен-Жермен и Фонтенбло, как организатор экспедиции Жака Картье к берегам Канады, но прежде всего этот персонаж запомнился как блестящий рыцарь, жаждущий подвигов и бранной славы, а в итоге вполне удовлетворившийся славой неутомимого оплодотворителя придворных дам.
Он превратил королевский двор в некую помесь гарема и публичного дома, помесь довольно странную, впрочем, под стать хозяину. Как говорили тогда, «он превратил французских баронов в своих лакеев, а их жен — в одалисок». Собственно говоря, не всех баронов, а только тех, кто стремился к придворной карьере, кто хотел жить в Лувре на всем готовом, ни за что не отвечая и в то же время обладая вполне реальным влиянием, которое приносило немалые барыши.
Так что, за все это не нужно было платить?
И не следует усматривать здесь трагедию подневольного человека.
Придворными становятся только лишь по доброй воле, а скорее по недоброй, желая отхватить кусок пожирнее и не останавливаясь ни перед чем на этом пути, где дорожными указателями могли бы быть: «Клевета», «Вероломство», «Ложь», «Лесть», «Подкуп», «Лицемерие» и т.д. и т.п. Так что не стоит сочувственно вздыхать, читая о моральных страданиях униженного и «обесчещенного» царедворца. Невозможно обесчестить того, у кого нет этой самой чести.
КСТАТИ:
«Человеку невозможно жить честно и в то же время в достатке и уважении».
Франциск I заставил всех желающих называться придворными, и при этом имеющих красивых жен или дочерей проживать непременно в Лувре. Кроме них, по свидетельствам современников, в Лувре проживала масса дам, преимущественно жен всякого рода чиновников. У короля имелись ключи от всех комнат дворца, так что он мог беспрепятственно навещать любую из них. Естественно, далеко не все мужья были в восторге от такого положения, но свое отношение к нему держали при себе.
Известно, правда, что один из придворных пригрозил жене смертью, если она отдастся королю. Узнав об этом, Франциск как-то ночью ворвался в его спальню с мечом в руке и попросту вышвырнул из постели, а сам тут же занялся его женой. С тех пор, как сообщает хронист, эта дама наконец-то обрела душевный покой, так как муж не только не препятствовал ее любовным играм с королем, но и всячески им способствовал.
КСТАТИ:
«Благородно только то, что бескорыстно».
Английский коллега Франциска Первого — скандально известный, одиозный Генрих VIII (1491—1547 гг.), беспощадный и безоглядный тиран. Нужно заметить, что его тирания носила сугубо личный характер, т.е. она была основана исключительно на скверности характера, а не на государственной пользе или, скажем, на агрессивной религиозности.
Впрочем, его многочисленным жертвам от этого легче не становилось.
Рослый, импозантный, энергичный, он в первые годы своего правления пользовался всеобщим расположением, а это, при недостатке самокритичности и воображения, способно сыграть злую шутку с кем угодно, и Генрих VIII не стал исключением из общего правила.
В 1509 году он женился на Екатерине Арагонской, вдове своего брата Артура. Так как формально он с ней состоял в родстве первой степени по боковой линии, то для заключения брака требовалось специальное разрешение Папы Римского. Учитывая то, что невеста была дочерью короля Испании Фердинанда II Католика, чье прозвище говорило само за себя, а жених был настолько ревностным католиком, что даже написал книгу, обличающую Лютера и его еретическое учение, Папа дал разрешение на этот брак и, кроме того, присвоил Генриху VIII почетный титул «Защитник веры».
Они прожили вместе около двадцати лет. Конечно, любвеобильный Генрих «осчастливил» за это время не одну сотню женщин, к чести своей, не делая различий между скотницами и герцогинями, но конфликтов между супругами, по крайней мере из-за этого, не наблюдалось.
И продолжалось бы все это неизвестно сколько времени, если бы не появилась во дворце новая фрейлина, очаровательная насмешница Анна Болейн. Девушка была очень не проста, ни по происхождению, ни по образу мыслей, ни по опыту придворной жизни, который она приобрела в ранней юности при французском дворе (Франциска I, между прочим). Короче говоря, девица, как говорят, не промах.
Есть данные, на которые ссылался Виктор Гюго, о том, что у Анны Болейн было шесть пальцев на левой руке. Возможно, эта деталь не имеет никакого значения, а возможно, означает очень и очень многое.
Так или иначе, юная леди Анна резко отличалась от привычных объектов королевской похоти, настолько резко, что король вдруг проникся мыслью сделать ее своей законной женой. Эта совершенно нелепая мысль завладела всем его существом, и он со всей решительностью начал воплощать ее в жизнь.
Разумеется, Анна Болейн, вдруг увидевшая вполне реальную перспективу стать королевой Англии, лезла из кожи вон, чтобы приблизить этот вожделенный миг.
Когда Генрих VIII начал хлопотать перед Папой о разводе с Екатериной Арагонской, тот уклонился от принятия решения по этому вопросу, не желая ссориться из-за сексуальной блажи «этого борова» с императором Священной Римской империи, племянником Екатерины Арагонской.
Генрих продолжал настаивать на разводе, аргументируя свою настойчивость муками совести, не позволяющей ему, верному и доброму католику, состоять в незаконном браке с вдовой своего брата, то есть со своей родственницей.
Папа продолжал уклоняться от прямого ответа на поставленный вопрос, и вот тогда в Англии произошла Реформация. Все эти глубинные исторические процессы и объективные причины — бред сивого мерина! Когда Генриху надоело ждать от Рима разрешения на развод, да еще когда при этом объект вожделения уклоняется от близости, ссылаясь на головную боль, которая пройдет только после венчания, нетерпеливый монарх воскликнул: «Ах, так? Какой-то там Папа Римский будет решать мою судьбу?! Да в гробу я его видал!» Или что-то в таком роде… И он объявляет себя главой Церкви на вверенной ему Богом территории. Вот так, ни больше, ни меньше!
Так в Англии состоялась Реформация и родилась Англиканская Церковь. Отныне была упразднена власть Папы, богослужение велось на английском языке, священники имели право жениться, звание епископа сохранялось, а звание монаха упразднялось. И не потребовалось никаких соборов, споров и подсчета голосов. Сказано — сделано.
Развод Генриха с Екатериной Арагонской был совершен с рекордной скоростью накануне его венчания с Анной Болейн.
Правда, вскоре после брачных торжеств пришлось казнить весьма известных людей, которые отказались принять только что сочиненную религию, таких как Томас Мор, кардинал Уолси и др., но это — детали, которые не омрачили семейного счастья короля.
Но довольно скоро это счастье поднадоело Генриху, и он начал подумывать о том, как бы избавиться от наскучившей красотки, которая мало того что проявляла недопустимую независимость суждений, так еще и родила девочку вместо обещанного мальчика.
Долго обдумывать что-либо было не в характере бравого короля и одновременно главы Англиканской Церкви, так что вскоре королева была обвинена в преступной связи с целой сотней мужчин и в организации заговора с целью лишения короля его драгоценной жизни.
Был организован громкий показательный процесс над группой «заговорщиков» из числа придворной знати, которые «признались» в том, что были еще и любовниками королевы и что она обещала якобы выйти за них замуж после благополучного убийства Генриха VIII.
Несмотря на абсолютное отсутствие каких бы то ни было улик, высокий суд приговорил несчастных к «квалифицированной» казни — повешению, снятию еще живыми с виселицы, сожжению внутренностей, четвертованию и обезглавливанию. Правда, король проявил особую милость к осужденным, заменив «квалифицированную казнь» простым отсечением головы.
Вот здесь-то Англию ожидал еще один сюрприз. Дело в том, что отсечение головы там осуществлялось при помощи секиры, тогда как в соседней Франции орудием палача был меч. Генриху меч показался предпочтительней примитивного топора, и поэтому он решил впредь отсекать английские головы тоже мечом. Действительно, чем английские головы хуже французских?
И вот нововведение решено было опробовать на нежной шее некогда обожаемой Анны Болейн. Ввиду отсутствия в Англии достаточно опытныхспециалистов пришлось заказать палача в Кале. Специальным кораблем его доставили в порт Саутгемптон, а затем, привезли в Лондон, где он с блеском продемонстрировал свое искусство. Головы у Анны Болейн как не бывало!
Большой, однако, забавник был этот Генрих VIII! В день казни Анны Болейн он обвенчался с некоей Джейн Сеймур, девушкой не очень хорошего происхождения, но и не такой самоуверенной и языкатой, какой была Анна Болейн.
Собственно, дело тут не в девушке, посредством которой король стал родственником сельского кузнеца, ладно, в конце концов, кузнеца, а не лакея или торговца, дело не в этом, а в том, что шел 1536 год, то есть прошло более 320 лет действия Великой Хартии вольностей, которой так гордились (и по сей день гордятся) англичане! Чем тогда гордиться, если вот так, запросто можно обвинить кого угодно и в чем угодно, а судьи послушно вынесут любой угодный деспоту приговор? Всякое бывало в Истории, так что не было бы в этом ничего из ряда вон выходящего, если бы тот же Генрих VIII,решив избавиться от поднадоевшей супруги, подсыпал ей в питье чего-нибудь «избавительного» или подослал верного человека, умеющего хорошо владеть кинжалом. Так нет же, устраивается смехотворный судебный процесс, насмешка над правосудием, над всеми английскими вольностями и законами, плевок в лицо палате лордов и т.д. И все это сходит с рук…
Азиатщина, причем самая дремучая.
КСТАТИ:
«Когда дикари Луизианы хотят сорвать плод с дерева, они срубают дерево под корень и тогда срывают плод. Таково деспотическое правление».
В ликвидации Анны Болейн принимал самое активное участие государственный секретарь Томас Кромвель, который оперативно сфабриковал криминальное дело против нее и «антинародной» группы любовников. Дело, конечно, было шито белыми нитками и развалилось бы во мгновение ока, если бы в тогдашней Англии имел место хоть слабый бы намек на правосудие или на чувство собственного достоинства у членов парламента, но тогда другого и не требовалось.
Кромвель очень много сделал для укрепления королевской власти и для придания ей того характера, который в полной мере проявился в деле Анны Болейн.
Генрих VIII, с одной стороны, высоко ценил помощь госсекретаря, но, с другой, эта помощь начала его раздражать. Подобно всем низким натурам, напрочь лишенным чувства справедливости, Генрих начал считать, что он и сам мог бы справиться с такими делами, а этот заносчивый умник теперь, видите ли, цены себе не сложит…
А тут еще вот такая незадача: Джейн Сеймур умирает при родах, успев, правда, подарить своему мужу наследника престола, но все же умирает, значит, возникает проблема поиска новой королевы. И тут Кромвель выступает с предложением, которое, по его словам, является универсальным ключом к решению множества задач. Он предлагает королю жениться на немецкой принцессе Анне Клевской. Этот брак должен стать залогом прочного союза с германскими государствами и германскими протестантами, что особенно важно ввиду образования мощной антианглийской коалиции в составе двух католических держав — Франции и Испании. Для Генриха все эти премудрости были раздражающе сложны, но сама идея женитьбы на «дебелой немке» пришлась ему по вкусу.
Дабы не покупать кота в мешке, решено было отрядить на родину невесты знаменитого живописца Ганса Гольбейна (1497—1543 гг.) с поручением зафиксировать внешность Анны и предоставить портрет на суд жениха.
Но художник — не фотограф, делающий снимки на документы. Великий Гольбейн изобразил на полотне то, что он скорее почувствовал, чем увидел воочию в этом образе, и когда Генрих VIII взглянул на портрет, решение жениться созрело тут же и бесповоротно.
 |
Вскоре невеста прибыла в Англию. Генрих галантно выехал ей навстречу, и вот в Рочестере, в тридцати милях от Лондона, они увиделись…
Первым желанием короля было тут же, собственноручно отрубить голову живописцу Гансу Гольбейну, так как невеста настолько отличалась от своего портрета, что видавший виды Генрих чуть не плакал от отчаяния и обиды.
Он заявил придворным, что никогда не женится на «этой кобыле», но потом изменил свое решение из боязни поссориться с немцами. Однако, как вскоре выяснилось, слухи об антианглийской коалиции Франции и Испании оказались сильно преувеличенными, так что, в принципе, отделаться от «кобылы» можно было достаточно просто и без особых дипломатических последствий.
Но прежде нужно было избавиться от Кромвеля. Сказано — сделано. Кромвель во мгновение ока оказывается узником Тауэра, его имущество конфисковывается, а все заслуги аннулируются ввиду открывшихся «фактов» ереси, государственной измены и прочих проявлений злокозненности.
Ему предлагается облегчить свою участь, подписав заявление о том, что король Генрих VIII неоднократно говорил в его присутствии о том, что «не исполнял своих супружеских обязанностей» по отношению к Анне Клевской, которая, исходя из этого, осталась в своем добрачном состоянии, а следовательно, не является женой короля в буквальном смысле этого слова. Несомненная ложь. Учитывая характер и наклонности Генриха VIII, просто невозможно предположить, будто он был настолько принципиален, что отказался от возможности хотя бы раз проинспектировать сексуальные способности «кобылы». Но дело не в этом.
Кромвель подписал все, что ему дали на подпись, после чего ему сообщили, что король в виде особой милости избавил его от повешения и сожжения на костре, разрешив ограничиться отсечением головы.
Вскоре его голову отсекли, а королеве объявили, что она разведена, правда, с назначением ей пенсии в 4 000 фунтов стерлингов и присвоением почетного звания «сестры короля».
А Генрих VIII незамедлительно женился на восемнадцатилетней Екатерине Говард, которая менее чем через два года после свадьбы была обезглавлена по обвинению в развратном поведении, несовместимом со званием королевы Англии.
Далее началась череда казней разного рода государственных преступников и еретиков. Парламент принял специальный билль, согласно которому осужденных католиков надлежало вешать, а вот лютеран — сжигать заживо.
Считается, что за годы правления Генриха VIII было повешено не менее 72 000 человек, только повешено, не считая сожженных заживо и обезглавленных.
Его последняя, шестая жена, Екатерина Парр, едва не угодила на эшафот за какое-то высказывание, вызвавшее неудовольствие ее кровожадного супруга.
Сам-то он себя таковым не считал.
КСТАТИ:
«Если Бог все знает и может отвратить всякого заблудшего от заблуждения, то почему он этого не делает? И почему, если Бог не отвращает от заблуждения, то грех падает не на Бога, а на человека?»
Вопрос, конечно, любопытный, но, на мой взгляд, аморальный: если человек не в состоянии удержаться от неблаговидного поступка, то пусть вся ответственность падет на его голову, а не на чью-то чужую, тем более голову Бога. С другой стороны, хорошо было бы, если бы Бог останавливал таких как Борджиа или Генрих VIII в самом начале их убийственного пути. Хорошо бы. Но, опять-таки, если многие тысячи окружающих терпят вот такое, то, может быть, так им и надо?
И вот что самое, пожалуй, печальное: все эти «многие тысячи окружающих» совершенно одинаковы в своих проявлениях независимо от времени, страны, религии и любых других условий. Вот они-то и создают тот вакуум, который непременно заполняется деспотами, а потом они страдают от беспредела власти, ненавидят ее, воспевают подвиги сопротивляющихся ей бандитов типа Робин Гуда или Стеньки Разина, с нетерпением ждут избавителя, который приходит только лишь затем, чтобы занять место предыдущего деспота, да так занять, чтобы эти «многие тысячи» с теплым чувством вспоминали о не таком уж плохом былом…
КСТАТИ:
«Решения проблем могут умирать. Сами же проблемы остаются вечно живыми».
Экзотический персонаж. Правитель ацтеков Монтесума II Младший (1466—1520 гг.).
Став главой государства, он сосредоточил в своих руках гражданскую, военную и религиозную власть.
Сразу же после инаугурации Монтесума приказал отстранить от дел всех тех, кто служил его предшественнику, абсолютно всех, включая курьеров, слуг, старейшин общин и т.п.
Все бы ничего, но только там, в доколумбовой Мексике, «отстранить от дел» означало — «ликвидировать», что и было сделано со всем тщанием.
Монтесума поставил перед собой задачу объединения всех племен, населяющих огромную страну под верховенством ацтеков. Понятное дело, эти племена вовсе не сгорали от желания обрести статус рабов, поэтому «святое дело объединения» сопровождалось постоянными военными походами, многими тысячами погибших защитников племенной независимости и столь же многими тысячами пленных, предназначенных для жертвоприношений грозным ацтекским богам.
ФАКТЫ:
Мексиканские жрецы доколумбового периода в отправлении религиозных обрядов достигали такого уровня холодной жестокости, который в свое время потряс даже испанских конкистадоров, людей далеко не милосердных и знакомых с методами европейской инквизиции.
Храмы были уставлены страшными идолами, окрашенными человеческой кровью. Капища бога Вицлипутли украшались черепами принесенных ему в жертву людей. Полы и стены этих капищ были покрыты толстым слоем засохшей крови. Перед статуей этого божества всегда лежало человеческое сердце, еще хранившее тепло своего бывшего обладателя. Понятно, что сердца постоянно обновлялись… Жрецы носили одеяния, сшитые из человеческой кожи. Обряд жертвоприношения проходил следующим образом. Главный жрец направлялся к жертвеннику, держа в руке большой нож, выточенный из куска кремния; за ним шел второй жрец с деревянным ошейником, а еще четверо жрецов замыкали процессию.
Четверка замыкающих останавливалась по обе стороны большого пирамидального камня. На этот камень клали человека таким образом, что вершина пирамиды давила ему на поясницу, и тело получало изгиб, облегчающий вспарывание живота.
Четверо жрецов держали жертву за руки и за ноги, пятый надевал ей на шею деревянное кольцо, а затем главный жрец каменным ножом вспарывал живот и, вырвав из груди жертвы сердце, посвящал его Солнцу.
Процедура была многочасовой, так как Солнцу требовалось посвятить не менее полусотни сердец.
Мы привыкли читать о жестокостях испанских конкистадоров, но ради элементарной справедливости следует заметить, что те жестокости, с которыми они столкнулись при первом же знакомстве с мексиканскими религиозными обрядами, не шли ни в какое сравнение с их собственными.
Во время одного из самых первых своих завоевательных походов Монтесума неожиданно приказал главному военному вождю срочно возвратиться в столицу и обезглавить всех воспитателей его детей, компаньонок многочисленных жен, а также других дворцовых женщин, чтобы тут же заменить их новыми. Зачем? А чтобы проверить, насколько оперативно и точно исполняются его приказы, не более того.
Вот этого уже не требовали религиозные правила. Это была сугубо частная инициатива человека, наслаждающегося безграничной властью над себе подобными.
Он покорял соседние племена с какой-то болезненной жестокостью, которая вызывала изумление даже у его сподвижников, отнюдь не страдающих альтруизмом.
Монтесума часто (и совершенно добровольно) исполнял обязанности главного жреца при жертвоприношениях (то есть именно он вспарывал живот жертвы).
Однажды, после усмирения непокорного племени уэшотцинков, было устроено массовое жертвоприношение военнопленных, поразившее всех приближенных Монтесумы своей неоправданной жестокостью и нарушением установленного ритуала. Пленных разделили на три группы. Первая была принесена в жертву обычным способом (рассекание груди и вырывание сердца). Вторую группу сначала поджаривали на медленном огне, а затем уже лишали сердец, а третью расстреливали из луков. Монтесума был очень доволен, но в народе пошли разговоры о том, что жертвоприношение — вовсе не казнь, так что был утрачен священный смысл древнего ритуала. Конечно, эти разговоры велись глухим шепотом, но сам факт их возникновения был симптомом, на который следовало бы обратить внимание. Но Монтесуме было не до того: поступили сведения о появлении каких-то таинственных пришельцев, в которых жрецы, посоветовавшись, признали богов, покинувших Мексику много столетий назад и пообещавших вернуться когда-нибудь. Это был отряд испанских конкистадоров.
Испанцы повели себя так, что очень скоро утратили ореол божественности и стали восприниматься лишь как жестокие и алчные незваные гости. И вот тут-то великий вождь, военачальник и жрец Монтесума II продемонстрировал полный паралич воли и элементарного достоинства первого лица государства. Он призвал своих соотечественников смириться и покорно принять власть завоевателей, за что был этими же соотечественниками побит камнями, до смерти, разумеется.
КСТАТИ:
«Кто кажется страшным, тот не может быть свободным от страха».
Еще один страшный человек с правами казнить и миловать — внук Ивана III и Зои Палеолог, великий князь «Всея Руси» Иван IV, прозванный Грозным (1530—1584 гг.).
Если рассматривать эту личность в контексте всех реалий его эпохи, то мы не увидим ничего из ряда вон выходящего ни в злодействах, ни в тех деяниях, которые историки традиционно считают положительными. Обыкновенный деспот эпохи Возрождения, четко вписывающийся в рамки понятия «типичный представитель самодержавной власти».
И он никак не более Грозный, чем, скажем, Генрих VIII или Карл IX, просто таков сложившийся стереотип. А то, что его образ был так горячо любим Сталиным, увидевшим в нем своего рода предтечу, можно объяснить, во-первых, тем, что он свой, отечественный, и, во-вторых, недостатками сталинской эрудиции. Например, Филипп II, «король-паук», покровитель испанской инквизиции, замучил и отправил на тот свет гораздо больше безвинных людей, а Генрих II был куда более взбалмошным и преуспевшим в садистских проявлениях, о чем, возможно, не читал ни Сталин, ни кто-либо из его пролетарско-местечковых референтов.
А грозный Иван Васильевич, как и все представители этой социальной группы, в детстве мучил животных, издевался над слугами и ставил первые сексуальные опыты над подневольными женскими телами.
16 января 1547 года его венчали на царство, и с этого венчания титул царя на Руси стал считаться легитимным, так как был подтвержден специальной грамотой Константинопольского патриарха. Грамота, правда, была получена лишь через четыре года после акта венчания на царство, но — как говорится, лучше поздно, чем никогда. Вскоре Иван женился на Анастасии Романовой, с которой прожил тринадцать лет, не отмеченных особо важными событиями, если, конечно, не считать таковыми страшный пожар, уничтоживший практически всю Москву, кроме Кремля, и, как последствие пожара — уничтожение всех родственников царя по материнской линии, обвиненных в поджоге, причем уничтожал не кто-нибудь, а народ, убитый горем, оставшийся без крова и кипящий жаждой мести виновникам несчастья, которые, конечно же, должны быть, иначе, если таковые не отыщутся, тогда вообще… безнадега… выходит, Божья кара, а она не бывает несправедливой… нет, лучше все-таки отыскать супостатов…
Универсальная формула реакции масс на негативное явление.
В окружении царя появились новые люди, которые, конечно же, по моде всех времен и народов, были рано или поздно казнены.
При этом нестерпимо терзают алчное воображение земли, лежащие вокруг, лежащие в общем-то плохо, а посему сам Бог велел их подобрать под царскую руку, а то как-то непрестижно звучит, если честно: «Царь Московского княжества»…
16 июня 1552 года Иван выступил в поход на Казань, столицу татарского ханства, а 2 октября, после осады и штурма, город был подвергнут ужасной резне. А, собственно, кто и когда видел иную,
В 1556 году московское войско захватывает Астрахань и, естественно, всю территорию Астраханского ханства и поволжские степи до самого Каспийского моря.
Затем начинается вялотекущая Ливонская война, которая в начале своем отмечена была взятием Нарвы и еще двадцати городов, а затем забуксовала, потому что Дания, Польша и Швеция осознали, что произойдет после того, как азартный русский царь покончит с относительно слабым Ливонским орденом, и укрепили линию сдерживания его молодых амбиций. Нормальный процесс мировой Истории, которой скучно без конфликтов…
КСТАТИ:
«Когда, наконец, человечество дождется эпох, в дни которых ложно понятая мужественность не будет превращать мужчину в свирепого захватчика, в кичащегося своей грубостью драчуна, в помесь индюка с тигром?»
 |
Наверное, никогда. Да и кто знает, что будет с миром, если из мужского начала исключить такое понятие как «свирепый захватчик»? Иное дело — мера, процентное содержание этого понятия в характере мужчины, как, например, содержание кислорода в воздухе. Если его больше, чем необходимо для жизни, это создает угрозу. Все дело в пропорциях.
Но есть и другое свойство, сопутствующее в некоторых случаях мужской агрессивности как ее компонент. Вот здесь-то самое, казалось бы, незначительное нарушение необходимых пропорций приводит к ужасающим последствиям, зачастую непоправимым. Речь идет о жестокости.
Сама по себе жестокость является совершенно необходимым элементом многих человеческих проявлений, называясь при этом «разумной жестокостью».
Она понятна и естественна, если занимает должное место, не становясь самоцелью и объектом любования, как это воплотилось в характере Ивана Грозного. Ведь одно дело — отдать приказ о чьей-либо казни, и совсем другое — любоваться этой казнью, вникать во все подробности агонии, смаковать их…
Во все времена естественным последствием взятия войсками какого-либо города было его разграбление — плата победившим воинам за перенесенные опасности, раны, горечь утрат своих товарищей и т.п. В некоторых случаях командующий отдавал приказ убить какую-то часть населения взятого города (иногда — большую). Не будем рассматривать нравственный аспект ситуации — он абсолютно понятен и однозначен, как понятна ее мотивация: плата победителям, наказание за упорное сопротивление, устрашение жителей других городов противника, устранение данной административно-военной единицы с поля военной игры…
Ну, а если город не оказывает сопротивления? Если он гостеприимно распахивает навстречу войску противника свои ворота? Если за всем этим не кроется какая-то хитроумная западня, а все происходит так, как декларируется, с искренними проявлениями полной покорности пришельцам, как тогда расценивать резню, акты вандализма (не грабежа, а вандализма!), массовые изнасилования?
Тогда на первый план выступает личность командующего победившим войском, потому что все происходящее в данном городе санкционировано им и ни кем иным. Ссылки на то, что солдат — существо грубое, и поди останови его в захваченном городе — чушь, нелепая выдумка недобросовестных биографов этого командующего. Что бы там ни происходило, но публичный расстрел на городской площади пяти-шести зачинщиков насилия или просто насильников, пойманных на месте преступления, — надежнейшая гарантия того, что отныне город может спать спокойно. Следовательно, проблема состоит не в солдатском произволе, а в особенностях личности того, кто принимает решения.
Все вышесказанное в полной мере касается многих подробностей царствования Ивана Грозного, которого одни историки считают кровавым чудовищем, русским Нероном, другие — воплощением идеи безграничной свободы, третьи — трусливым и недалеким тираном, четвертые — рачительным хозяином и приумножителем богатств земли Русской, пятые — психически нездоровым человеком, глубоко страдающим от проявлений своего страшного недуга в минуты прояснения сознания и т.д.
Прежде всего, конечно, нужно, оценивая чьи бы то ни было деяния, отрешиться от понятий «свой» или «чужой». Подросток, зарезавший прохожего за то, что тот отказался дать ему закурить, совершил деяние, заслуживающее смертную казнь, и не имеют никакого значения ни страна, где это произошло, ни семья, в которой он воспитывался, ни его оценки в классном журнале. Значение имеет, в данном случае, преступление, а не тот, кто его совершил…
Биографию Ивана Грозного можно разделить на два периода: до смерти его первой жены Анастасии и после этой смерти, когда миру вдруг предстал совершенно иной, новый человек, у которого, если сравнивать его с прежним Иваном IV, как говорится, «поехала крыша». Да, он проводил довольно жесткую политику, да, он — дитя своего времени, и потому нет нечего удивительного в его поощрении казанской или астраханской резни после взятия этих городов, как нет ничего удивительного в казнях политических противников, явных или мнимых. Там, по крайней мере, наличествовали логически обоснованные мотивы, но вот после смерти жены его поведение во многом можно назвать неадекватным.
Он начинает убивать всех подряд, и лично, и с помощью своих подручных. Его жертвами стали: преподобная Мария с пятью сыновьями, Иван Шишкин с женой и детьми, князь Дмитрий Овчинин, князь Дмитрий Кашин (убит на пороге церкви), князь Михаил Репнин (убит во время чтения Евангелия), Дмитрий Курлятев с женой и малыми детьми, священник Благовещенского собора Сильвестр, советник Алексей Адашев, а также князья суздальские, ростовские, ярославские, полоцкие и т.д.
В то же самое время он заявляет: «Чтобы охотиться на зайцев, нужно множество псов; чтобы побеждать врагов — множество воинов; кто же, имея разум, будет без причины казнить своих подданных!»
В том-то и дело, что без причины, просто так, от плохого настроения или головной боли. Бесспорно, для поддержания должного порядка в стране казни были необходимой мерой, но неужели трудно было находить людей, действительно заслуживающих наказания за свои деяния? Думается, что их было вполне достаточно, и тем не менее…
Он хорошо понимал необходимость демонстрации жестокости, которая как бы подтверждает естественность, природность существующей власти. Например, в Османской Империи была своеобразная норма, — 250 публичных казней в месяц, — которая была призвана поддерживать на должном уровне престиж власти.
Видимо, масса усматривает в жестокости своего правителя нечто подспудно желаемое ею, вынашиваемое, но нереализованное из-за страха наказания или вообще недостатка силы духа.
КСТАТИ:
«Есть много жестоких людей, которые чересчур трусливы для жестокости».
Так уж повелось, что масса склонна принимать гуманность правителя за его слабость, а вот чего-чего, но слабости она не простит своему «отцу». Кроме того, гуманность абсолютно чужда массе, поэтому при контакте с ее (гуманности) проявлениями масса испытывает лишь негативные эмоции, что нельзя не учитывать тем, кто собирается его руководить.
Например, с точки зрения Зигмунда Фрейда, психология лидера резко отличается от психологии других членов социальной группы. Он не имеет эмоциональных привязанностей к кому-либо, кроме себя. Он никого не любит, кроме себя, он самоуверен и независим, он обладает определенными качествами, непостижимыми на уровне бытового сознания, и поэтому он становится общим идеалом — «Я».
Ему вовсе не обязательно быть лучше, умнее, благороднее других, но все его поступки, даже явно негативные, воспринимаются массой в совершенно ином ключе, чем если бы их совершил кто-то из «простых смертных».
А если ко всему этому добавить еще и мощную харизму, которой, несомненно, обладал царь Иван Васильевич…
ФАКТЫ:
В июле 1570 года он устроил в Москве очередную образцово-показательную казнь. На глазах у огромной толпы, запрудившей Китай-город, в течение двух часов две сотни человек были разрублены на части, распилены пополам или сварены живьем. Дети и жены казненных были тут же утоплены, как котята.
И вот царь поднимается на липкий от крови эшафот и обращается к толпе:
— Народ! Скажи, справедлив ли мой суд? «Народ» разразился радостными криками:
— Справедлив! Справедлив, батюшка-царь! Дай Бог тебе долго жить!
Но и это еще не все. Посаженный на кол боярин, умирая в нечеловеческих муках, присоединился к ликующему хору:
— Боже, храни царя! Даруй ему счастье и спасение!
Этот случай универсален. Такого уровня «народ» совершенно одинаков в своих проявлениях и в России, и в Испании, и в Германии, и в Мексике, конечно, только такого уровня, называемый не иначе как «чернью». Между прочим, и во все времена…
В конце 1564 года царь демонстративно покидает Москву и поселяется в Александровской слободе, откуда он присылает две грамоты: одну — Думе, вторую — для принародного оглашения населению Москвы. Оба документа обвиняли бояр в сопротивлении власти, корыстолюбии и государственной измене, а посему на Думу, дворян, священников и прочие власти объявлялась опала. А вот на «простой народ» — никакой опалы и никакой царской обиды, только от дел царь удаляется…
Парод пришел в ужас и тут же снарядил посольство, которое должно было умолить государя вернуться, при этом заверив его во всесторонней поддержке в его святой борьбе с врагами Отечества.
Получив таким образом неограниченные полномочия, Иван развернул невиданный доселе массовый террор. Был создан и надежный режущий инструмент — особая структура, получившая название
Страна была разделена на две неравные части. Одна из них, меньшая, но более богатая, поступала во владение новой структуры и получила название «опричнины», а другая — «земщины». Опричнине, кроме лучших улиц Москвы, достались 20 городов с уездами, причем самые богатые, ну а земщине— поболее, конечно, но победнее, похуже.
Соответственно и все подданные царя, а если точнее, его рабы (как заведено в восточных деспотиях) были четко разделены на первый сорт — опричников, и второй — всех остальных.
Первый сорт имел огромные преимущества перед вторым буквально во всех сферах бытия и. разумеется, широко использовал эти преимущества в соответствии со своими моральными качествами. А качества, конечно, были именно того уровня, который соответствовал этим людям с улицы — в полном смысле этого слова.
Это были подонки общества, беспредельщики, выражаясь современным языком, которые вдруг получили неограниченную власть над тысячами и тысячами земцев, которых можно было совершенно безнаказанно грабить, убивать, подвергать всяческим унижениям — по наскоро сфабрикованным обвинениям, а то и вовсе без оных. Чем не светлая мечта отребья всех народов и во все времена?
Это была шоковая терапия «от Ивана Грозного», и, надо сказать, организована и проведена она была блестяще. Как он, должно быть, наслаждался, поставив над чванливыми боярами безродную чернь, которая могла, при желании, отнять их имущество, изнасиловать жен и дочерей, пытать, убивать… Это весьма напоминает ситуацию в сталинских лагерях, когда политических заключенных, этих профессоров, главных инженеров, знаменитых артистов, генералов, содержали вместе с ворами и убийцами, которые всячески изгалялись над ними, чтобы, по замыслу тюремщиков, сломить, растоптать волю политических, лишить их самого главного достояния — духа.
Эта организация по форме напоминала рыцарско-монашеский орден. Члены ее носили грубые мрачные одеяния и назывались
И развлекались в соответствии со своими душевными качествами и наклонностями. Их трапезы превращались в дикие оргии в духе Калигулы, когда «братья» во главе со своим «игуменом» предавались безудержному разврату, объектами которого были не только многочисленные женщины, но и мужчины, в частности боярин Басманов, который на царских попойках щеголял в женском платье и исполнял любые капризы своего своенравного властелина.
Думаю, это грубейшая напраслина — называть Ивана Грозного извращенцем на основании хотя бы эпизодов с Басмановым. Царь был абсолютно чужд гомосексуализму, а содомия с Басмановым основана прежде всего не на сексуальном гурманстве, а на унижении в его лице всего боярства, которое он, выражаясь тюремным языком, «опускал» таким образом, да еще и на глазах у представителей социального дна.
А в отношении ориентации — здесь было все в порядке.
Второй женой Ивана Грозного была черкесская княжна Мария Темгрюковна, женщина красивая, своенравная, склонная к жестоким забавам. Ей нравилась травля собаками или медведями приговоренных «врагов» царя, как нравились и сцены групповых изнасилований с участием бравых опричников и боярских дочерей.
У нее были любовники, и царь знал об этом, однако не препятствовал ее развлечениям, будучи сам погружен в омут дикого сладострастия. Он не возражал против того, что в его отсутствие царицу часто навещал опричник Афанасий Вяземский, но когда Мария связалась с дворянином Федоровым, и они замыслили заговор, Иван, узнав об этом, зарезал Федорова, а Марию приказал запереть в Кремлевском дворце навечно. Вскоре она умерла при невыясненных обстоятельствах.
Третьей кандидаткой в царские жены стала боярышня Марфа Сабурова, рослая, румянощекая красавица, которая вдруг стала буквально таять на глазах во время приготовлений к свадьбе. Возникло серьезное подозрение касательно отравления ее родственником умершей Марии, Михаилом Темгрюком. Иван все же остался верен своему слову и обвенчался с уже полумертвой Марфой. Через две недели она скончалась. Михаила Темгрюка обвинили в убийстве и посадили на кол.
Четвертая жена, Анна Колтовская, была неглупа, любознательна, ненавидела опричнину и обладала необузданным темпераментом.
Возможно, набор и соотношение этих качеств импонировали царю, потому что некоторое время он полностью находился под ее влиянием, забросив все государственные дела и опричнину в том числе.
Но случилось явно водевильное происшествие, резко повернувшее ход событий. Анна, будучи натурой страстной, время от времени имела сторонних сексуальных партнеров. Одним из них был князь Ромодановский, который проникал на женскую половину дворца, переодевшись в соответствующее платье и называясь при этом «боярышней Ириной». Иван несколько раз видел эту «Ирину», мельком, правда, но отметил про себя и статность красавицы, и ее румяные щеки, и черные брови… Короче говоря, а почему бы и нет? И вот когда «Ирина» в очередной раз пришла к его жене, ее встретили двое дюжих опричников, которые без лишних разговоров препроводили прямо в царскую спальню, где немедленно обнажили, дабы государь не тратил свое драгоценное время на раздевание скромницы…
Ромодановского Иван убил тут же, на месте, а коварную Анну отдал в пользование опричникам, у которых были веские причины отомстить ей за то, что она настраивала Ивана против них, да и вообще за брезгливую надменность. Вволю натешившись, опричники постригли ее в монахини.
Брак с княжной Марией Долгорукой был, пожалуй, самым кратковременным. Буквально на следующий день после венчания новобрачную, связанною и с кляпом во рту, привезли в санях на полузамерзший пруд. Царь сел в заранее приготовленное кресло на берегу, а его «пономарь» Малюта Скуратов объявил всему честному народу, густо облепившему место действия, что царица оказалась не девственницей, посему оскорбленный в своих лучших чувствах государь передает ее на волю Божью. Затем Скуратов хлестнул лошадь, и она вместе с санями провалилась под лед…
Некоторое время состояла в его женах семнадцатилетняя красавица Анна Васильчикова, которая внезапно скончалась по необъяснимой причине.
Далее был страстный период Василисы Мелентьевой, на которой Иван женился, предварительно отравив ее мужа. Став царицей, Василиса проявила явно садистские наклонности, помыкая супругом, унижая его, отказывая в интимной близости и при этом заставляя прислуживать себе в качестве камеристки. И он, Грозный, безропотно терпел все это! Что ж, каждый волен выбирать для себя удовольствия сообразно своим вкусам и капризам, но понятие «удовольствие» враз приобрело свой общепринятый смысл, когда царь застал у своей повелительницы ее любовника Ивана Колычева.
…Их похоронили рядом, в двух гробах, но, как поговаривали тогда, в отличие от Колычева, Василиса была похоронена живой…
Последней его женой была боярская дочь Мария Нагая. Правда, уже будучи ее законным супругом, Иван Грозный решил попытать брачного счастья с племянницей английской королевы Елизаветы I, так как проникся мыслью породниться с королевский династией и поднять свой престиж, поколебленный опустошительным разгулом опричнины и военными неудачами в Ливонии и на татарском фронте, потому что взятие Казани и Астрахани вовсе не означало решения проблем взаимоотношений с татарами, скорее напротив…
Но сватовство сорвалось, а Мария Нагая родила царю сына, которого нарекли Дмитрием. Мальчика ждала трагическая судьба: страдая припадками падучей, он в отроческом возрасте (согласно официальной версии) случайно поранился ножом и умер. Эту смерть принято приписывать стараниям Бориса Годунова, устранившего препятствие на пути к трону. Что ж, весьма вероятно…
Между прочим, известно, что царевич Дмитрий еще в раннем детстве испытывал наслаждение при виде предсмертных судорог овец, кур и гусей, которых резали в его присутствии. Кто знает, какой кровавый след оставил бы в Истории этот прелестный малыш, если бы судьба не распорядилась своевременно вывести его со сцены…
Да, его батюшки для той эпохи было вполне достаточно.
Характерный эпизод: вдруг, ни с того ни с сего вбив себе в голову, что престарелый конюший намеревается свергнуть его с престола, Грозный приказал ему одеться в царский костюм и взгромоздиться на трон. Затем царь начал униженно кланяться ему и ползать на коленях перед троном, приговаривая: «Здрав будь, Государь Всея Руси!», а натешившись самоунижением, встал с колен и сказал: «Вот ты и получил то, чего желал. Я сам сделал тебя государем, сам же и свергну тебя с престола». После этого Иван Грозный зарезал его и приказал бросить тело голодным собакам.
КСТАТИ:
«Царь Иван Васильевич царствовал так, как и следует царствовать… Он, как говорят, забавлялся тем, что вышибал мозги своим рабам, насиловал их жен и дочерей, калечил их собственными руками, рвал на части и сжигал… Он убил своего сына. Подавляя восстание в Новгороде, он приказал сбросить в реку три тысячи человеческих трупов. Он был российским Нероном!»
Новгород — особая статья. Во-первых, там не было никакого восстания, а было лишь обвинение в
Иногда думаешь о том, что, может быть, не следует обвинять Александра Невского в коллаборационизме, когда он активно сотрудничал с Золотой ордой, не заботясь о судьбе Москвы, но любой ценой оберегая Новгород от регрессивного влияния азиатских кочевников.
Москва всегда, во все времена, носила на себе печать азиатщины, и такое явление, как деспотия Ивана Грозного было, как мне кажется, вполне нормальным для Москвы и невозможным для Новгорода. И дело тут не в количестве убиенных, а в самой структуре отношений «царь — народ». Новгородцы могли быть подданными, покорными, смирными, дисциплинированными, но все же подданными, трезво осознающими, как все самодостаточные люди, понятие «необходимость», что дает ощущение внутренней свободы, а вот москвичи были
Иван Грозный, наверное, осознавал это, и считая невозможным превращение истинно свободных людей в рабов, пришел к выводу об уничтожении Новгорода как явления.
Можно возвыситься над другими либо посредством собственных успехов, либо вследствие низведения до нужного уровня тех, других…
Иван Грозный избрал второе. В декабре 1569 года он с опричным войском двинулся из Александровской слободы сначала на Тверь, которой был учинен жестокий погром, а затем дальше, на Новгород…
ФАКТЫ:
«Вслед за убийством митрополита Филиппа приказал он грабить дотла тверского епископа, монахов и всех духовных. Граждане и купцы, ремесленники и другие стали надеяться, что грабежи не распространятся дальше. Они были вполне уверены в этом в течение двух дней, когда он прекратил убийства и грабежи, но по прошествии этого срока приказал великий князь врываться в дома и рубить на куски всю домашнюю утварь, сосуды, бочки, дорогие товары, лен, сало, воск, шкуры, всю движимость, свести все это в кучу и сжечь, и ни одна дверь или окно не должны были остаться целыми; все двери и ворота были отмечены и изрублены. Если кто-либо из грабителей выезжал из дома и не делал этого, его наказывали как преступника. Кроме того, они вешали женщин, мужчин и детей, сжигали их на огне, мучили клешами и иными способами, чтобы узнать, где были их деньги и добро…»
Да, среди опричников было немало иностранцев. Но дело не в этом. Следом за Тверью был, можно сказать, уничтожен Новгород, где были разрушены все хозяйственные и административные здания, разграблены огромные запасы дорогих товаров и убит каждый третий житель.
Вследствие этого приоритет в торговле и ремеслах перешел к Москве, а Великий Новгород вскоре превратился в обычный провинциальный город, былая слава которого ушла в область воспоминаний…
Та же судьба постигла древний Псков.
Вопрос первенства был однозначно и окончательно решен в пользу Москвы. А вскоре за Окой объявилось 120-тысячное татарское войско. Грозный спешно уезжает в Ростов, бросив Москву на произвол судьбы.
Столица (кроме Кремля) сгорела в один день. Тех москвичей, которые не погибли в огне, татары увели в плен.
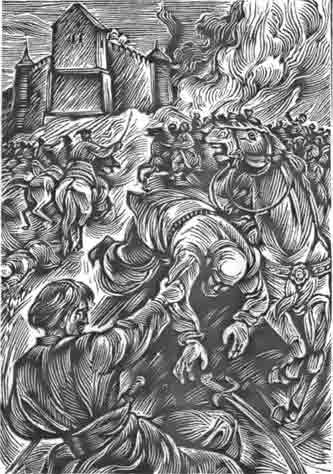 |
Военная удача решительно отвернулась от Грозного. В начале 1582 года он заключил перемирие с Польшей, отказавшись от притязаний на Ливонию, а в мае 1583 года — со Швецией, и тоже отнюдь не на почетных условиях.
Однако, в противовес этому негативу, наконец-то пришло известие о победе Ермака над аборигенами Западной Сибири.
Время Ивана Грозного характеризует бурный процесс захвата территорий соседних государств, который историки лицемерно называют «присоединением». Казань, Астрахань, Сибирь… Естественно, такой поворот событий не входил в планы «присоединяющихся». Однако, ничего не поделаешь: колонизация есть колонизация…
Едва ли этот процесс можно признать положительным для усиления могущества Руси. Когда западные страны образовывали свои колонии, они использовали аборигенов как основную производительную силу, а наместники и небольшие военные отряды обеспечивали соблюдение установленного порядка, не привлекая туда продуктивное население метрополии.
Русское самодержавие действовало по-иному, вытесняя местное население и переселяя на новые земли представителей основной национальности, тем самым дробя и распыляя ее потенциал.
Потенциал нации является неизменной величиной, и наибольший успех в ее развитии достигается в основном за счет концентрации этого потенциала на пространстве, обеспечивающем нормальную жизнедеятельность нации.
КСТАТИ:
«Когда государство не может достичь своей высшей цели, то оно растет безмерно. Мировая римская империя не представляет, в сравнении с Афинами, ничего возвышенного. Сила, которая должна принадлежать исключительно цветам, принадлежит теперь неимоверно вырастающим стеблям и листьям».
Количество, как известно, далеко не всегда автоматически переходит в качество.
А Иван Грозный скончался 18 марта 1564 года, расставляя фигуры на шахматной доске.
Символично, что и говорить…
Его несостоявшаяся родственница Елизавета I Тюдор (1533—1603 гг.), английская королева с 1558 года.
Дочь Анны Болейн и Генриха VIII, она более пяти лет провела в одиночной камере Тауэра, собственно, все время правления королевы Англии Марии Тюдор (1516—1558 гг.), которая решила на всякий случай упрятать за решетку свою младшую сводную сестру, имеющую такие же, как и у нее самой, права на английский престол.
Мария Тюдор была замужем за испанским королем Филиппом II (1527—1598 гг.), фанатичным ревнителем католической веры и преследователем ереси в любых ее проявлениях. Под его влиянием Мария жестоко преследовала протестантов, ввела в Англии инквизицию и подписала более 500 смертных приговоров на религиозную тему за недолгое время своего правления, тем самым заслужив прозвище «Кровавая».
Ее поведение, конечно, импонировало ее не менее кровавому супругу, однако он в 1558 году вернулся на родину, в Испанию, где было невпроворот дел по искоренению ереси, да и инквизиция что-то обленилась… Мария впала в глубокую депрессию, вследствие чего умерла 17 ноября 1558 года.
Елизавета прямо из тюремной камеры восходит на трон Великобритании. Этот день, 17 ноября, превратился в национальный праздник, в триумф протестантизма.
Елизавета восстановила англиканскую церковь, за что была предана анафеме папой Сикстом V, который, тем не менее, признал, что она «государыня большого ума». И это было действительно так. Ее правление отмечено бурным развитием торговли, промышленности, наук, искусств и ремесел. Она покровительствовала торговым кампаниям. При ее поддержке утвердилась на русском рынке Московская кампания, на Балтике — Эстляндская, Берберийская — в Африке, Левантийская — на Ближнем Востоке, в Индии — Ост-Индская и т.д.
 |
Разумеется, вокруг нее вился рой желающих разделить с ней трон, власть и успехи. Среди желающих не последнее место занимал овдовевший Филипп II Испанский, которому, видимо, импонировала мысль управлять одновременно Испанией и Англией из постели английской королевы, как это имело место при Марии Тюдор. Однако Елизавета была гораздо более цельной натурой, чем ее покойная сестра, и при этом ненавидела Филиппа II как зашоренного фанатика, не говоря уже о том, что она была убежденной англиканкой и не собиралась идти на какие-либо уступки в вопросах веры. Ее раздражала мышиная возня претендентов на роль мужа английской королевы, и, наверное, поэтому (хотя не исключены и другие версии) она объявила, что хочет остаться королевой-девственницей.
КСТАТИ:
«
Естественно, девственницей Елизавета была только номинально. У нее были фавориты, с которыми она поддерживала отнюдь не платонические отношения, так что звание «королева-девственница» существовало прежде всего для того, чтобы отгонять ретивых женихов. К чести Елизаветы следует заметить, что она — одна из очень немногих женщин в Истории человечества, которые не проявляли рабского благоговения перед институтом брака — источником неисчислимых бедствий всех внутренне свободных людей.
Это была одна из самых выдающихся женщин и государственных деятелей эпохи Возрождения. Елизавета, ко всем прочим ее достоинствам, владела латинским, греческим, французским, итальянским, испанским, немецким, голландским и шотландским языками, писала стихи, играла на различных инструментах, покровительствовала литераторам и театральным деятелям.
Вместе с тем, авторы министерских учебников часто ставят Елизавете в вину то, что она покровительствовала не только деятелям культуры, но и — прости, Господи! — пиратам, этим ужасным морским разбойникам.
Ну и что? Давайте освободимся от стереотипа: «свой — это хорошо, чужой — плохо». Эта женщина решила сделать Англию владычицей морей — и сделала то, что задумала, сделала блестяще, победоносно, по-королевски, одним словом. А кто кому мешал сделать Францию владычицей морей? Россию? Италию? Германию? Да хотя бы ту же Испанию, которая захватила во всем мире все, что можно и нельзя было захватить…
Желательно, конечно бы… но, увы, не до того было. Тут бы успеть организовать сеанс группового секса в Ватикане или в Александровской слободе, кого-то отравить, кого-то допросить с пристрастием. Все это, возможно, и нужно было делать, только вот решив для себя предварительно, что есть главное, основное, а что и подождать может…
КСТАТИ:
«Существенное должно сочетаться с приятным, но приятное следует черпать только в истинном».
Было бы сказано.
А этим всем было не до того, в отличие от Елизаветы, которая решила и сделала…
Главной соперницей Англии в морской торговле была Испания, владевшая бесчисленными колониями и запрещавшая кому бы то ни было торговать с этими колониями в обход испанского правительства. Издать запрещающий акт — дело нехитрое. Гораздо сложнее — проследить за его исполнением.
Знаменитый, непобедимый английский флот еще только строился, а пока Елизавета решала прибегнуть к помощи морских разбойников.
Как известно, эти «джентльмены удачи» считаются состоящими вне закона, а поэтому при неблагоприятном для них стечении обстоятельств всю команду захваченного пиратского корабля принято было вешать на реях — всех, от капитана до юнги. Елизавета же, выражаясь нашим государственно-уголовным языком, предоставляла им «крышу», так что в случае неудачи они могли предъявить грамоту, свидетельствующую, что податели ее — вовсе не разбойники, а моряки королевского флота Великобритании. А почему на мачте развевается «Веселый Роджер», черный флаг с белыми костями и черепом? Да так… юнга созорничал… получит за такую шутку десять горячих, не меньше, уж не сомневайтесь…
За такую «крышу» пираты, естественно, «отстегивали» королеве определенный процент с добычи. И она этого никак не стыдилась. Даже украсила свою корону бриллиантом, добытым под «Веселым Роджером». И ничего, он от этого не утратил своей чистоты.
КСТАТИ:
«Жемчужина, если она брошена в грязь, не станет более презираемой, и, если ее натрут бальзамом, она не станет более ценной».
Знаменитый пират Фрэнсис Дрейк (ок. 1540—1596 гг.) во главе небольшой флотилии достиг побережья Южной Америки и нанес неожиданный визит целому ряду колониальных портов, где как раз к этому времени были подготовлены большие партии золота для отправки в Испанию. «Конфисковав» это золото, Дрейк пересек Тихий и Индийский океаны, совершив, таким образом, второе после Магеллана кругосветное путешествие, и вернулся в Англию.
Вскоре испанский посол попросил у королевы Елизаветы аудиенции, и когда она приняла его в тронном зале в присутствии толпы разряженных придворных, он от имени своего монарха Филиппа И потребовал возмещения убытков, причиненных «королевскими пиратами». Королева была крайне удивлена таким требованием и сказала, со свойственной ей насмешливостью: «Его католическое величество Филипп Второй хочет, видимо, таким образом получить компенсацию за свой моральный ущерб при моем отказе стать его супругой. Но кто возместит мой моральный ущерб? Ведь сам факт сватовства Его величества способен скомпрометировать любую женщину, не говоря уже о христианской королеве, так что еще неизвестно, кто кому должен…» Посол поспешил откланяться под громкий хохот придворных.
Елизавета в тот же день посетила корабль Фрэнсиса Дрейка и посвятила его в рыцари, так что в Историю он вошел как «Сэр Фрэнсис Дрейк».
А Филипп II начал самым деятельным образом готовиться к вторжению в Англию, и вот летом 1588 года испанский флот в составе 130 кораблей с двадцатитысячным десантом, самоуверенно названный «Непобедимой армадой», вошел в пролив Ла Манш, где его уже ждал английский флот, в составе которого были, конечно же, отчаянные головорезы сэра Фрэнсиса Дрейка и других капитанов, сменивших «Черного Роджера» на флаг английских королей.
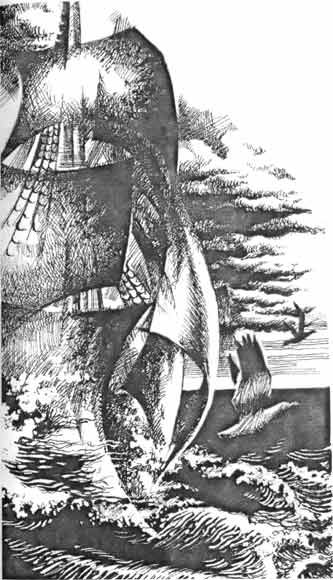 |
Сражение длилось почти две недели. Лёгкие, быстроходные английские суда массированным артиллерийским огнем вывели из строя большинство огромных испанских фрегатов, рассчитанных больше на транспортировку десанта, чем на боевую ситуацию, требующую маневренности и оперативности.
Остатки «Непобедимой армады» попытались уйти домой через Северное море, но сильная буря разбросала их и побила о скалы. Лишь несколько кораблей достигли родных берегов.
Реакцию Филиппа Второго на это поражение хронисты не описывают.
Так или иначе, но Англия отныне стала владычицей морей, что и требовалось доказать.
Елизавета торжествовала победу.
Некоторые историки и писатели, в частности Стефан Цвейг, склонны считать, что у Елизаветы был какой-то существенный изъян по части женской физиологии, чем и объясняются ее деловые качества как результат сублимации неизрасходованной по назначению половой энергии. Цвейг при этом ссылается на обличительное письмо ее оппонентки Марии Стюарт (1542—1587 гг.), которая заявила, что Елизавета физически «не такая, как все женщины».
Ну, во-первых, это заявила женщина, да еще и смертельно ненавидящая объект обсуждения, во-вторых, «не такая, как все женщины» — вовсе на означает
КСТАТИ:
«Какую чудовищную ситуацию создает синхронизация демографического взрыва с падением интеллектуального уровня!»
А со всем прочим у Елизаветы было все в порядке, о чем свидетельствует наличие нескольких блестящих фаворитов, которые, будучи допущенными до королевского тела, конечно же, где-то когда-то проговорились бы в случае аномалии, на которую столь прозрачно намекала Мария Стюарт.
Их было не так уж много, но зато это был цвет нации: лорд Лейчестер, с которым Елизавета даже подумывала вступить в брак, но раздумала ввиду открывшихся фактов его недостойного поведения; граф Рэйли, который в ее честь основал в Америке колонию, названную Виргинией; граф Эссекс и… может быть, Вилли Шекспир, может быть…
ИЛЛЮСТРАЦИЯ:
«Некрасивая Елизавета считала себя красавицей; она любила катрены, акростихи; по ее желанию ключи от города ей подносили купидоны; она поджимала губки, как итальянка, и закатывала глаза, как испанка; у нее было три тысячи платьев, в том числе несколько костюмов Миневры и Амфитриты; она ценила ирландцев за их широкие плечи, носила расшитые блестками фижмы, обожала розы, ругалась, сквернословила, топала ногами, колотила своих фрейлин, Дедлея посылала к черту, била канцлера Берлея так, что бедняга плакал, плевала в лицо Мэттью, хватала за шиворот Хэттона, давала пощечины Эссексу, показывала свои ноги Бассомпьеру — и при всем этом была девственницей. Она сделала для Бассомпьера то же, что сделала когда-то царица Савская для Соломона. Священное писание упоминало о подобном случае: следовательно, это не могло быть неприлично. Все, что допускала Библия, могло быть допущено и англиканской церковью. Происшествие, о котором повествует Библия, завершилось рождением ребенка, нареченного Эвнеакимом или Мелилехетом, что означает сын мудреца».
Развратные нравы. Да. Но лицемерие не лучше цинизма.
Мы знаем далеко не все, да и так ли уж необходимо знать все? Исходя из неоспоримых фактов, можно сказать, что соперница Елизаветы шотландская королева Мария Стюарт в своих действиях руководствовалась не столько доводами рассудка, сколько томлением своей промежности. Каждый новый любовник оказывал на нее влияние, сила которого была попросту недопустимой, если вести речь не о скотнице, а о королеве.
Когда умерла Мария Тюдор, она под влиянием небескорыстных любовников заявила, что Елизавета — незаконная дочь Генриха VIII, а посему не имеет прав на английский престол, и предъявила свои претензии на этот самый престол, претензии, продиктованные скорее страстью, чем разумом.
Недолгое исполнение ею роли королевы Шотландии было отмечено волнениями, вызванными исключительно ее же непредсказуемым поведением и неясной политической линией. Есть вещи, которые должны быть четко определены, иначе многочисленные их трактовки приведут к хаосу.
Мощное восстание шотландских протестантов вынудило ее отречься от престола и искать убежища в Англии. Елизавета, хорошо понимая, с кем имеет дело, приказала посадить Марию за решетку.
Ну и что? Положение узницы никак не помешало экс-королеве Шотландии плести нити все новых и новых интриг, которые в итоге привели в 1569 году к мятежу католического дворянства на севере Англии. Целью мятежа были реанимация католичества и освобождение из-под стражи Марии Стюарт, которая в любом случае оставалась главной претенденткой на английский престол в случае смерти бездетной Елизаветы.
А эту смерть не так-то сложно было бы организовать…
Нужно было действовать на упреждение. Мария Стюарт в январе 1587 года предстала перед судом по обвинению в антигосударственном заговоре, осуждена, и 8 февраля палач отрубил ей голову в парадном зале замка Фотерингей.
Согласно завещанию Елизаветы, английский трон унаследовал сын Марии Стюарт Иаков VI. Таким образом была осуществлена долгожданная уния между Англией и Шотландией.
Став королем, Иаков приказал перезахоронить мать в Вестминстерском аббатстве, а замок Фотерингей сравнять с землей…
А одиозный Филипп II оставил о себе недобрую память еще и тем, что долго и тщательно топил в крови Нидерланды, благополучную и богатую некогда страну, которую он, превратив в свою колонию, начал разорять, причем совершенно бездумно, как режут курицу, несущую золотые яйца.
Несомненно, Филиппом руководил не здравый смысл, а ненависть к чужому успеху, к чужому превосходству в интеллектуально-деловой сфере, примерно то же, что руководило Иваном Грозным при уничтожении Новгорода.
В результате Северные Нидерланды, прогнав испанцев, образовали государство Голландия. Очень скоро Амстердам, столица Голландии, стал крупнейшим центром мировой торговли, и тут уж Филипп II мог только кусать локти в бессильной ярости…
КСТАТИ:
«Ненависть — активное чувство недовольства; зависть — пассивное. Не надо поэтому удивляться, если зависть быстро переходит в ненависть».
Следующий персонаж того времени считается средоточием и ненависти, и зависти, и жестокости, и коварства, и многих других негативных свойств человеческой натуры, которые сделали имя этого персонажа нарицательным того же плана, что и, к примеру, «Борджиа». Речь идет о Екатерине Медичи (1519—1569 гг.), французской королеве.
Она вошла в историю как последовательная и непреклонная разжигательница религиозных войн между католиками и гугенотами, венцом которых была ужасающая по своим масштабам и жестокости
ФАКТЫ:
Толпы вооруженных католиков врываются в дома мирно спящих протестантов. Они стреляют, режут, жгут, вспарывают животы беременным женщинам, выбрасывают из окон прямо на острия пик и алебард маленьких детей. И эти мерзости организованы сразу же после свадьбы короля Наварры Генриха (со временем Генрих IV (1553—1610 гг., король Франции) и Маргариты, родной дочери Екатерины Медичи. Эта женщина, действительно, не имела сердца… А ее сын, король Франции Карл IX (1550—1574 гг.), являющий собой странный коктейль Саддама и пассивного гомосексуализма, во время парижской резни стоял на балконе дворца и ради потехи палил из аркебузы по всем, кто имел неосторожность проходить мимо, неважно, католик это был, или же гугенот.
В ту ночь Генрих Наваррский едва не погиб, несмотря на то, что накануне стал католиком, прагматично рассудив, что «Париж стоит мессы»…
А его супруга Маргарита (у А. Дюма — королева Марго) состояла в кровосмесительной связи со своим братом Карлом IX, как, впрочем, и с другими братьями.
Карл IX о своей сестре: «Для этой женщины нет ничего священного, когда дело идет об удовлетворении ее похоти: она не обращает внимания ни на возраст, ни на положение в свете, ни на происхождение того, кто возбудил ее сладострастное желание; начиная с двенадцатилетнего возраста она еще не отказала в своих ласках ни одному мужчине».
Нравы того времени исключали подобные отказы. Известно, что Екатерина Медичи летом 1577 года устроила банкет в саду замка Шенон, где самые красивые и благородные придворные дамы, полураздетые, с распущенными, как у новобрачных, волосами, должны были прислуживать за столом королю и его приближенным.
Известно также, что Екатерина Медичи располагала так называемым «летучим отрядом королевы», который насчитывал от 200 до 300 дам, обладавших профессиональной сексуальной техникой при полном отсутствии стыдливости и готовых продемонстрировать ее когда и с кем угодно в ходе тонких политических игр своей грозной повелительницы.
 |
КСТАТИ:
«Политика — искусство создавать факты, шутя подчинять себе события и людей. Выгода — ее цель, интрига — средство… Повредить ей может только порядочность».
Но политика и порядочность — параллельные прямые, которые, как известно, никогда не пересекутся, так что политики могут спать спокойно.
А в ту эпоху они только и делали, что грели руки на религиозных войнах, играя на эфемерном чувстве групповой солидарности.
Генрих IV, правда, попытался им помешать, установив некое подобие гражданского мира. Но его остановила рука политического убийцы.
Царствование Людовика XIII (1601—1643 гг.) было, по сути, игрой великовозрастного и капризного баловня всех окружающих, прозвавших его Справедливым просто так, чтобы сделать ему приятнее. Действительно. Жалко, что ли?
Это был классический маменькин сынок, которому в детстве было дозволено абсолютно все, чего он желал. В двенадцать лет он беспрепятственно входил в спальню к своей гувернантке и ощупывал ее с ног до головы. По свидетельству придворного лекаря, этот милый мальчик требовал, чтобы все родственники любовались его эрекцией и превозносили мощь полового члена, который «поднимался и опускался подобно замковому мосту».
Его женили в четырнадцатилетнем возрасте. На брачное ложе его укладывала мать, которой он через час продемонстрировал красный от девственной крови член и отчитался о происшедшем во всех подробностях.
Героине этих подробностей было тоже четырнадцать. Дочь испанского короля Филиппа III Габсбурга, сыгравшая свою роль на подмостках Истории под именем Анны Австрийской (1601—1666 гг.).
По свидетельствам современников, это была очень красивая женщина, воспетая всеми поэтами той эпохи.
Думается, обладание такой женщиной никак не могло быть в тягость Людовику XIII, человеку с весьма посредственными физическими данными, да и моральными, пожалуй, тоже. Однако дело обстояло именно так.
Красавице-жене король предпочитал ее фрейлин, мелкопоместных дворянок из провинции и даже случайных пейзанок во время загородных прогулок или охотничьих празднеств.
Согласно расхожей версии, нашедшей развитие в знаменитом романе Александра Дюма, Анна, гордая, недоступная, с хорошо развитым чувством подлинно королевского достоинства, даже увлекшись блистательным английским герцогом Бекингемским, не позволяла поцеловать ее руку выше края перчатки.
В то же время существуют свидетельства совершенно иного порядка, проливающие свет на нравы той эпохи, например: «Между королевой и Бекингемом завязалась переписка при посредстве г-жи де Шеврез, за которой волочился граф Холланд. Когда Бекингем прибыл в Париж для переговоров, царствующая королева Франции была готова принять его весьма благосклонно. Немало было галантных встреч, но более всего наделало шума их свидание в Амьене. Любезник повалил королеву и расцарапал ей ляжки своими расшитыми штанами…» При этом Анна Австрийская гневно отвергла любовные притязания всесильного герцога Армана-Жана дю Плесси де Ришелье (1585—1642 гг.), кардинала Ришелье, фактически правившего Францией вместо ее никчемного супруга. Между прочим, грозный кардинал в ту пору (1625—1627 гг.) выглядел вовсе не тем иссохшим и согбенным старцем, каким мы привыкли видеть его на старинных гравюрах. Это был тогда красивый сорокалетний мужчина, человек непоколебимой воли и храбрый военачальник. И тем не менее…
КСТАТИ:
«Любовь не ищет подлинных совершенств; более того, она их как бы побаивается: ей нужны те совершенства, которые творит и придумывает она сама. В этом она подобна королям: они признают великими только тех, кого сами и возвеличили».
Ришелье не нуждался в том, чтобы его кто бы то ни было возвеличивал.
Он был властелином Франции, и этим все сказано.
Ревновал ли он Анну Австрийскую? Намеревался ли опорочить ее в глазах супруга? Наверное, да, но его действиями руководила не столько ревность или обида отвергнутого самца, сколько досада на эту бездумную чету, которая свои удовольствия ставила выше интересов страны, готовой попросту расслоиться, развалиться без мощного цементирующего начала.
Ришелье решительно сместил многих наместников провинций и заменил их людьми не столь знатными, но зато мыслящими категориями государственности, а не своекорыстия. Так же решительно первый министр двора пресекал рецидивы феодального своеволия поместной знати. Многие и многие из разряда «неприкасаемых» угодили если не на эшафот, то за тюремную решетку. Те из них, которые решили укрыться от цепких рук власти в родовых укрепленных замках, вынуждены были в итоге выбирать между срытием наружных стен своих феодальных гнезд и отсидкой за толстыми стенами Бастилии. В довершение ко всему Ришелье под страхом смерти запретил дуэли — кровавую забаву гордецов, которым было четко сказано, что дворянин может проливать кровь только на королевской службе, и нигде более.
Конечно, многие и многие из тех, кто считал себя ровней королю, ответили на эти меры целой серией заговоров, которые, благодаря разветвленной агентурной сети трезво мыслящего кардинала, раскрывались еще до периода своего созревания.
Король занимал отрешенно-нейтральную позицию, видимо, отрабатывая прозвище «Справедливый», а вот Анна Австрийская откровенно принимала сторону оппозиционеров, так что странно было бы наблюдать иную, положительную реакцию Ришелье на ее деструктивную деятельность. Бывают ситуации, когда требуется обезвредить опасного противника, и тут уже не имеет никакого значения, красивая ли это женщина, давний приятель или даже родной брат. Или нужно дать возможность этому противнику победить, взять верх, однако на такой мазохизм имеют право разве что частные лица, но никак не государственные деятели.
При этом нельзя не учитывать того очевидного факта, что Франция активно участвовала в кровопролитной Тридцатилетней войне (1618—1648 гг.), и поэтому нельзя было допускать попыток подрыва существующего государственного строя, чего не хотели осознавать ни Людовик XIII, ни его социально активная супруга.
КСТАТИ:
«Кто хочет стать водителем людей, должен в течение доброго промежутка времени слыть среди них опаснейшим врагом».
По-иному еще ни у кого не получалось.
Но ушел в безмятежные дали грозный кардинал, через год призвав к себе своего подопечного Людовика XIII, и в Париж приезжает в качестве представителя Ватикана некий Джулио Мазарини (1602—1661 гг.), очень скоро ставший кардиналом Мазарини, преемником Ришелье.
Сын итальянского рыбака, затем — прислужник римского кардинала Бентиволио и его протеже на ватиканском поприще, Мазарини быстро осваивается в новой для него обстановке и очаровывает королеву-регентшу Анну Австрийскую, которая правит страной за малолетнего сына Людовика XIV (1638—1715 гг.).
И вот чопорная и надменная королева в свои сорок три или сорок четыре года, со всем пылом нерастраченной страсти бросается в скандальную интригу с итальянским авантюристом, бросается безоглядно и бездумно.
Мазарини очень скоро становится кардиналом и первым министром двора, заняв до того времени пустующий рабочий кабинет покойного Ришелье.
Следствием всего этого был целый ряд политических событий, в частности резкая активизация оппозиционного дворянского движения, называемого Фрондой, когда толпы парижан скандировали на площадях: «Долой Мазарини!», но королева-регентша свои влечения ставила выше соображений гражданского мира в государстве.
Гражданский мир — понятие довольно сложное и требующее неформального подхода, потому что искусственно созданная видимость такого мира чревата гораздо более тяжелыми последствиями, чем открытый конфликт, который так или иначе завершится, выдохнется, исчерпав себя. То же самое, что нарыв, который требует скальпеля хирурга.
Отдавая должное кардиналу Мазарини, нужно заметить, что в борьбе с Фрондой он проявил себя искусным дипломатом и в то же время достаточно непреклонным защитником абсолютной королевской власти. Этот человек умел, когда это требовалось, четко произносить слово «нет», и за четкость произношения этого слова он считался одним из самых влиятельных политиков в современном мире. Естественно, не только за четкость, но это свойство очень редко встречающееся, а потому весьма ценимое.
Он добился политической гегемонии Франции в Европе, прибегая подчас к нестандартным решениям, вызывающим целую гамму противоречивых чувств, среди которых в итоге превалировало восхищение.
Например, для участия в осаде и штурме крепости Дюнкерк, захваченной в свое время испанцами, Мазарини пригласил 2400 запорожских казаков, которые в составе армии принца Людовика Бурбона де Конде (1621—1686 гг.) проявили чудеса героизма и внесли достойный вклад в блистательную победу французского оружия, одну из самых значительных в ходе Тридцатилетней войны.
Конечно, этот человек был далеко не бескорыстен, если брать во внимание огромнее состояние, которое он сколотил, сидя в кресле первого министра французского королевского двора. Что и говорить, он себя не забывал, но при этом не забывал и дело, которому служил, и это совершенно бесспорно.
В конце концов, все, что происходит в нашем подлунном мире, оценивается исключительно по результатам, и вовсе не по благим намерениям, речам, лозунгам и попыткам, которые не увенчались успехом по правдоподобным причинам…
КСТАТИ:
«Обладать и создавать — вот проявление самых сильных человеческих страстей. В этом — вся особенность человека».
Мазарини обладал тем, что создал — в той или иной мере, но все-таки создал, сотворил из ничего что-то, а не наоборот, как многие и многие, претендующие на славу и вечную историческую память…
А еще он обладал Анной Австрийской, и это было загадкой, над которой ломали головы и современники этой странной пары, и их потомки. Действительно, неужели Анна Австрийская не могла найти менее компрометирующего сексуального партнера, в особенности тогда, когда он еще не был признанным Европой государственным деятелем, а был просто чужеземцем сомнительного происхождения и неопределенных намерений?
Когда в ту пору ее близкая подруга, герцогиня де Шеврез, завела разговор на эту тему, Анна расхохоталась и сказала: «И ты веришь этим глупым сплетням? У нас с ним не может быть ничего общего в этом плане хотя бы потому, что он итальянец. Понимаешь? И-таль-я-нец!»
Герцогиня де Шеврез была достаточно опытной женщиной и поняла, что ее подруга имеет в виду так называемую «итальянскую любовь», а попросту говоря, анальный секс, который традиционно считается пристрастием всех итальянцев. Но даже если и так, то в чем проблема? Герцогиня пришла к выводу, что Анна лукавит, и, что более чем вероятно, вовсю занимается с этим подозрительным брюнетом его «итальянской любовью», разве что в знак благодарности за обучение давая ему уроки «французской любви», каковой, тоже традиционно, считается оральный секс.
Так или иначе, но версия относительно привязанности Анны к Мазарини на почве сексуального гурманства была одной из самых распространенных и в то время, и в последующие. Впрочем, версия — это всего лишь предположение, не более…
КСТАТИ:
«Женщинам свойственно доказывать невозможное на основании возможного и возражать против очевидного, ссылаясь исключительно на предчувствия».
Может быть, и не следует ссылаться на предчувствия, принимая какие-либо важные решения, но прислушаться к их голосам далеко не лишне…
У английского короля Карла I (1600—1649 гг.) не могло не быть предостерегающих предчувствий, когда он, зачастую вопреки элементарной логике, предпринимал шаги, неминуемо ведущие к пропасти. Например, этот внук Марии Стюарт, напрочь отбросив свои шотландские корни, силой навязывал гордым шотландцам англиканскую литургию, не желая понимать, что это ни к чему иному, кроме восстания не приведет. Так и случилось. Началась фактическая война с Шотландией.
А в это время он принимает решение править страной без парламента, который он распустил. Просто так, взял и распустил. Но если уж так, то держись этой линии до конца, докажи, что можешь обойтись без чванливых лордов Верхней палаты и без не менее чванливых мясников Нижней, так нет же… В апреле 1640 года король все-таки созывает парламент, чтобы попросить денег на шотландскую войну (!). Вот тут-то и мясники, и лорды засыпали его требованиями одно жестче другого. И король нехотя, но послушно кивал головой в ответ на каждое их требование. Кивнул он и тогда, когда они потребовали казнить графа Страфорда, его первого министра, ну, а это, кроме всего прочего, означало расписаться в своем ничтожестве. История простила бы ему, если бы он в ответ на такое требование отправил на тот свет весь парламент, но только не графа Страфорда, потому что это было фактически концом его, Карла, власти.
А тут заволновалась и без того вечно неспокойная Ирландия, где забродил взрывоопасный коктейль из католицизма, протестантизма, англиканства и прочих результатов стремлений не слишком благополучных и недостаточно образованных людей стать отцами хоть какой-нибудь Церкви.
 |
Шотландское войско пришло в Ирландию, чтобы поддержать своих одноверцев — протестантов (разумеется, не все войско, так как и в Шотландии хватало дел по борьбе с англиканской экспансией и, разумеется, с королем). Королевство запылало со всех сторон.
Вот тут-то Карла Первого наконец-то осенила мысль если не ликвидировать, то хотя бы изолировать источник смуты — парламент, хотя бы самую опасную его часть — Нижнюю палату, да не тут-то было…
Парламент начал войну против королевской власти, войну, которую историки назовут Английской революцией.
Этой революции могло бы, конечно же, не быть, окажись к тому времени у кормила власти другой человек, не Карл I, который слыл большим любителем женского тела, но это, как говорится, не профессия…
КСТАТИ:
«Это сила легко получает наименования, а не наименования — силу».
Народ ведь всегда поддерживает идею парламента как органа своего представительства, но не сам по себе парламент, где в действительности собраны люди, воплощающие в себе самые худшие, самые низменные качества своих избирателей. Поэтому народ традиционно ненавидит депутатов, как карикатуру на тех, кого они представляют.
КСТАТИ:
Когда 3 октября 1993 года по приказу Ельцина расстреливался из танковых орудий Белый дом, в котором забаррикадировались страдающие деструктивной манией величия депутаты российского парламента, народ был однозначно на стороне Ельцина. В толпах, которые часами наблюдали картину этого противостояния, депутатов иначе как «сволочью» не называли.
Вот так-то. Но Карл Первый, к сожалению, не Ельцин, за что и поплатился.
А на сцену выходит многодетный сельский сквайр Оливер Кромвель (1599—1658 гг.), депутат Нижней палаты парламента, естественно. Пуританин, правдолюб, непримиримый борец за справедливость (в его собственном понимании, разумеется), защитник веры.
Эти непреклонные «защитники веры» во все времена совершали столько антигуманных актов, что в каталогах Истории они значатся под рубрикой «исчадия ада», и никак иначе.
К ним мы еще вернемся, а вот этот экземпляр, хоть и не блещет оригинальностью, зато очень убедительно подтверждает мысль о том, что, как правило, борцы за социальную справедливость преследуют сугубо личные цели, и когда достигают их, смотрят на эту пресловутую социальную справедливость как на досадный анахронизм. В этом контексте в качестве наиболее яркого примера такой трансформации приоритетов можно привести Владимира Ульянова (Ленина), но и Кромвель тоже хорош…
Когда началась гражданская война между парламентом и королем, Кромвель, разумеется, принимает сторону парламента и вступает в его
К сентябрю 1642 года он уже возглавляет отряд из 60 фанатиков-пуритан. Этот отряд, участвуя в битвах гражданской войны, проявляет как завидное мужество, так и нерассуждающую жестокость, которая всегда отличает простолюдинов, вдруг обретших право казнить и миловать. Как правило, они предпочитают казнить…
В январе 1643 года Кромвель производится в полковники. Свой полк он разбивает на отряды и во главе каждого из них ставит капитана — непременно либо извозчика, либо пивовара, либо сапожника, а то и вообще какого-нибудь сельского батрака. К марту того же года его полк насчитывает около двух тысяч всадников, которым нечего терять, а вот приобрести — весьма желательно.
В конце ноября Кромвель едет в Лондон, где выступает в парламенте с обвинением командующего армией графа Манчестера в трусости и измене. Конечно же, графа смещают, а Кромвеля назначают главнокомандующим.
14 июня 1645 года армия Кромвеля наносит сокрушительное поражение войскам короля.
Король бежит, прячется, его ловят, затем он снова бежит… Несмотря на мятежи роялистов, его заключают под стражу обезумевшие от внезапно свалившихся на них возможностей революционеры.
КСТАТИ:
«Революции чаще всего совершаются вовсе не потому, что одна сторона стала просвещеннее, а потому, что другая натворила слишком много глупостей».
20—27 января 1649 года происходят заседания так называемого «Верховного суда справедливости», созданного революционерами. Низложенного короля Карла обвиняют во всех смертных грехах, включая тиранию, кровопролитие (это кто бы обвинял!) и государственную измену.
ФАКТЫ:
В июне 1644 года был вырезан город Бодтон, а весной 1649 — ирландский город Дрогеда.
Между прочим, одно из любимых выражений Кромвеля: «Необходимость не признает закона».
А Карла Первого приговорили к смертной казни, и 30 января 1649 года приговор был приведен в исполнение на площади перед королевским дворцом. В Англии устанавливается республика под началом Оливера Кромвеля.
Для того, чтобы она выжила (хоть какое-то время), необходимо было навести элементарный порядок. Как известно, рукотворный хаос никогда не возвратится в состояние гармонии без применения силы. Кромвель, разворошив муравейник, теперь пытался вернуть муравьев в их некогда упорядоченный мир.
И полилась новая кровь. В результате наведения такого порядка
В мае 1650 года начинается усмирение Шотландии, где после казни Карла заметно усилились роялистские настроения и даже был провозглашен королем его сын, Карл II. Потопив в крови Шотландию, Кромвель возвращается в Лондон триумфатором.
Его достаточно вялые попытки провести демократические преобразования заходят в тупик, и самым естественным образом трансформируются в меры по установлению авторитарной власти. Что, собственно, и требовалось доказать…
История твердо и однозначно заявляет на основании более чем печального опыта, что все разговоры о «свободе», «демократии», «народном счастье» и т.д., не более чем спекуляция на
16 декабря 1653 года Кромвель провозглашается Лордом-Протектором Англии, Шотландии и Ирландии, то есть единоличным правителем.
В стране устанавливается уже откровенная военная диктатура, естественно, без парламента (зачем он нужен, если свою задачу по выдвижению Кромвеля он уже выполнил?), но с жесткой цензурой и с майор-генералами (комендантами) во главе каждого округа.
Англичане, конечно, не выражают бурного ликования, что чревато серьезными проблемами, и Кромвель это хорошо понимает.
Он возрождает парламент, даже палату лордов, которая лицемерно называется «другой палатой». Вскоре депутаты разрабатывают некое подобие конституции, где Англии возвращалась дореволюционная форма правления. Кромвеля нижайше просят принять корону.
Вот и все, к чему ведет любая революция. Любая!
Кромвель принять корону как-то стесняется, однако конституцию подписывает, то есть звание монарха принимает, но только без золотого головного убора.
За время его правления экономика страны пришла в полный упадок, а ко дню смерти Кромвеля — 3 сентября 1658 года — обнаружилось, что казна совершенно пуста.
Ну и что? Все это кого-то чему-то научило?
КСТАТИ:
«Нет беды страшнее, чем гражданская смута. Она неизбежна, если попытаться всем воздать по заслугам, потому что каждый тогда скажет, что он-то и заслуживает награды. Глупец, взошедший на трон по праву наследования, тоже может причинить зло, но все-таки не столь большое и неизбежное».
Его похоронили в древней усыпальнице английских королей — в Вестминстерском аббатстве, однако после реставрации законной власти, 30 января 1661 года, в день казни короля Карла I, труп Кромвеля был эксгумирован и обезглавлен (после ритуального повешения). Затем его туловище зарыли под виселицей, а голову выставили на всеобщее обозрение, насаженную на острие копья.
Как говорится, за что боролись…
Когда думаешь о субъектах власти, вспоминается диалог, приведенный, кажется у Чехова, в его записных книжках: «— Как поживает ваша жена? — А, все они одинаковы…» Вот так и эти… Конечно, разные страны, разные костюмы и обычаи, но ведь все остальное, главное, — абсолютно одинаковое!
Эпоха Елизаветы Тюдор и Марии Стюарт имела свой аналог на Востоке, где женщина если и не могла официально руководить государством, то делала это хоть и неофициально, но вполне реально, правда, соблюдая все мусульманские формальности, касающиеся места женщин в системе общественных взаимоотношений. Восток ведь дело тонкое…
Этот период османской истории недаром получил название «Султанат женщин». Во время правления турецкого султана Сулеймана Великолепного (1494—1566 гг.) огромное влияние на внутреннюю и внешнюю политику страны оказывала украинская девушка Настя Лисовская, запечатленная Историей под именем «Роксолана». Попавшая в татарскую неволю, она была привезена в Турцию, где на невольничьем рынке ее приметил визирь султана, а затем в нее без памяти влюбился наследник престола.
Через некоторое время он становится султаном Сулейманом Великолепным, а Настя — его женой и верной помощницей во всех делах управления империей, владения которой включали огромные территории Северной Африки, весь Ближний Восток, Балканы и Юго-Восточную Европу.
Роксолана знала несколько европейских языков и свободно общалась с послами разных стран, оставившими восторженные отзывы о мудрости и дипломатическом таланте красавицы-султанши.
Второй заметной фигурой «Султаната женщин» была гречанка, известная под именем Кесем-султан, жена султана Ахмеда I, мать султанов Мурада IV и Ибрагима I. Она свыше тридцати лет оказывала заметное влияние на имперские дела как в области внешней, так и внутренней политики.
Видимо, именно ей удалось добиться отмены жестокого обычая убивать всех братьев провозглашенного султана и вообще всех его родственников по мужской линии. Свидетельство тому — ее сын Ибрагим, который остался в живых после инаугурации Мурада, старшего брата.
Мурад IV (1622—1640 гг.) принял империю в плачевном состоянии, когда ее экономика пришла в упадок, армия долгое время не получала жалованья, в столице царили бандитизм и мародерство.
Спасти положение могла только сильная и беспощадная рука власти.
Мурад был, по свидетельствам современников, атлетически сложенным и очень сильным человеком. Он не страдал комплексами Генриха VIII или Ивана Грозного, поэтому не торопился рубить первые попавшиеся головы, чтоб другим было неповадно попадаться ему на глаза. Ему не претило рубить головы, только эту процедуру он воспринимал тогда как средство, но не как цель.
Он принял в своем дворце большую делегацию взбунтовавшихся янычар. Они в ультимативной форме потребовали выдачи им семнадцати чиновников и великого визиря Хафиза Ахмад-пашу. Султан обратился к ним со страстной речью, убеждая не решать все проблемы посредством кровопролития. Делегаты стояли на своем. Тогда визирь Хафиз, решив принести себя в жертву, решительно направился к янычарам. Они его тут же зарезали, прямо на глазах у султана.
Тогда Мурад, тронутый мужественным поступком великого визиря, сказал: «Если будет на то воля Аллаха, вас ждет ужасное возмездие, вас, низкие убийцы, не боящиеся Аллаха и не испытывающие чувства стыда перед Пророком!» Эти слова были откровенно пропущены мимо ушей, и напрасно, потому что на этом лимит терпения молодого султана был исчерпан.
На следующее утро перед дворцовыми воротами можно было увидеть обезглавленный труп Реджеб-паши, подстрекателя взбунтовавшихся янычар.
Этот аргумент подействовал сильнее самых пылких речей, и янычары торжественно поклялись в вечной верности султану.
Затем была казнена большая группа коррумпированных чиновников.
Далее Мурад организовал прочесывание столицы и уничтожение бандитов и бродяг.
А дальше… дальше у него, как и у Грозного, «поехала крыша». Он опьянел от пролитой крови и утратил чувство меры в ее пролитии. Поэтому все его дальнейшие действия были окрашены именно в этот жуткий цвет…
Он строжайше запретил употребление спиртных напитков, ссылаясь на запрет, содержащийся в Коране, но при этом запретил и потребление такого тонизирующего напитка, как кофе. Все кофейни на территории империи были закрыты.
Мурад запретил и табакокурение.
Отныне всякий, кто позволил себе закурить трубку, выпить чашечку кофе или бокал вина, имел все возможности быть немедленно повешенным или заколотым.
Застав однажды садовника и его жену за курением, Мурад приказал отрубить им ноги и выставить, истекающих кровью, на всеобщее обозрение.
Одного француза, встречавшегося с турецкой девушкой, по воле султана посадили на кол.
Мурад стрелял из аркебузы по всем прохожим, которые, как ему казалось, неодобрительно посматривали на султанский дворец.
Он утопил несколько женщин только за то, что они, идя по лугу навстречу ему, слишком громко смеялись.
Он отрубил голову придворному музыканту только за то, что тот исполнял персидскую мелодию, чем, по мнению Мурада, прославлял врагов империи. За первые пять лет своего правления он погубил 25 000 человек.
Но порядок в империи он навел.
Думаю, что если порядок так дорого стоит, то возникает вполне естественный вопрос: «А порядок ли это?»
И кому он нужен — такой…
Наверное, он нужен власти, которая усматривает в порядке не цель, а средство, с помощью которого можно удовлетворить свои темные инстинкты. Впрочем, сама по себе воля к власти — достаточно темный инстинкт.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |