"Джордж-«Леопард»" - читать интересную книгу автора (Лессинг Дорис Мэй)
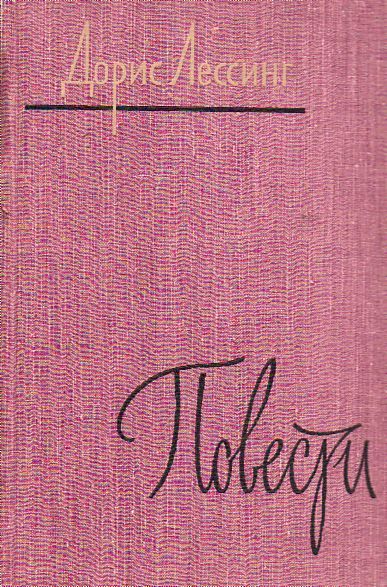 |
Джорджа Честера прозвали «Леопардом» спустя несколько лет после того, как он сделался фермером. Он был уже далеко не молод, когда люди, встречаясь с ним, стали дружески похлопывать его по плечу и спрашивать: «Ну а теперь сколько?» Их лица выражали восхищение и вместе с тем снисходительность к слабости человека, который чем-то отличался и имеет право на оригинальность. Но для Джорджа Честера охота на леопардов была не забавой, а самой настоящей страстью. В течение ряда лет каждую пятницу хроника в местной газете открывалась описанием его воскресной охоты. «В минувшее воскресенье охотники клуба «Четырех ветров» убили четырех шакалов и одного леопарда» или «дикую собаку и двух леопардов» — в зависимости от обстоятельств.
Славно поохотиться можно на любого зверя, и каждую неделю лошади и собаки мчались через вельд{1} в погоне за зайцем, оленем или шакалом. Но уж если Джордж нападал на след леопарда, охота на других зверей теряла для него всякий интерес, и никто не удивлялся тому, что он гнал свою свору за коварной пятнистой кошкой, сколько бы времени и терпения ни потребовалось, сколько бы ни было растерзано при этом собак. И чего только не рассказывали о Джордже! Будто бы он взобрался на холм, где среди обломков скал и поваленных деревьев его подстерегал раненый леопард; однажды он вошел в темноту извилистой пещеры (патроны у него уже кончились, фонарь разбился) и прикладом ружья в конце концов прикончил свирепого зверя, терзавшего его когтями и зубами.
[70] От этой схватки у него остались шрамы на всем теле. Когда он заходил на почту или в магазин в коротких штанах и рубашке с закатанными рукавами, люди отводили взгляд, увидев его руки и ноги исполосованные глубокими белыми рубцами. И только за его спиной они улыбались, но что-нибудь сказать так и не осмеливались.
Однако так к нему стали относиться, когда он был уже одним из самых богатых людей в крае, одним из тех крепких, изворотливых фермеров, которые словно не имеют возраста — солнце, тяжелый труд и хорошая пища превратили его тело в сплошные мускулы, не поддающиеся действию времени.
Джордж был сыном одного из первых поселенцев. Он вырос на ферме и в городе чувствовал себя не в своей тарелке. Когда началась первая мировая война, он сразу же отправился в Англию и вступил в полк, что, как он говорил, сулило уйму развлечений. Он провоевал пять лет, составив себе коллекцию из трех орденов, пяти или шести царапин и прозвища «Джордж-Счастливчик». Предложение демобилизоваться он принял с видом человека, который не стремится получить больше, чем ему полагается по заслугам.
Вернувшись в Южную Родезию, он не поехал в родные места; возможно, потому, что имя его отца хорошо знали в тех краях, а Джордж был не такой человек, который довольствовался бы положением сына своего отца.
Прежде чем остановиться на «Четырех ветрах», он осмотрел немало всяких ферм. Агент по продаже земли знал его отца — а такие вещи ценятся дороже денег там, где еще сохраняют уважение к прошлому, — и предлагал Джорджу фермы по цене, от которой разрывалась душа у практичного агента. Помимо всего прочего, ведь Джордж был героем войны. Но его поведение обескураживало агента. Он давно уже занимался продажей ферм и научился понимать взгляд покупателя, остановившегося на участке, который ему понравился, — хозяйский взгляд; эту землю он перекроит, перемесит и переделает на свой лад. На лице Джорджа такого выражения не появлялось.
Несколько месяцев они ездили из района в район, пока, наконец, агент не привез Джорджа на такую великолепную ферму, что, казалось, от нее-то уж он никак не откажется. Она стояла в низине, сплошь поросшей деревьями; между двух речек протянулась полоса плодород[71] ной красной земли. С двух сторон дома к самой воде протянулся сад. Речки, жирная земля, нетронутые леса, сочные травы для скота — такую ферму не так-то легко заполучить в Африке. Но Джордж постоял на пригорке между речек, там, где они протекают близко друг к другу, и нетерпеливо повел плечом — агент уже понимал, что значит этот жест.
— Не подходит? — спросил он разочарованно.
Теперь он уже научился относиться к Джорджу терпимо; Джордж умел расположить к себе и всегда давал понять, что у него собственный взгляд на вещи. Вначале агенту не было понятно, чего хотел Джордж, но потом он догадался, что его не прельщает богатство, которое сулит эта ферма.
— Если бы вы только мне сказали, что вам надо, — с досадой заметил агент.
— Это прекрасная ферма, — сказал Джордж и пошел прочь, неестественно выпрямившись. Агент остановил его, схватив за руку.
— Послушайте, — сказал он. — Да ведь это же одна из лучших ферм в стране.
— Знаю, — ответил Джордж.
— Если хотите, чтоб я нашел вам ферму, так скажите мне толком, что вам нужно.
— Я скажу, когда увижу, — ответил Джордж.
— Что же, мне так и возить вас по всем фермам, которые продаются в Африке? Будьте же благоразумны, черт возьми! — увещевал агент. — Это же моя работа. Я должен зарабатывать на жизнь.
Джордж пожал плечами. Агент отпустил его руку, и они пошли рядом. Джордж глянул вдаль поверх густых, темных зарослей у реки — на склоны гор по другую ее сторону. Они тянулись цепь за цепью, вздымая свои сверкающие вершины в ярко-синее небо.
Агент, перехватив его взгляд, стал размышлять про себя. Он пристально разглядывал Джорджа. На его облик наложило отпечаток детство, когда он наслаждался свободой и солнцем; и пять лет войны тоже не прошли бесследно. Это был поджарый, широкоплечий человек, с легкими размашистыми движениями. У него было худое, с резкими чертами лицо, серые проницательные глаза и жесткий недовольный рот. Он напоминал агенту своего отца в этом же возрасте; отец Джорджа бросил все, [72] к чему он привык в старой и спокойной стране, и начал новую жизнь, с новыми людьми.
Агент спросил наугад, как если бы он обращался к его отцу:
— А хорошо бы забраться куда-нибудь подальше от людей? Уж очень там тесно, в Англии, ведь правда?
Лицо Джорджа не изменилось — казалось, эти слова не произвели на него впечатления. Он по-прежнему пристально смотрел на горы, и теперь агент понял, что ему надо делать. На следующий день он отвез Джорджа на ферму «Четырех ветров», которая только что была оценена для продажи. Пять тысяч акров девственных зарослей, разбросанных на пологих склонах высоких холмов, которые пересекали равнину, где виднелось еще несколько ферм. Каменистая почва, низкорослые деревья и до самых гор необозримые просторы, поросшие серебристой травой. Ни дома, ни речки, ни даже какого-нибудь заборчика — ферма, на какую вряд ли кто-либо польстится. Но когда Джордж шел по участку, лицо его посветлело от удовольствия, и на нем появилось выражение, которого агент давно ждал.
Весь день Джордж без устали расхаживал по этой голой каменистой земле; он напоминал собаку, которая, привыкая к новому месту, рыщет кругом, старается напасть хоть на знакомый запах, на что-то" близкое, что помогло бы ей освоиться в чуждой обстановке. Но белые, поселяясь в Африке, не просто берут то, что здесь есть, они вносят свой стиль, стиль другой страны. Вот почему в любом районе Африки встречаются самые разнообразные по виду постройки. Каждый дом отличен от другого, напоминает другую страну, климат, язык.
К вечеру, когда лучи желтого солнца падали ему прямо на лицо, слепя глаза, и озаряли тусклым светом нагромождения скал, траву и деревья, Джордж вдруг наклонился над ложбинкой среди кустов, куда со всех сторон сбегались ручейки.
— Здесь должна быть вода для колодца, — сказал он и, помолчав немного, добавил: — Я заметил в Норфольке мельницу, когда мы ехали в поезде. Мне она понравилась. Я имею в виду постройку. Она была бы здесь кстати...
Так Джордж дал понять, что покупает ферму и что место ему понравилось. [73]
— Ваш ближайший сосед живет за пятнадцать миль отсюда, — в последний раз предостерег агент.
— Ведь эта часть страны начинает заселяться? — равнодушно спросил Джордж и на следующий же день подписал бумаги.
Но Джордж не стал отшельником или, во всяком случае, не в том смысле, как понимал агент. Он объехал все фермы в округе и, как это принято, засвидетельствовал свое почтение, сообщив, что купил «Четыре ветра» и будет соседом, хотя и дальним.
Дом, который он себе построил, не был лачугой, какую иной хозяин сколачивает наспех, чтобы было где укрыться от непогоды. Джордж собирался жить в этом доме, хотя его еще и не достроили. Он выглядел так, будто его спланировали, а потом разрубили пополам. Для начала отделали три большие комнаты со стропилами, издававшими острый сладковатый запах, когда менялась погода, и полами из красного дерева. Комнаты сразу же обставили хорошей мебелью. В дни, когда прибывала почта, Джордж появлялся на станции, не очень, правда, часто, но и не редко, и с ним почтительно здоровались — не потому, что он был сыном известного человека, и не ради его заслуг на войне, а потому, что люди одобряли все, что он делал. Ведь после двух войн совершенно неожиданно появились беспокойные молодые люди, заявления которых, вроде: «Я хочу быть сам себе хозяином» или «Я не собираюсь всю жизнь протирать штаны на стуле», хотя и не были новы, все же отражали настроения людей, первыми заселивших страну. В период между войнами здесь появился совсем другой тип эмигрантов; для них деньги были чем-то вроде лопаты, чтобы выкопать теплое местечко и лежать себе там без забот. Они-то и превратили страну кипучей жизни в мертвое болото, но память о былых временах еще сохранилась, и беспокойные молодые люди считали излишним извиняться за то, что хотят вырваться из этой жизни. Будто на них должны были смотреть, как на знамя или даже как на совесть страны.
Когда люди узнавали, что Джордж купил «Четыре ветра» — открытую, обдуваемую со всех сторон каменистую полоску вельда у самых гор, — они обычно говорили: «Бог в помощь!» Точно так же они воспринимали рассказ возвратившегося на родину путешественника о том, что «на берегу Ньязя есть человек, проживший в своей лачуге [74] двадцать лет совсем один» или «я слышал об одном человеке в долине, который совсем одичал — как только к нему подходит белый, он прячется в кустарник». Таких людей они не осуждали, а скорее даже признавали, что в них есть что-то присущее им самим.
Больше всего беспокоило Джорджа, удастся ли ему найти столько рабочих-туземцев, сколько ему понадобится. Он был готов к трудностям, знал, как надо браться за дело, и поэтому обосновывался прочно: строил дом, рыл колодец и изучал почву. К нему пришло несколько туземцев, но это были случайные люди, совсем не такие работники, какие были ему нужны. Возможно, Джордж беспокоился даже больше, чем признавался себе сам. Ведь ничего не стоит прослыть плохим хозяином. Прогонишь работника, а он не постесняется насолить тебе: сделает зарубку на дереве на пути к ферме, и кочующие туземцы прочтут по этой зарубке на коре: «Плохая ферма, тут плохой хозяин». Или в поселке найдется туземец, который будет запугивать остальных, возьмет над ними власть, и они постепенно, под разными предлогами уйдут на другие фермы, а хозяин так и не узнает, в чем тут дело. Есть десятки причин, из-за которых честный хозяин, справедливо обращающийся с туземцами, как того требуют обычаи, приобретет дурную славу и при этом сам так и не узнает, чему он этим обязан.
Когда однажды Джордж увидел, что по дороге прямо к его дому идет старый туземец, много лет проработавший у его отца, он понял, что страхам пришел конец. Он ждал на ступеньках, с удовольствием попыхивая трубкой и приветливо улыбаясь.
— Доброе утро, — сказал он.
— Доброе утро, баас.
— Как дела у тебя, старина Смоук?
— Хороши, баас.
Джордж выбил трубку и предложил старику сесть. Молодые туземцы, пришедшие вместе со Смоуком, остановились под деревьями поблизости, ожидая конца переговоров. Джордж видел, что они пришли издалека — они были в пыли и измучены, — им пришлось тащить большие тяжелые узлы. Но парни были здоровые, сильные и годились для работы, и Джордж, как всегда, когда к нему приходили рабочие, уселся в кресло и уже совсем успокоился. [75]
— Издалека пришли? — спросил он.
— Издалека, баас. Я слышал, молодой баас вернулся с войны и я ему нужен. Вот я и пришел.
Джордж благодарно улыбнулся старому Смоуку, который и теперь выглядел ничуть не старше, чем десять или даже двадцать лет назад, когда катал его, маленького мальчика, в повозке для зерна или таскал на спине, если Джордж уставал. Из-за своих седых волос и мутных глаз он всегда казался стариком, но был подвижным, крепким и стройным, как юноша.
— Как ты узнал, что я вернулся?
— Мне сказал один мой брат.
Джордж снова улыбнулся, понимая, что так и не узнает, каким загадочным образом весть о его возвращении за сотни миль передавалась из уст в уста.
— Так ты сообщи своим братьям, чтобы шли ко мне. Мне нужно много рабочих.
— Двадцать человек я привел. Потом придут другие. Когда кончатся дожди, из Ньясаленда придут еще родственники.
— Ты будешь надсмотрщиком, Смоук, ладно? Мне нужен надсмотрщик.
— Я очень стар, баас, слишком стар.
— А ты знаешь, сколько тебе лет? — спросил Джордж, зная, что не получит ясного ответа, потому что люди поколения Смоука не умели вести счет своим годам.
— Откуда мне знать, баас? Может, пятьдесят. А может, сто. Я еще хорошо помню ту войну. Тогда я был молодым. — Он помолчал и добавил, предусмотрительно отведя взгляд. — Лучше нам не вспоминать те дни.
Оба рассмеялись, большая симпатия друг к другу в одну минуту стерла неприятное чувство, возникшее, когда они вспомнили о войне.
— Но мне нужен надсмотрщик, — повторил Джордж.— Пока я не найду кого-нибудь помоложе, такого же толкового, ты ведь поможешь мне?
— Но я слишком стар, — снова запротестовал Смоук, однако взгляд его просветлел.
Итак, дело уладилось, и Джордж знал, что больше беспокоиться насчет рабочих нечего. Братья Смоука скоро построят рядом с его фермой поселок. Отношения здесь среди африканцев совсем не такие, как между белыми. Туземец может пройти тысячу миль по незнакомой [76] местности, и в каждой деревне он найдет своих собратьев, которые его радушно встретят.
Джордж дал людям целую неделю, на постройку жилищ и еще неделю свободного времени — ради добрых отношений на будущее. Потом он завел строгий порядок и потребовал от них хорошей работы. И они работали хорошо. Смоук был очень стар и сам много трудиться не мог, к тому же старый греховодник не прочь был выпить. Свое прозвище «Смоук»{2} он получил за то, что курил даггу, от которой помутнели глаза и тряслись руки, но он держал в повиновении молодых рабочих, и потому Джордж считал, что он стоит любых денег.
Позже в помощь Смоуку был выделен еще один туземец. Он доводился Смоуку племянником и наблюдал за работой, но все понимали, что главным был Смоук. Раз в неделю, когда обсуждались дела фермы, они приходили из поселка вместе, и молодой, на деле работавший за обоих, был почтителен к старому. Джордж выносил из дома кресло, ставил его у большой каменной лестницы, ведущей в комнаты, усаживался и невозмутимо курил; Смоук сидел напротив на земле, скрестив ноги, а племянник стоял за его спиной, выказывая этим не столько уважение к Джорджу — хотя, конечно, и ему тоже, — сколько почтение старшему в роду. (То было начало двадцатых годов, когда между добрыми хозяевами и слугами были возможны довольно сердечные отношения; тогда еще горечь и озлобление не вытеснили привязанности и в обращении чувствовалась учтивость.)
Во время этих еженедельных бесед обсуждались не только дела фермы, но и личные тоже. Когда уже все было сказано об урожае, погоде, планах, наступала короткая пауза, потом Смоук поворачивался к племяннику и отпускал его. Тот говорил Джорджу: «Спокойной ночи, баас», — и уходил.
Теперь Джордж и Смоук могли спокойно болтать о том, как главный погонщик ссорится со своей новой женой, или д том, что Смоук и сам подумывает взять себе молодую жену. Джордж обычно смеялся и говорил: «Старый греховодник! Зачем тебе в твои годы жена?» А Смоук отвечал, что в холодные ночи ее молодое тело будет согревать старика. [77]
Туземец не боялся говорить с Джорджем строгим и вместе с тем укоризненным тоном (как будто он представлял себя в эти минуты на месте его отца).
— Тебе пора жениться, молодой баас. На ферме должна быть хозяйка.
Джордж смеялся и отвечал, что ему, действительно, пора жениться, только он никак не найдет женщину себе по вкусу.
— Может, баас привезет себе жену из Англии, — сказал однажды Смоук. — Джордж уже знал, что в поселке идут разговоры насчет фотографии девушки, стоявшей у него на туалетном столе — сын старого Смоука работал у Джорджа поваром.
Во время войны эта девушка с неделю считалась невестой Джорджа, но помолвка расстроилась после одного из тех откровенных практических разговоров, которые не оставляют никаких иллюзий и способны рассеять, как дым, казавшееся любовью увлечение. Эту девушку вполне устраивала жизнь в Лондоне, и ничего другого ей не хотелось. И когда между ними все было кончено, у них не осталось никакого чувства горечи, по крайней мере друг к Другу; Джордж только немного злился на самого себя. В конце концов, он мужчина и должен был поставить на своем. Чего он не мог простить себе, так это помолвки; иногда он просто приходил в бешенство, думать не мог об этом спокойно. Но порой он вспоминал ее с теплым чувством. Она вышла замуж и вела такой образ жизни, на какой, по его мнению, ни один нормальный человек не мог бы решиться. Почему он хранил фотографию девушки — а снята она была в позе, на редкость неестественной, — он себя не спрашивал. Ведь другими женщинами он со свойственными ему пылом и непостоянством увлекался куда сильнее.
Как бы там ни было, фотография стояла у него в комнате, и ее видели не только повар и слуги, но и изредка навещавшие его гости, В округе ходил слух, будто у Джорджа была в Англии несчастная любовь, и эта причина не хуже любой другой служила объяснением его спокойного, но решительного отдаления от всех — есть люди, с которыми слово «уединение» не вяжется. Джордж жил один, но, казалось, не чувствовал своего одиночества.
Что особенно поражало всех — так это то, что он жил на широкую ногу, хотя это было ни к чему. Спустя несколько лет вместо трех больших комнат у него стало [78] десять. Дом его на много миль вокруг был самым лучшим. На ферме выросли флигели, склады, прачечная и птичник, он разбил сад и щедро платил двум туземцам, которые за ним ухаживали. Он вырыл яму среди обломков скал и соорудил прелестный бассейн для плавания, над которым свешивался бамбук, — в прозрачной воде отражалось кружево зеленой листвы и синь неба. Здесь летом и зимой он купался на рассвете и вечером, когда кончал работу. Он построил конюшню, где поместилось бы лошадей десять, но он держал только двух; на одной ездил старый Смоук (слабые ноги уже не держали его), на другой — он сам. Это была послушная и умная кобыла, впрочем не отличавшаяся красотой. Джордж выбрал ее после того, как пересмотрел немало лошадей на торгах и по объявлениям, — она была нужна для работы, а не напоказ. Целыми днями Джордж разъезжал по ферме, не давая ей ни минуты отдыха, а вечером, когда ставил в стойло, похлопывал ее, будто извиняясь, что не может взять с собой в дом. Вернувшись после купания, он усаживался около дома и в сиянии быстро гаснущего солнца глядел на прекрасную дикую долину, неторопливо потягивая вино. Перед ним стоял столик из африканского ореха, уставленный графинами и сифонами. Ну разве это похоже на холостяцкий жестяный поднос с бутылкой и стаканом? За ужином, сервированным по всем правилам, ему прислуживали два одинаково одетых слуги, с которыми он болтал или молчал — уж это как ему вздумается. Потом подавали кофе; почитав с полчаса сельскохозяйственный журнал, он отправлялся спать. Засыпал он в девять и еще до восхода солнца был на ногах.
Вот так он и жил. Такую жизнь, полную тяжелого физического труда, он вел в течение многих лет, — двенадцать часов работы в зной, на солнце. Зато дома простор и комфорт. И все же чувствовалось, что чего-то не хватает. Короче говоря, не хватало жены. Но не очень-то спросишь у человека, ведущего такой образ жизни, чего ему недостает, если ему вообще чего-нибудь недоставало.
Спрашивать его об этом — значило бы пытаться проникнуть в то, что он чувствовал, часами разъезжая верхом по холмам, под солнцем, среди колышущейся, словно светлые знамена, травы. Это значило бы прежде всего постараться понять, что заставило его одним из первых здесь поселиться. Даже старый Смоук, трясясь рядом на своей [79] лошади, иногда окидывал хозяина долгим взглядом и тихонько отъезжал в сторону, оставляя его наедине со своими мыслями.
От самого дома мили на три раскинулся участок, сплошь покрытый травой. Каждый год она вытягивалась так высоко, что даже со своих лошадей эти двое не могли увидеть, что находится за нею. Протоптанная в траве дорожка вела к небольшому холму — скорее это было нагромождение скал, где деревья, вырвавшиеся из гранита, создавали тень. Здесь Джордж обычно спешивался и, опершись рукой о шею лошади, стоял, глядя вниз на равнину; отсюда было видно, что это, пожалуй, несколько равнин, разделенных холмами, — так высоко стояла ферма «Четырех ветров» над всей местностью. Ha расстоянии двадцати миль высились еще горы, словно глыбы цветного хрусталя, а за ними уже ничего не было видно. И до самых гор — деревья и трава, деревья, скалы и трава, и речки, обозначенные полосками более темной растительности. С годами на этом необъятном пространстве нетронутой земли мало-помалу стали появляться возделанные участки, и по струйкам дыма и тусклому блеску крыш можно было узнать, где построены новые дома. Равнину заселяли и осваивали. Джордж стоял и смотрел, и казалось, будто вторгающаяся сюда жизнь его вовсе не трогает. Иногда он простаивал здесь почти все утро, в ушах звучала воркотня диких зеленошеих голубей, и он все смотрел вниз, а когда возвращался домой к завтраку, взгляд его бывал тяжелым и мрачным.
Но он не противился ходу событий. Земли «Четырех ветров» раскинулись под самым небом, среди вершин больших гор, овеваемых ветрами и палимых солнцем; они были завалены обломками скал, и ничто не защищало их от бурь и набегов обезьян или леопардов — такая дикая пустынная местность и обособленность в конечном счете не повлияли на его характер.
И когда долина оказалась разделенной между новыми поселенцами и у Джорджа появились соседи за пять, а не за пятнадцать миль, он стал наезжать к ним и приглашать их к себе. Они охотно принимали приглашение — ведь, несмотря на все свои странности, он был хорошим малым. Он пожелал жить один, ну и что ж — женщины находили это даже пикантным. Он стал очень богат, а это нравилось всем. 'Все же его считали слегка помешанным: на своей [80] ферме он не разрешал трогать диких зверей; если какого-нибудь туземца задерживали, когда он ставил капканы, он сам избивал его и потом отправлял в полицию: он считал, что штраф, который он платит за избиение туземца, стоит того. Его ферма была настоящим заповедником, и чтобы уберечь скотину от леопардов, ему приходилось держать ее за частоколом. А если иногда он и терял вола или корову, так для хозяйства это не было ощутимо.
По воскресеньям Джордж обычно приглашал гостей поплавать в бассейне; в этот день двери его дома открывались для всех, каждый был здесь желанным гостем. Джордж слыл хорошим хозяином, у него был прекрасный дом, а слуги вызывали зависть у всех хозяек; возможно, ему не могли простить как раз того, что его слуги безупречны. Они никогда не бросали его, чтоб уйти «домой», как делали слуги у многих других; их дом был тут, на его ферме, и под началом старого Смоука они хорошо работали; поселок был настоящей туземной деревней, а не скопищем полуразвалившихся лачуг, как обычно, о которых никто не заботится, — к чему заботиться о доме, если знаешь, что долго в нем жить не будешь. То, что у холостяка так хорошо вымуштрованы слуги, вызывало зависть у женщин всего края. И когда они подтрунивали над ним, замечая, что он так прекрасно справляется, в их голосе звучало раздражение. «Ох, уж эти заядлые холостяки», — обычно говорили они. На что он добродушно отвечал: «Да, да, пора уже подумать о женитьбе».
Может быть, он и на самом деле чувствовал, что ему пора жениться. Он знал — в том, что он принимает у себя гостей и ездит в гости сам, усматривают намерение найти себе невесту. И девицы, конечно, предоставляли ему эту возможность. Уж что-что, а завидным женихом он был во всяком случае, и если с ним держали себя настороженно, то виноват в этом был он сам. Иногда он разглядывал полуобнаженных женщин, расположившихся под бамбуковыми деревьями вокруг бассейна, — их позы были обдуманны, рассчитаны на то, чтобы произвести впечатление, и глаза его суживались, взгляд становился неприятным. Это было даже несправедливо, ведь если к мужчине не подойдешь ни с заботой, ни с нежностью, то это единственное, что еще остается. Все это привело к тому, что он нарочно поставил ту самую фотографию на видное место, на столик [81] возле кровати; и когда девушки что-нибудь говорили на этот счет, он, полузакрыв глаза, отчего делался волнующе-интересным, замечал: «А, Бетти, — да, вот это была женщина!»
Одно время думали, что он все же «попался». Его ферма граничила с одной стороны с фермой немолодой уже женщины, у которой были две взрослые дочери; она была и замужем и в то же время не замужем — муж ее, казалось, никак не мог решить, то ли ему разводиться, то ли нет. Девушкам было едва за двадцать; они ездили верхом, пили виски, мужчинами, которые им нравились, эти худенькие сорви-головы привыкли вертеть, как им только вздумается. Говорили, что из них выйдут хорошие жены для таких мужчин, как Джордж: они будут платить взаимностью, если к ним относиться хорошо. Но о них всегда говорили во множественном числе, потому что Джордж ухаживал за обеими сразу и они были поразительно друг на друга похожи. Мать хозяйничала на ферме, ибо мужу было не до того — он был слишком занят какой-то женщиной в городе, чуть больше, чем следует, пил и флегматично жаловался:
— Господи, почему у меня дочери? Если сыновья ведут себя плохо, так это в порядке вещей.
Соседка обычно поверяла Джорджу свои горести, а он только улыбался и подливал ей в бокал.
— Бог благословит вас, если вы на одной из них женитесь, — говорила она хмуро. — Прости меня, господи, что я так говорю, но они только и умеют, что развлекаться.
— Что ж, это вполне естественно в их возрасте, миссис Уотли.
За его отечески-снисходительным тоном нельзя было не почувствовать злорадства от того, что планы девушек рушатся.
Обычно, когда Джордж входил в комнату, он .сразу же находил миссис Уотли и просиживал возле нее часами, очевидно, испытывая удовольствие от ее общества, и ей как будто это тоже было приятно. Говорила преимущественно она, а он, устроившись поудобнее, задумчиво глядел на свой бокал, вертел его между пальцами и время от времени удовлетворенно хмыкал. Больше всего она говорила о своем муже, стараясь представить его лучше, чем он был на самом деле, и все в комнате замолкали, [82] слушая ее забавные истории, которые она рассказывала ворчливым тоном.
— В прошлую субботу он пришел домой, — начинала она, уставившись широко раскрытыми, удивленными глазами на Джорджа, — и что, вы думаете, он сказал? «Ей-богу, не знаю, что бы я делал без тебя, старушка. Я б с ума сошел, если бы иногда не вырывался из города глотнуть здесь свежего воздуха». А я-то ждала его, готовясь излить ему все мое возмущение. Ну что поделаешь с таким человеком!
— И вы готовы быть для него воскресным курортом, миссис Уотли? — сострил Джордж.
— Но, мистер Честер, — возразила миссис Уотли, и ее круглые глаза расширялись еще больше в на редкость глупом удивлении. — Ведь я все-таки его жена...
Однако эта видавшая виды дама вовсе не была глупой — разве могла бы она так хорошо управлять своей фермой, будь она глупа? Когда она заводила такой разговор, Джордж смеялся и спрашивал:
— Налить еще бокал?
Во время купаний в его бассейне миссис Уотли была единственной женщиной, которая не показывалась в купальном костюме.
— Я уже не в том возрасте, — объясняла она, — пусть дочери оголяются.
Вздохнув, словно завидуя им, она смотрела на девушек. Джордж тоже смотрел, но украдкой, хотя вообще его, казалось, не привлекали худощавые, мальчишеские фигуры. Бывало, в эти долгие жаркие дни, когда тридцать или сорок человек в купальных костюмах часами лежали у самой воды, жевали, пили и подшучивали друг над другом, случалось, Джордж вдруг без всякого повода раздраженно вставал и направлялся к конюшням. Там он седлал свою лошадь — ей бы тоже можно было дать отдохнуть в воскресенье, раз уж ее заставляли тяжко трудиться всю неделю, — вскакивал в седло и, мчась как сумасшедший, исчезал за холмами. Гости не осуждали его — такое от него вполне можно было ожидать. Они смеялись, особенно женщины, а когда он возвращался, говорили: «Ну, старина Джордж, знаете...»
Иногда кто-нибудь предлагал составить ему компанию, но угнаться за Джорджем никому не удавалось. Теперь, когда в долине и по склонам гор раскинулись фермы, [83] Джордж рано утром или вечерами частенько встречал всадников, — в таких случаях он здоровался, взмахнув хлыстом, приподнимался на стременах и тотчас исчезал из виду. И это тоже прощали ему. Фигура Джорджа, поджарого, сутулящегося, с резкими чертами лица, скачущего в горы с поднятым в небрежном «до свидания» хлыстом, была такой же неотъемлемой частью пейзажа, как и его дом — сверкающее белое здание, поднявшееся высоко, на горе, или объявления высотою в десять футов, развешанные вокруг его фермы: «Всякого, кто будет здесь охотиться, ждет суровое наказание».
Как-то вечером он встретил миссис Уотли одну, и, уже инстинктивно поворачивая лошадь, чтобы удрать, услышал окрик.
— Я не кусаюсь!
Заметив выжидательное выражение ее лица, он неприязненно усмехнулся и прокричал в ответ:
— Я не глупее вас, дорогая!
В следующий раз, когда его гости собрались у бассейна, она, холодно глядя прямо в глаза, напомнила ему этот случай, сказав глубокомысленно:
— Дураком можно быть по-всякому, мистер Честер, а такой человек, как вы, готов уморить себя голодом, потому что однажды объелся зеленых яблок.
Джордж вспыхнул от злости:
— Вы хотите сказать, что если бы я захотел поглядеть, то увидел бы милых очаровательных женщин, — поверьте, женщины уже говорили мне об этом.
Она не рассердилась, только казалась искренне удивленной.
— Это даже серьезнее, чем я думала, — заметила она дружелюбно и стала говорить о чем-то другом, как обычно, немного кривляясь.
Секрет раскрылся в один из дней, когда гости собрались у бассейна. Конечно, и раньше подозревали, что под этим кроется, но, как и на прочие чудачества Джорджа, смотрели снисходительно. И в самом деле, его друзья отнеслись бы к случившемуся так, будто это не имело значения, если бы не поведение самого Джорджа.
Стоял один из тех очень теплых декабрьских дней, когда дождь готов хлынуть в любую минуту. У фермеров рассада табака в парниках была готова к высадке, и их [84] больше интересовало небо, обложенное тяжелыми, темными тучами, чем отличная еда, вино и прелести женщин. Из-за холмов доносились раскаты грома, воздух был накален и наэлектризован. И люди, сидящие у бассейна под бамбуковыми деревьями с неподвижно висящей листвой, тоже были напряжены из-за долгого ожидания; ведь в последние недели перед тем, как должны пойти дожди, приходится туго, особенно в тех местах, где так неопределенно начало сезона дождей.
Джордж сидел на камне одетый. Он всегда одевался сразу же после купанья. Остальные еще лежали полуголые. Заметив, что все подняли головы и со скрытым любопытством смотрят куда-то мимо него, в сторону деревьев, Джордж повернулся и посмотрел тоже. У него вырвалось восклицание, подчеркнуто спокойно он сказал «извините» и поднялся. Все смотрели, как он шел через сад, потом мимо увитых плющом скал, туда, где в вызывающей позе, положив руки на бедра и слегка раскачиваясь, словно собираясь танцевать, стояла молодая туземка. Она стояла, потупив взгляд, с горделивой застенчивостью туземной женщины, и не подняла глаз даже тогда, когда Джордж остановился перед ней и заговорил. Ни по жестам, ни по его лицу нельзя было понять, о чем он говорит; но вот девушка помрачнела, передернула плечами и пошла обратно к поселку, который виднелся между деревьев с милю отсюда, за гребнем большого холма. Она шла, волоча ноги, и размахивала руками, небрежно дергая траву; вид ее красноречиво говорил, что уходит она не по доброй воле; было ясно, ею руководят не только чувства, но и желание показать свои чувства. Долгий многозначительный взгляд, брошенный на белых через голое плечо (на ней было платье, какое носят туземки, стянутое под мышками), можно было понять по-разному. Но никто не захотел толковать его. Все молчали; когда Джордж вернулся, каждый внимательно что-нибудь разглядывал: небо, деревья, воду или же свои ногти. Он окинул их быстрым взглядом, без всяких объяснений сел на прежнее место и взял свой бокал. Отпив глоток, он возобновил разговор с того самого места, где прервал его. Гости торопливо подхватили, и через минуту разговор стал общим, хотя теперь каждый взвешивал и обдумывал слова: как будто за ними следил невидимый наблюдатель, который стоял поодаль и, хихикая, выкрикивал: «Браво! Ловко сработано!»
[85] Они так и не выдали готового вот-вот прорваться чувства раздражения, которое вызывал у них Джордж. Только женщины стали заметно язвительнее; но снисходительная улыбка Джорджа так задевала их собственное достоинство, что к вечеру, когда все собрались разъезжаться (к ночи польет дождь, завтра надо рано вставать и целый день сажать рассаду), взаимоотношения были такими, как всегда. Больше того, Джордж не сомневался, что о нем будут говорить или по крайней мере думать: «Ну, это ведь Джордж! Ему все дозволено!»
Но для самого Джорджа этим дело не кончилось. Он очень разозлился. Когда гости ушли, он вызвал к себе Смоука. Уж это одно говорило, как сильно он раздражен, ведь он взял себе за правило не беспокоить рабочих в воскресенье.
Девушка была дочерью Смоука (или внучкой, Джордж точно не знал), и все было устроено — другого слова не подберешь, зная отношение Джорджа к подобным вещам, — довольно-таки просто. Только раз Джордж и Смоук заговорили о ней: вскоре после того, как однажды девушка встретилась Джорджу на дороге, когда он возвращался домой с купанья. Тогда Смоук без упрека, но твердо заявил, что появление ребенка-метиса было бы нежелательным для его племени. Джордж так же дружески ответил, что он обещал уже — ребенка не будет. Старик вздохнул — он понимает, сказал он, у белых людей есть для этого средства. На этом разговор закончился. Девушка приходила к Джорджу, когда он посылал за ней — два или три раза в неделю. Она обычно появлялась после ужина и уходила на рассвете с горсткой мелочи. Джордж заметил, что она предпочитает несколько мелких монет одной крупной, и всегда держал для нее под носовыми платками монетки в шесть и три пенса. Такая наблюдательность говорила об известном расположении к ней, о внимании к ее желаниям, особенностям характера. Ему нравилось доставлять ей удовольствие такими мелочами. Недавно, к примеру, когда он был в городе и зашел в кафрскую лавчонку купить своим слугам фартуки, он решил подарить ей косынку и притом такого цвета, какой ей нравился больше всего. А однажды, когда она заболела, он сам отвез ее в больницу. Она же не боялась иногда обращаться к нему с просьбой сделать что-нибудь для ее семьи. Так продолжалось лет пять.
[86] И вот сейчас, когда старый Смоук вошел, опустив глаза, с встревоженным видом, говорившим, что он знает о случившемся, Джордж прямо заявил, что хочет, чтобы девушку отослали — она доставляет неприятности. Смоук ответил не сразу; он сидел перед Джорджем, скрестив ноги, уставившись в землю. Джордж увидел, что Смоук и в самом деле уже глубокий старик. Он весь съежился, стал похож на обезьяну; кожа сморщилась даже на черепе, под белыми, похожими на шерсть волосами, а лицо высохло до самых костей; маленькие глазки смотрели с трудом.
— Может, молодой баас поговорит с девушкой? — заговорил он наконец смиренным дрожащим голосом. — Она больше не будет.
Но Джордж не был намерен рисковать: такое могло повториться.
— Ведь она мое дитя, — молил старик.
— Я не потерплю больше таких вещей, — вдруг разозлившись, сказал Джордж. — Она глупая девчонка!
— Я понимаю, баас, я понимаю. Конечно, глупая. Но ©на ведь такая молодая, и она мое дитя.
Но и эта последняя мольба старика, произнесенная слабым скрипучим голосом, не тронула Джорджа.
Наконец решено было отправить девушку в миссионерскую школу, за пятьдесят миль отсюда, Джордж будет платить за нее. Он не хотел больше ее видеть, хотя она до отъезда несколько дней слонялась у черного хода. А в ночь перед тем, как отправиться в далекий путь на свое новое место, куда должен был сопровождать ее один из братьев, она даже пыталась проникнуть к Джорджу в спальню. Но он запер дверь. Говорить было не о чем. Отчасти он винил во всем себя. Не надо было давать ей повода: кто знает, что может вообразить женщина с таким примитивным развитием из-за простой косынки! Во всяком случае, он держал себя с нею так, что «ей взбрели в голову какие-то фантазии», и в этом он виноват сам. Это ее появление возле бассейна было вызовом, открытым предъявлением прав на него, провокацией, возможные последствия которой испугали его. Испугали еще и потому, что всего этого могло и не быть, если бы он не избаловал ее.
Однажды вечером, через неделю после ее отъезда, собираясь ложиться спать, он вдруг схватил с туалетного [87] стола фотографию лондонской знакомой и швырнул в комод. Он несколько недель подряд вспоминал дочь (или внучку) старого Смоука с каким-то неприятным томлением в теле, пока к нему не явилась другая.
Он ждал этого, но сам ничего не предпринимал. Он не решался соблазнить какую-нибудь девушку, потому что не хотел, чтобы Смоук упрекал его.
Как-то вечером он сидел на веранде и курил, задрав ноги на барьер и глядя на огромную желтую луну, которая всходила над кромкой леса сбоку от дома. Вдруг он заметил, как, крадучись, скользнула чья-то тень. Он сидел совершенно спокойно, попыхивая трубкой. Она поднялась на ступеньки, пересекла полосу света, падавшего из комнаты. В первое мгновение он готов был поклясться, что это та же самая девушка; но потом увидел, что она моложе, намного моложе той — лет шестнадцати, не больше. Она была обнажена до пояса, чтобы он мог видеть, какая она; на шее у нее висела нитка голубых бус.
На этот раз, чтобы все было ясно с самого начала, он вытащил из кармана горсть мелких монет и положил на перила. Не поднимая глаз, девушка нагнулась, взяла деньги и спрятала куда-то в складках своей юбки.
Через час Джордж выставил ее, и двери дома заперли на ночь. Она плакала и молила оставить ее до рассвета (как оставляли всегда ту, другую), ей страшно идти одной через заросли, где полно диких зверей, привидений и всяких ужасов, о которых она наслышалась в детстве. Джордж невозмутимо заявил, что уж если она хочет бывать здесь, то ей придется покориться и уходить, как только она не будет больше нужна. Он вспомнил ночи, проведенные в жарких объятиях с той, другой, — возможно, в этом-то и была его ошибка? Он не допустит, чтоб это повторилось.
Девушка горько плакала в первую ночь и еще сильнее — во вторую. Джордж предложил, чтобы за ней приходил кто-нибудь из братьев. Но она так смутилась, что он понял — на такие вещи она смотрит так же, как и он: все ничего, пока соблюдены приличия. И все-таки Джордж отослал ее домой; он старался не думать, как она пойдет одна по залитой лунным светом дорожке, быстро перебегая через черные тени, и будет плакать от страха, как плакала в его объятиях, прежде чем уйти.
[88] Когда Джордж встретился со Смоуком, он знал, что разговор об этом неизбежен, и ждал, когда Смоук заговорит.
Исполненный решимости не показать, что он чувствует за собой какую-то вину (что удивило и разозлило его), Джордж наблюдал, как Смоук отпускает племянника и ждет, пока тот выйдет на дорогу к поселку; потом Смоук повернулся к Джорджу и, умоляюще глядя на него, сказал:
— Молодой баас, есть вещи, о которых нам не следовало бы говорить. — Джордж молчал. — Молодой баас, тебе пора взять себе белую жену.
— Девчонка пришла сама, — проговорил Джордж.
— Если бы у тебя была жена, она бы не пришла, — сказал Смоук с таким видом, словно считал для себя оскорблением, что ему приходится говорить такие очевидные вещи. Старик был очень расстроен, гораздо больше, чем Джордж ожидал.
— Я буду ей хорошо платить, — помолчав немного, сказал Джордж.
Ему казалось, что он рассуждает справедливо, как всегда, когда он говорил со Смоуком или что-нибудь делал вместе с этим человеком — другом его отца и его собственным большим другом. Нет, с ним Джордж не смог бы быть нечестным.
— Я ей хорошо плачу и постараюсь, чтоб о ней позаботились. И той я тоже плачу немало.
— Ай-яй-яй, — вздохнул старик, теперь уже не скрывая недовольства. — Нехорошо это для наших женщин, баас. Кто захочет на ней жениться?
— Они обе пришли ко мне сами. Разве не так? Я за ними не бегал. — Джордж от неловкости задвигался на стуле.
Он вдруг замолчал. Смоук так явно считал этот довод не относящимся к делу, что Джордж не мог продолжать, хотя сам считал его вполне веским. Вот если бы он сам искал себе женщин в поселке, тогда бы он чувствовал себя виноватым. Его раздражало, что Смоук не согласен с ним.
— Молодые девчонки, — укоризненно начал Смоук, — ты ведь знаешь, какие они. — На этот раз это было уже не просто недовольство. Слабые глаза старика выражали страдание. Он не мог смотреть Джорджу в лицо. Взгляд [89] его скользнул в одну сторону, в другую, поверх Джорджа, потом по горам, вниз к долине, а руки теребили одежду.
— А молодые парни, им ты что не делаешь скидку? — Джордж улыбнулся с наигранной веселостью.
— Молодые парни — мальчишки, чего от них ждать, кроме глупостей, — неожиданно вскипел Смоук. — Но ты, баас, ты... тебе нужно жениться, баас. Тебе пора своих детей растить, а ты моих губишь... — Слезы бежали у него по лицу. Он с трудом поднялся и с достоинством произнес: — Я не хочу ссориться с сыном старого бааса, моего старого друга. Прошу тебя, подумай, молодой баас. Эти девушки, что с ними будет? Ты послал одну в миссионерскую школу, но разве она проживет там долго? Она привыкла получать деньги, привыкла... делать все по-своему. Она пойдет в город и станет распутной женщиной. Разве порядочный мужчина возьмет ее замуж? Она найдет себе городского мужа, потом другого, потом еще одного. А теперь вот эта...
Смоук что-то забормотал, раздраженно, жалобно. Горе придавило его, и ему трудно было сохранять достоинство.
— А теперь вот эта, эта! Тебе, молодой баас, тебе понадобилась эта женщина... — Дряхлый, трясущийся, похожий на чучело старик заковылял по дороге.
Какое-то мгновение Джордж был готов окликнуть его; впервые они расстаются враждебно, не обменявшись даже по старому обычаю вежливыми словами прощания. Он смотрел, как старик нетвердой походкой шел мимо бассейна, через сад, мимо нагроможденных скал и скрылся из виду.
Он испытывал неловкость и раздражение и в то же время был озадачен. Между тем, что произошло, и тем, чего он ожидал, было какое-то противоречие, которое глубоко задевало его; перебирая в памяти случившееся, он сознавал: что-то здесь не так. Дело было в чувствах старика. В случае с первой девушкой только по его поведению Джордж мог догадаться, что старик его осуждает, покорившись неизбежному, и осуждает даже не самого Джорджа, а скорее какие-то обстоятельства, взгляды на жизнь, не свойственные Джорджу. Это не было его личным горем, это было горе, которое породила несправедливость вообще. На этот же раз все выглядело иначе. Смоук прямо обвинял его, Джорджа. Это было похоже на [90] обвинение в предательстве. Вспоминая сказанное, Джордж ухватился за слова «жена», «муж», которые так часто мелькали в разговоре, и вдруг его осенила догадка, совершенно невыносимая догадка: она была ужасна, и он отбросил ее, пытаясь найти что-нибудь другое. Но надолго он не мог от нее избавиться; она прокралась снова и засела в его мозгу — только ею можно было объяснить происшедшее: несколько месяцев назад Смоук взял себе молодую жену.
В смятении не зная, что и думать, Джордж громко кликнул слугу. Этого молодого парня привел сюда несколько лет назад сам Смоук. Джордж относился к нему с некоторой теплотой, потому что парень знал о его делишках, но держал себя с подчеркнутой деликатностью. Но теперь Джорджу было не до церемоний.
— Ты видел девчонку, которая приходила сюда ночью? — спросил он прямо.
— Да, баас.
— Это новая жена Смоука?
— Да, баас, — ответил парень, опустив глаза.
Джордж подавил в себе желание оправдаться: «Я ведь этого не знал», — желание, которого он устыдился, и сказал:
— Хорошо, можешь идти. — Он злился все больше. Все это приводило его в ярость; совсем не по своей вине он оказался в дурацком положении.
Вечером, когда он сидел у себя в комнате и читал, еле заметно улыбаясь, вошла все та же девушка. Молодая, красивая, но для Джорджа это больше не имело значения.
— Почему ты мне не сказала, что ты новая жена Смоука? — спросил он.
Она не растерялась.
— Я думала, баас знает, — ответила она, стоя в дверях все в той же позе смиренной скромности.
Возможно, она и в самом деле так думала, но Джордж настаивал:
— Почему же ты пришла, если не была уверена, что я об этом не знаю?
— Но он старик, баас, — изменившимся голосом, умоляюще сказала она, вся передернувшись от отвращения.
— Больше не приходи, — сказал Джордж.
[91] Она перебежала комнату, бросилась на пол и обняла его ноги.
— Баас, баас, — лепетала она, — не прогоняй меня.
Злость, которая уже было улеглась у него в душе, вспыхнула вновь. Он отшвырнул ее от себя и вскочил.
— Вон отсюда! — крикнул он.
Она медленно поднялась и стояла, как прежде, смиренно покорная, только теперь лицо ее омрачала печаль. Она не проронила ни слова.
— Не смей больше приходить! — приказал он.
Она не шелохнулась, тогда он взял ее за руку с той подчеркнутой мягкостью,, какая вызывается сдерживаемой злостью, и вытолкнул из дому. Потом запер дверь и лег спать.
На ночь Джордж всегда оставался в доме один. Повар и слуги, вымыв посуду, уходили в поселок, и только один из садовых рабочих спал вместе с собаками в сарае на задворках, охраняя дом от воров. Слуги жили у Джорджа подолгу, но садовых рабочих у него не было постоянных: они менялись через несколько месяцев. Этот служил у него всего недели три, и Джордж, не потрудился завоевать его расположение.
Около полуночи у черного хода раздался стук; Джордж открыл дверь и увидел своего рабочего с такой ухмылкой на физиономии, какой ему еще не приходилось видеть у туземцев, по крайней мере по отношению к себе, Рабочий указал на черную фигуру под огромным деревом, которое в ярком лунном свете казалось особенно громадным, и доверительно шепнул:
— Она там, баас, ждет тебя.
Джордж не раздумывая, дал ему тумака, чтоб согнать у него с лица эту ухмылку, и вышел в залитый лунным светом двор. Девушка не двинулась, не взглянула на него. Она стояла и ждала, опустив руки, словно статуя скорби. Эти руки — их беспомощность — вконец разозлили Джорджа.
— Я тебе сказал, убирайся откуда пришла, — прошипел он злобно.
— Я боюсь, баас. — И она заплакала.
— Чего ты боишься?
Туземка взглянула в сторону поселка. Глаза ее блестели в лунном свете, падавшем сквозь ветви сверху. До поселка целая миля зарослей, и по обе стороны дороги — [92] горы, большущие скалы, отбрасывающие густые тени. Где-то выла на луну собака; из зарослей доносились самые разнообразные ночные звуки: голоса птиц, стрекотание насекомых, рычание каких-то неведомых зверей; то была жизнь во всем ее многообразии, жестокая жизнь. И Джордж, глядя на поселок, который в этом призрачном свете, казалось, отступил назад, слился с деревьями и скалами — ни единый огонек не выдавал его присутствия, — ощущал то же, что и всегда; именно это чувство привело его сюда много лет назад. Он смотрел, и ему казалось, что он куда-то медленно плывет, растворяясь в зарослях и лунном сиянии. Он не испытывал ужаса, не понимал, что такое страх; в нем самом жила такая же жестокость, крепко запертая где-то в глубине. А девушка, которая выросла среди этих зарослей и этой глуши, не имеет права дрожать от страха. Такие туманные мысли проносились в его голове.
Свет луны лился на Джорджа, и было видно, как на мгновение у него искривился рот. Он грубо потянул девушку к свету, повернул лицом к поселку и приказал:
— Теперь иди. — Ее всю трясло. Он чувствовал, как, словно в порыве страсти, содрогается ее тело, и, оттолкнув ее так, что она едва не упала, он снова повторил: — Иди!
Девушка отчаянно рыдала, заслонив рукой глаза. Джордж окликнул рабочего, который стоял неподалеку от дома и наблюдал за происходящим; у него было такое выражение лица, что Джордж предпочел не обратить внимания.
— Отведи эту женщину назад в поселок.
Впервые в жизни Джорджа его ослушался цветной. Парень просто покачал головой и заявил с прямотой — не грубо, а скорее с упреком, что его просят сделать то, о чем не следовало просить.
— Нет, баас.
Джордж понял, настаивать нельзя. Он нетерпеливо повернулся к девушке и, решив положить всему этому конец, сказал:
— Я не собираюсь препираться тут с тобой.
Потом пошел домой и лег в постель. Он настороженно прислушивался, — может быть, они разговаривают, эти двое, там во дворе: он все надеялся, что они как-нибудь договорятся. Но вот по земле загремели цепи, залаяли [93] собаки, потом хлопнула дверь. Рабочий ушел в свой сарай. Джордж подавил в себе желание подойти к окну и посмотреть, здесь ли еще туземка.» Она могла бы забраться в какой-нибудь сарай—они ведь не все заперты.
Джордж долго не мог уснуть. Внервые за много лет сон не шел. Конечно, он все еще злился; ему было неловко, что он оказался в ложном положении перед Смоуком, что он обидел старика; но его мучило еще и другое; опять у него в душе был этот разлад, противоречия, которые приводили его в дикую ярость, словно в спокойную жидкость влили какое-то химическое вещество, вызывающее брожение. Он не находил себе покоя, все тело его судорожно подергивалось. Как будто что-то огромное, стояло рядом и, угрожая, говорило: «А куда же ты денешь
На заре — в поселке еще не закурился дымок над хижинами — Джордж разбудил рабочего. Тот вышел из сарая, заспанный, с красными глазами, за ним вышли собаки. Джордж велел ему позвать Смоука. Он чувствовал, что должен извиниться перед стариком, должен доказать свою правоту человеку, к которому был привязан больше, чем к кому бы то ни было с тех пор, как умерли его родители.
Поджидая Смоука, он оделся. Дом был совершенно пуст. Слуги еще не пришли из поселка. Джордж очень волновался, зная, что объясниться со Смоуком необходимо. Но старик что-то не шел. Холмы уже озарило солнце, из кухни потянулся запах кофе и кипящего сала, когда Джордж, нетерпеливо ожидавший на веранде, увидел меж деревьев приближающихся туземцев. Старый Смоук был закутан в одеяло, с двух сторон его поддерживали молодые парни; он двигался с трудом, будто каждый шаг стоил ему огромных усилий. Трое туземцев подошли к крыльцу, и Джордж почувствовал себя обвиняемым. Но ни один из обвинителей не смотрел на него.
— Смоук, мне очень жаль. Я не знал, что это твоя жена, — тут же начал он. Но они так и не взглянули на него. В нем уже закипало раздражение — они не принимали его раскаяния. — Откуда я мог знать? Откуда? — сердито повторил он.
— Где она? — не отвечая на его вопрос; спросил Смоук слабым ворчливым голосом очень старого человека.
[94] Этого Джордж не ожидал. Раздражение охватило его с новой силой.
— Я отослал ее домой, — гневно ответил он. Неистовство собственного гнева отрезвило его. Он не понимал, что с ним происходит.
Стоявшие перед ним люди молчали. Парни, поддерживающие Смоука под руки, стояли, не поднимая глаз. Смоук бесцельно обводил взглядом зеленые склоны гор, долину внизу; он что-то искал, но искал без всякой надежды. Он был сломлен. Стараясь говорить спокойно, Джордж сказал:
— Я не знал до вчерашней ночи, что она твоя жена. — Он остановился, глотнул слюну и продолжал, поняв теперь, в чем его обвиняли:
— Она пришла ко мне вчера вечером, но я велел ей идти домой. Это было поздно. Разве она не вернулась к тебе?
Смоук молчал; взор его блуждал по окружавшим их скалам.
— Она не приходила домой, — наконец проговорил один из парней.
— А не могла она зайти к подруге? — предположил Джордж, тщетно стараясь найти объяснение.
— Ее нет в поселке, — сказал тот же парень, отвечая за Смоука.
Наконец, в первый раз старик прямо взглянул на Джорджа, но так, словно тот был каким-то предметом, вещью, которая не имеет к нему никакого отношения. Потом он попытался высвободиться из рук парней, но они, поняв, что ему надо, бережно повернули его, и все трое медленно двинулись обратно к поселку.
Джордж совсем растерялся; он не знал, что делать. Он стоял на ступеньках и курил, растерянно глядя вокруг, на знакомый суровый пейзаж, вниз, на долину. Надо было что-то предпринимать. Он опять окликнул слугу. Когда тот пришел, он приказал ему расспросить садового рабочего. Слуга вернулся, и на лице у его была такая же оскорбительная усмешка, как раньше у садового рабочего.
— Садовник говорит, он не знает, что случилось, баас, — сказал он. — Он пошел спать и оставил девушку во дворе, так же как и сам баас. — Эта последняя фраза, видимо, прямо повторяла оскорбительное обвинение, брошенное рабочим. Еще вчера Джордж воспринял бы это [95] совсем не так, как сейчас. Он словно не понял, что его оскорбили.
— Где же она? — спросил он наконец у слуги.
Слуга удивился. Вопрос показался ему нелепым, и он ничего не ответил. Он только, так же как Смоук, поднял вопрошающий безнадежный взгляд на скалы, и Джорджу пришлось признать то, чего он так упорно не хотел признавать.
Он стоял, глядя в ту же сторону, что и слуга, и чувствовал, что становится другим. Он смотрел на беспорядочное нагромождение скал, острые черные вершины которых четко обрисовывались в чистой синеве неба, ранней синеве африканского утра, и ему вдруг почудилось, что горы, родные и близкие ему, пятятся назад, свирепо ощетинившись, словно зверь, и за ними таится угроза, страшная угроза, готовая настигнуть его в темном углу, где прячется страх. Страх шевельнулся в груДи Джорджа; этого чувства он не знал раньше; страх полз по телу, и он вздрогнул от его леденящего прикосновения. Ощущение было столь необычно, что Джордж потерял дар речи. Медленно, осторожно, словно боясь разбить хрупкую вещь, он вошел в дом и сел завтракать, и только ритуал за столом, соблюдения которого он всегда так требовал, вернул ему равновесие. В душе у него зрело решение, и он заботливо его оберегал, еще не зная, во что оно выльется. Когда, допив кофе и позвонив слугам, он вышел на веранду, знакомый пейзаж стал вдруг чужим, и что-то в душе словно указывало на него пальцем. И хотя солнце уже сильно припекало, Джордж опять задрожал; скрестив руки, он охватил ладонями плечи: они показались ему удивительно слабыми. А ведь совсем еще недавно в них была могучая сила гор, еще до сегодняшнего утра это были ветви, на которых распевали птицы; тот ужас, который подстерегал его где-то в темном углу снаружи, был теперь у него внутри, и ему предстояло с ним сразиться.
Целый день Джордж просидел на веранде с трубкой и ничего не делал. Слуги избегали показываться в передней половине дома.
Перед закатом солнца он достал ружье, которым пользовался только в редких случаях, когда надо было убить змею, например, — он ни разу не стрелял из него в птицу или зверя — и очень тщательно его почистил. Он распорядился, чтобы обед подали на час раньше, и, пока обедал, [96] несколько раз выходил взглянуть на небо. Оно было чистое от горизонта до горизонта; над уступами скал разливалось сияние. А как только над самой высокой скалой всплыла тяжелая желтая луна, Джордж сказал слугам, что уходит поохотиться. Они ничуть не удивились — что еще ему оставалось? Никто не ушел в поселок: они ждали его возвращения.
Джордж миновал бассейн, где рябила вода, прошел между скалами и вышел к месту, где ползучие растения сада сливались с зарослями. Сначала тропинка вела среди низкой вытоптанной травы, потом разветвлялась на две: одна вела к службам фермы, другая углублялась в рощу. Джордж быстро шел вперед среди густых теней: трава здесь все еще была невысокой, стволы деревьев блестели и были видны до самого корня. От края рощи тропинка вилась по холму, огибая огромные камни, и на всем этом пространстве были зубчатые скалы, которые казались сейчас более высокими и острыми, чем на самом деле, из-за теней, отбрасываемых в свете луны. Идти здесь было легче. Луна лила потоки желтого света. Тень Джорджа двигалась рядом, то удлиняясь, то укорачиваясь на неровностях местности. Позади была чернота леса, впереди — скалы, и их гранитная поверхность сверкала белизной, словно соляные стены. А вокруг — изломанные, тускло-фиолетовые тени с пятнами лунного света. Слева скалы круто вздымались ввысь, справа земля обрывалась лощиной и на многие мили вдаль уходил огромный отлогий склон, поросший травой. Трава покачивалась на ветру, то пригибаясь, то выпрямляясь, и весь этот простор колыхался в мягких переливах лунного света. А далеко внизу расстилалась долина, и там мерцали огоньки ферм.
Гора впереди была окутана тишиной, мертвой тишиной. Даже птицы не шевелились, и только неумолчно стрекотали насекомые. Джордж шагнул в темноту, сердце дрогнуло у него в груди, холодный страх он держал наготове, как оружие. Ружье свое он нес небрежно.
Настороженно озираясь, он двигался по тропинке, что вилась по склону среди скал. Он шел и молил судьбу, чтобы враг встретился ему скорее и он уничтожил бы этого врага. Только на вершине он остановился и стал ждать — позади была залитая лунным светом веранда его дома, впереди — освещенные хижины поселка. Он стоял очень тихо, и сдерживаемый страх разрастался в его груди; [97] и хотя по коже у него подирал мороз и волосы шевелились на голове, руки твердо сжимали ружье. С одной стороны черной крышей нависала над ним большая скала. С другой была площадка, зажатая между скалами, опоясанная густыми зарослями. Деревья и скалы окружали его со всех сторон. Враг мог появиться отовсюду. Но Джордж инстинктивно чувствовал, что он именно здесь. И стоял очень тихо, чтобы не спугнуть его. Ему не пришлось ждать долго. Дикий вой собак в поселке еще не взвинтил ему нервы, еще не онемела шея от того, что он без конца вертел головой, как одна из теней в нескольких шагах от него стала удлиняться, потом отделилась от скалы. Подкрадывающийся зверь сверкнул зелеными глазами, лунные блики задвигались по его телу. Зверь приник к земле, готовясь к прыжку. Джордж вскинул ружье и выстрелил. Послышалось хрипение, и животное замерло. Джордж опустил ружье: он стоял, не двигаясь, в недоумении глядя на зверя. Вот он, мертвый враг, в двух шагах. Распростертое почти у его ног тело леопарда все еще корчилось и вздрагивало в агонии. В душе Джорджа опять вспыхнула злоба: все оказалось просто, слишком просто. Он растерянно посмотрел на ружье, потом пнул ногой безжизненную тушу леопарда сначала с любопытством, потом с ожесточением и наконец изо всей силы ударил прикладом по голове; один за другим посыпались тяжелые, глухие удары. Но ни сопротивления, ни звука в ответ, ничего...
И когда он ощутил запах крови и мяса, он остановился, обессиленный, беспомощный. Он ждал совсем другого. Он не получил того, зачем пришел. Бросив зверя, Джордж отправился домой, от слабости у него подгибались ноги, рыдания сжимали грудь; он плакал злобными, бессильными слезами обманутого человека.
Слуги без единой жалобы отправились в темноту, теперь уже безопасную, чтобы притащить леопарда домой. При свете ламп они начали сдирать с него шкуру. Джордж заснул тяжелым сном, а утром увидел шкуру, растянутую на солнце внутренней стороной кверху; от жары тонкая, как бумага, кожа пузырилась и дымилась. Джордж отправился в горы и, все утро пробродив по зарослям среди кратегусов и дубов, нашел наконец вход в пещеру. Там лежали свежие человеческие кости, кости домашней скотины и кости поменьше, может быть антилопы или зайца.
[98] Зверь был мертв, но Джордж по-прежнему ощущал пустоту, как голодный человек, который уже не надеется насытиться. Он не знал, что могло бы его удовлетворить. С фермы пришли работники за распоряжениями, но он нетерпеливо отмахнулся от них и отослал к Смоуку.
А через несколько дней старый Смоук пришел к нему сам; сдержанный, печальный и гордый, он пришел сказать, что уходит; он слишком стар, чтобы работать на сына старого бааса.
Вскоре поселок наполовину опустел. Нужно было срочно найти новых рабочих, и Джорджу пришлось взять себя в руки. Кончились для него хорошие времена. И хотя кое-кто из родственников Смоука остался, в поселке больше не было центра, власти. Теперь ему самому придется стать этим центром, создавать его собственной волей, собственной властью; он очень хорошо понимал, что его ждут постоянные заботы и трудности. Теперь он был в таком же положении, как и его соседи.
Джордж старался, как мог, подправить дела. Устраивая свою жизнь, он чувствовал себя так, словно был выздоравливающим — вероятно, потому, что в душе у него жила боль и ненасытная злоба, умиротворить которую не могла никакая работа.
Некоторое время он ничего не делал. Потом в его конюшнях появились лошади, и у него на ферме стали бывать любители лошадей. Он завел также свору собак, которых сам обучал, и поснимал все объявления, запрещавшие охоту. Теперь-то и появился Джордж «Леопард» и окружающие горы и скалы были для него лишь обиталищем леопардов. По субботам к нему наезжали гости; все они — мужчины и женщины, молодые и старые — приезжали сюда по разным причинам: одних привлекало гостеприимство Джорджа, другие приезжали из симпатии к нему, третьи — ради воскресной охоты, за которой всегда следовало настоящее пиршество.
Вскоре Джордж женился на миссис Уотли, женщине, обладавшей достаточным умом, чтобы понимать, что можно и чего нельзя себе позволить, если она хочет остаться хозяйкой «Четырех ветров».
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |