"Повольники" - читать интересную книгу автора (Яковлев Александр Степанович)
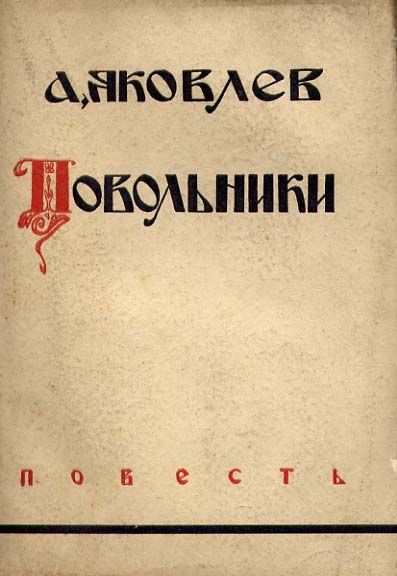 |
Александр Яковлев Повольники
Как раз там, где речка Малыковка впадает в Волгу — на самом яру — лет двести назад стоял кабак «Разувай».
По Волге суденышки ходили — вниз сплавом или на веслах, а вверх — бечевою, что тащили бурлаки, или, при попутном ветре, шли Христовыми столешниками — парусами. А на суденышках каждый бурлак знал про «Разувай». Вниз ли судно идет, вверх ли — все равно: как завиднеется из-за белых гор зеленый лесок малыковский, так бурлаки в один голос:
— Чаль к «Разуваю»!
А уж как причалят, дорвутся:
— Гуляй!..
И здесь спускали все: серебро и медь из кисетов, шапки, рубахи, бахилы — все шло кабатчику. За вино хмельное, за брагу сычену, за девок за угодливых, за жратву сытную… Пропивались вдрызг, до штанов.
И, пропившись, с хмельным туманом в голове, с горькой сивушьей отрыжкой в горле шли бечевником дальше, тащили косоушки, баржи, прорези… Или веслами помахивали лениво.
Потом до самой Самары или до самого Саратова вспоминали:
— Вот так погуляли! Вот это каба-ак!
Так добрая слава ходила про «Разувай» по матушке-Волге.
А держал этот кабак Ванька Боков — верховой волжанин, ругатель, сам пьяница, роста богатырского — в плечах косая сажень с четвертью, глаза черные, лицо выразительное, смуглое, точь-в-точь как у святого Николая, как его рисуют на древних новгородских иконах.
Откуда он пришел — этот Ванька Боков, — никто не мог бы сказать. А сам он загадочно молчал. Лишь по-пьянке, разгулявшись с гостями, крутнет головой бывало, махнет широко рукою и гаркнет:
— Где ты, мое времячко!..
А Ванькины гости — бурлаки, пьяницы, голытьба, пропойцы, — по ястребиному глянут на него и:
— Аль лучше прежде-то было?
Боков глаза в землю и, не отвечая, вдруг оглушительно, как труба, запоет старую разбойную песню.
Гости разом почувствуют, что здесь что-то свое говорит, родное, таинственное, разбойное, — растрогаются и спустят у кабатчика-певуна остатние гроши.
А вот купцы и купеческие приказчики, господа приказные да их соглядатаи — те косо поглядывали на кабак. Дурная слава между ними ходила и про кабак, и про самого Ваньку Бокова. Говорили, будто у Ваньки были товарищи, что жили в лесах, в оврагах, вверх по Малыковке, куда пройти — надо тропки знать, через болота, через трясь. И с этими товарищами Ванька ночами, а иногда и днем грабил купецкие суда. Будто умел Ванька хорошо крикнуть:
— Сарынь на кичку!..
Да ведь на чужой роток не накинешь платок.
Правда, не всегда суда благополучно проплывали мимо «Разувая», — случалось, что на песках, пониже Малыковки, подолгу валялись человечьи трупы, выброшенные волжскими волнами, распухшие, синие, с разбитыми кистенем головами.
Да кто же знает, откуда они?
А приедут приказные, — Ванька без шапки им навстречу выйдет, умильный да нагибистый, в три погибели гнется:
— Милости просим, гости дорогие, пейте — кушайте.
Сам угодливый, — глаза постель мягкую стелят.
И пили приказные, и ели, и серебро у Ваньки брали, уже не справляясь, награбил он его или честным путем добыл.
И все сходило Бокову с рук.
До старости Боков дожил — черная длинная борода белыми нитями засеребрилась, погнулся он, ссыхаться стал, уже не пил с гостями — голытьбой, не пел старых разбойных песен — чаще молился перед черной старой иконой новгородского письма, перед ликом святителя Николая, который чем-то, как-то напоминал самого Ваньку…
А на смену Ваньке шли молодые Боковы: Петька, Микишка, да Степка.
Такие же дубы, как тятяша, отцову тяжелую кубышку разделили они по-братски…
А злая слава и тогда Боковых не оставляла.
— Боков? Который же это Боков? Ванька?
— Да нет же. Ванька помер. Теперь сынки его народ глушат…
Ездили Микиша со Степкой долго по Волге; слух ходил, богатели. А потом осели где-то в больших городах — не то в Казани, не то в Нижнем, тоже народ грабить да глушить, только по-новому, по-купецкому.
А в старом отцовском «Разувае» остался один Петька.
Вокруг «Разувая», тоже на яру, келий понастроил, баб завел (бурлакам да купцам для утешенья), растолстел, как сазан в озере, умильный такой, ласковый.
Лишь изредка он соскакивал с зарубки: напивался вдрызг, и оглушительно, по-отцовски, пел старые разбойные песни, что слышал в детстве.
Время же волжской водой — без останову. Глядь-поглядь, вокруг «Разувая» избы начали строиться, пришлый люд попер сюда: место удобное для селитьбы нашел, лес повырубил.
И выросло село: Ма-лы-ков-ка. С церковью, с улицами. И первый богатей в Малыковке был Петруха Боков.
И не только деньгами богат был, и детьми: семь сыновей у него было…
Все такие же богатыри, как тятяша их или покойный дедушка: в плечах косая сажень с четвертью, чернобородые, с выразительными глазами — словно святые со старых икон новгородского письма…
Торговали, хапали, со всех сторон грабили — о боковских богатствах заговорили по всему Поволжью от Казани до Астрахани.
Крупным щукам стало тесно в озере: стало тесно братьям Боковым в маленькой Малыковке — пошли одни вверх по Волге жить в Самару да в Казань, а другие вниз — в Царицын с Астраханью. Остался в Малыковке меньшой брат Михайло, женился на богатой кулугурке, сам в кулугуры перешел — богачеством загремел пуще прежнего.
Да вот незадача: Забунтовала голытьба — Пугач пошел по Волге, всем волю обещал.
Воля?! Не был бы Михайло Боков русским человеком, ежели бы слово это не взяло его голой рукой за сердце за самое… Услышал он про волю, будто бес ему в ребро: потянул за Пугача. Даром, что богач был, в кисете золота пуд.
— Братцы! Поддержим! Бей приказных!
Пугач в Сызрани еще, а Малыковка уже вся на ногах, — вспомнила старинку вольную, когда отцы-то и деды по Волге плавали, грабили да гуляли — кровь закипела — пошли за Михайлой Боковым…
В Малыковке слободской управитель был, с приказными. Всех их повязали бунтари, заперли в избу приказную, и живьем сожгли. Михайло Боков главный зачинщик был. С тестем со своим с кулугуром Сапожниковым. То-то потом попили, попировали, когда от приказных избавились!..
Но года не прошло — в зимнее утро на малыковской площади, у Предтеченской церкви, заиграли солдатские трубы. А по улицам ходили солдаты в зеленых мундирах, с косицами, сгоняли народ на площадь.
На площади крутился на лошади молодой офицерик Гавриил Романович Державин.[1]
Собрались малыковцы, Державин к ним:
— Кто зачинщик?
Молчит толпа.
— Кто зачинщик, вас спрашиваю? Всех перестреляю, если не скажете.
Солдаты с косицами взяли ружья на руку. Толпа на колени. И выдала Михайлу Бокова.
— Вот кто зачинщик… А еще Сапожников… Да кривой портной; да Тимофей Андронов — они подбивали бунтовать.
Решительный был молодой поручик Гавриил Романович Державин.
— Повесить их!..
Подхватили солдаты с косицами Михайлу Бокова, повели на окраину Малыковки, и там на кладбищенских воротах повесили. А с ним — его тестя Сапожникова, Тимошку Андронова и кривого булгу — портного…
Зеленые солдаты с косицами разграбили до тла боковский дом, жену Бокова прочь выгнали с малым сынишкой, а дом сожгли…
Была зима, лютый мороз. Во весь голос вопила Бочиха — и мужа жалко, а еще больше — дома жалко, житья привольного жалко…
Много лет спустя, на том месте, где было первое кладбище села Малыковки и где, на воротах, по приказу поручика Державина, был повешен Боков и Сапожников с товарищами, родной брат Сапожникова построил храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы.
И когда покровский колокол созывает теперь людей на молитву, он чуть плачет. И знают все, почему плачет колокол. Знают: на крови стоит церковь Божия, Покрова Пресвятой Богородицы.
А время неуемно растит одних, старит других.
Лет через двадцать пять на берегу Волги появился молодой мужик — бурлак, грузчик — с черной бородой, выразительными глазами, горластый.
Крикнет:
— Гей-ей-ей… Двигайся!..
Аж в ушах запищит… И мужики смачно засмеются, заругаются…
— Кто?
— Боков.
— А, это тот, у которого отца?..
— Тот самый.
Оборотистый, крепкий мужик вышел. Побурлачил лет с десяток — свою прорезь завел, сам в дело пошел…
Да нет уж. Проклятая казнь, проклятие привела к дому — не оправился Боков. Так захудал, запил. Вот-вот соберет добро — и — р-раз! — пропьется до штанов.
А годам к сорока, когда у него ребятишек куча была, за что-то посадили его в тюрьму, там он и сгиб.
Но зацепка боковская в жизни была: дети.
Выходили такими же мужиками крепкими, в плечах — косая сажень с четвертью, чернобородые, глаза ястребиные, круглые. И пили здорово. И голосино несли по наследству. И буйны были в пьяном виде.
Малыковка росла, росла, росла — и в целый город выросла — Белый Яр. Там, где было мшистое болото, улицы теперь прошли — Караванная, Моховая, Приютинская.
Народ крепкий в городе засел — бородатые мужики старообрядцы, настроили молелен на укромных местах по Малыковке, скитов по Иргизу, что против города в Волгу впадает, стал город пристанью волжским староверам и сектантам.
Новиковцы, спасовцы, перекрещеванцы, духоносцы, лазаревцы, сопуны, прыгуны, сионцы, дырники, дунькиной веры, австрийского согласу, левяки… Как рыбы в Волге.
Занимались сплавом леса, мукой торговали, кожами, обдирали мужиков саратовских и заволжских, строили мельницы, заводы, дороги, раздвигали город и в ширь и в глубь, несли культуру в глухой разбойничий край, а между делом, особенно по зимам, в трактирах и на базаре, толковали о Боге, о крестном знамении, о том, на какое плечо надо сперва крест нести: на правое или на левое — спорили, — и в спорах порой дрались свирепо, по ушкуйнически, вцеплялись друг другу в бороды, — ибо считали такую драку делом святым: побить еретика — сто грехов простится. Ведь святитель Николай, угодничек Божий, самый любимый, самый наш, самый русский, он же дрался с еретиками, бил их своими кулаками святыми по окаянным еретическим шеям.
А в праздники по зимам — с Николы зимнего — у кузниц во Львовской роще собирались мужики и ребята со всего города и устраивали драки стена на стену. И здесь-то на воле гуляла старая разбойная кровь.
Бились до полусмерти, ломали ребра и груди, сворачивали скулы, выбивали глаза. Безумели в драках.
И на побоище, как на праздник, съезжались именитые купцы посмотреть, на санях. Поднявшись на облучек, смотрели через головы толпы в самую гущу. И случалось — сами ввязывались. Когда темнело, приходил странный боец — широкобородый, в большой шапке, привязанной шарфом, чтобы в драке она не спала с головы, в рукавицах, в полушубке. И все знали, что это пришел драться отец Никита — поп из старого собора, — большой любитель драк…
А еще приходил молодой мужик — чернявый, с выразительными глазами, высокого роста, в плечах — косая сажень с четвертью.
Он молча становился в самую середину той стены, в которой бились кузнецы, и бросался на «квартальских».
И смутный гул пробегал по толпе:
— Боков пришел, Боков. Держись!
«Квартальские» бросались на Бокова гурьбой, а он чикрыжил их кулаками, словно гирями, — щепки летели.
И, разгорячившись, вдруг орал оглушительно, как ушкуйник:
— Держи!.. Бей!..
Враг бежал за овраг.
— Ай, да Боков. Вот это богатырь. Вот это боец.
— Подождите, мы вашему Бокову намнем бока.
— Что же сейчас-то не намяли?
— Го-го-га-га…
— Боков, вот тебе трешница на водку… Милый ты человек… Иди ко мне в кучера.
И Злобин — богатей, заводчик — обнимал Бокова при всей толпе, целовал его, растроганный.
И все стояли улыбаючись, довольные…
На другой день разговоров по городу — горы.
Так не переводилась в городе слава боковского рода, буйного, повольного, и так докатилась она до дней наших…
Гром, рев звериный, свист.
Гармоника саратовская — визгливая, с колокольцами, — растягивается на целый аршин, взвизгивает, — в ухо будто шилом острым.
А певцы — в полпьянку, — идут середкой улицы, вдоль грязной дороги, молодцы, как на подбор, картузы на затылках, в теплых пиджаках, в высоких сапогах. Форсяки. И поют неистово, каждый старается перекрикнуть каждого, перепеть. Глаза — круглые, ястребиные, хищные, а рты, как западки.
Бабы, девки, ребятишки — мухами к окнам, смотрят жадно на грязную осеннюю улицу, на поющую толпу, провожают ее долгим взглядом. Прошли уже, а в окна все бьет дикая песня.
— Некрутье гуляет, волюшку пропивает.
— Никак, и Гараська Боков с ними?
— А как же? Он тоже в этом годе лобовой.
— Слава тебе, Царица Небесная, хоть бы убрали его от нас.
— Уберут. Здоровый он, ровно бык. И задеристый. Таким в солдатах самое место.
— Житья от него не стало.
— Вот теперь-то делов накрутит.
— Да-а, уж теперь держись. Набедокурит.
— Придется мужикам ночи не спать. А то, матушки, и окна выбьют и ворота унесут…
— Вот братец Пашка-то тоже такой был, когда молодой-то. И-и, беда.
— Ну, этот еще хлеще брата.
И начали бабы Гараську Бокова по косточкам разбирать. И шалыган-то он, и непочетчик, и разбойник.
— Кто у Петуховых-то забор поперек дороги ночью поставил? Он. Кто трубы у Свистуновых с крыши снял? Он. Кому же больше? Самый отпетый.
— Дай, Господи, чтоб не забраковали…
— Не забракуют.
А Гарасько — ему что? — он передом в толпе, орет во все горло, оглушительно:
Гармоника саратовская, с колокольцами:
Идет Гараська дубком, не гнется. В плечах косая сажень. Боковы все широкая кость.
Гармонист Егорка рядом, русый вихорь из-под картуза — рогом, Ванька Лукин, Петька Грязнов, Санька Мокшанов.
— Молодяк. Двадцать первый повалил. Самые в соку… Некрутье — отпеты головы.
А некрутье на перекрестке. Четыре квартала крестом отсюда.
— Ну, ребя, прощайся, — командует Боков.
И все двенадцать комом сжались, бок к боку.
— Дев-ки-и-и!.. Про-щай-те-е…
А дальше такое слово, что ай да ну.
Это называется: некрутье с девками прощается. С подружками, с лапушками, с гулеными. На три года солдатчины, в чужу дальню неизвестну сторонушку…
Повернулись лицами к другому кварталу и опять:
— Дев-ки-и-и!.. Про-щай-те-е…
А дальше такое слово…
И так во все четыре квартала. У окон бабы мухами, а где не видно из окна, шубейку на плечо и к калиткам.
— Глянуть, как прощаются.
Копошатся пятнами у калиток, вдоль всей улицы — грязной, унылой, осенней. А некрутью — будто весна. Грязь — она будто лучше: по пьянке упадешь, не ушибешься.
— Дев-ки-и… Прощайте…
Откричали на этом перекрестке, на другой двинули. И опять взвизгнула гармоника, и неистово заорали песни парни.
Так днями целыми, две недели, от Покрова до призыва ходили они, орали песни, прощались, дрались. Ночами мужики не спали: караулили, как бы у них окна не вылетели, или ворота не ушили. Сговарились с соседями, чтобы в случае чего, помогать друг другу.
— А то разя с ними сладишь?..
Особливо приходилось плохо тем, у кого девки-невесты. Тут уж на прощанье некрутье выкинет какое-нибудь коленце.
— Мы в солдаты, а ты останешься, другому достанешься. На же тебе!..
И вот: иль ворота измажут дегтем, иль в окна лаптем запустят. — А Писаревой Польке — этакой задорной девченке — под самой крышей налепили аршинную афишу:
— Здесь продаются живые раки.
На утро весь курмыш покатом катался от хохота.
— Ха-ха-ха. А, батюшки!.. Польке-то Писаревой… Продаются живые раки… Хо-хо-хо…
— Вот выдумали, вот наклеили.
— Да, уж теперь долго не отдерешь.
— Кто придумал-то? Неужели Гараська?
— Ну, где ему, тупорылому. Это Санька Мокшанов, не иначе.
— Гараська сам не выдумает. Его подзудят, он и лезет на рожон.
— Ах, проломна голова.
— Берегитесь, бабоньки, как бы вам чего не сделал…
И сторожили. До самого того дня сторожили, как пошел Гараська с товарищами на призыв.
Ну, тут уже дело сразу другой стороной обернулось.
День вовсе наране, а все курмыши на ногах: вроде как праздник — парни идут на призыв, а соседи с ними поглядеть. Все в праздничных пальто с барашковыми черными воротниками, а бабы — в шубах, крытых сукном, в ковровых шалях. Эти пальто, эти шубы круглый год лежали в сундуках, пересыпанные нафталином. Раза четыре за зиму только и надеваются: к обедне на Рождество, на Крещение (на Ярдань), да на масленицу в прощеный день. И вот еще в этот день, призывной, когда наши ребята идут царю-отечеству служить. И степенно идут. Вчера еще эти самые мужики с кольями ждали вот этих самых парней за воротами, чтобы в случае чего… А ныне — парни впереди, как герои, а все остальные за ними — рядками, говорят приглушенно, будто в церкви.
Аграфена Бокова вслед за Гараськой. Глаз не спускает — так он люб ей, этот разбойник… И все здороваются с нею приветно:
— Аграфена Митревна, мое вам почтение.
Как же, сына снарядила на службу на царскую — честь матери.
Около присутствия — все черно от народа. Весь город сошелся. Всякому лестно поглядеть, как призываются. На лестницах — в оба этажа народ вереницами — все больше мужики. На крыльце — не протиснешься, и вся площадь битком.
Щетинистый выскочил на крыльцо, с медалью на груди, с бумагой в руках.
— Игнатий Андрюхин!
И стоном по толпе — из уст в уста:
— Игнатий Андрюхин!
Где-то взвизгнул бабий голос.
— Есть, что ли?
— Есть. Вот он. Идет. Игонюшка, прощай…
— Давай его сюда…
— Да вот он идет. Вот…
И все — сколько есть глаз на площади — все смотрят на спину Игнатия Андрюхина.
А щетинистый опять на крыльце.
— Иван Артюшин, Герасим Боков…
И опять буря криков. Бабы на цыпочках поднимаются, чтобы глядеть через голову на Гараську, а тот без шапки лезет через толпу. Смущенный, красный.
— А, милый ты мой, Гаранюшка.
Это Митревна. Это ее тонкий, пронзающий уши вой… И когда Гараська скрывается за дверями, все смотрят на Митревну, хлопочут — утешают.
— Ну, что там, не плачь, мать, чать, гляди сколько народу идет. Нюбивайся.
А на крыльце уже волнуются. Парень вышел. Пиджак на нет растрепан, застегнут на одну пуговицу. Лицо красное.
— Приняли.
Он махнул рукой и криво усмехнулся. А толпа вмиг подхватывает его на руки, бросает вверх.
— Качать…
А чей-то голос заплакал рядом.
И другой парень на крыльце. Весь радостный. Но его толкают и по шее, по шее, по шее. И бабы кулачишками стараются под бока толкнуть.
— Не взяли. Не приняли. Эх, дармоед.
И через всю толпу провожают с боем.
Вот и Гараська. Вышел на крыльцо, вытянулся, руки крестом и гаркнул на всю площадь:
— Приняли. В гвардию!..
— О-о-а-а, урра!.. Качать!
И Гараську на руках понесли, подбрасывая в воздух, до матери, до Митревны, а та так сразу сомлела и на снег бы упала, да молодой чернобородый мужик ее держит, в охапку взял, не дает падать. А Гараську только поставили на ноги, он как гаркнет:
— Наша матушка Расея всему свету га-ла-ва!
Толпа грузным хохотом:
— Го-го-го…
— Э, мать, будет тебе плакать-то. Вот он я. Живой еще.
Та к его плечу приникла, а Гараська все глазами шнырь-шнырь, куда-то по подзаборью, где нарядные девки с тревогой в глазах смотрят и в толпу и на крыльцо, ищут тайно кого-то. А черный мужик гудит:
— Брательник, Герасим, ты вот гляди, как перед Богом, не дам мамашу в обиду. Сказал и готово. И говорить больше не надо. Выпьем…
И мелькнула бутылка. А пестрая толпа кипит… великое, именитое уездное мещанство…
И мал-мале по-малу, с площади идут в разные концы города медленно, довольные: как же, побывали на торжестве таком: наши ребятушки царю-отечеству идут служить.
А в Курмыше радость:
— Гараську-то забрали.
— Слава тебе, Господи.
Но вечером опять вой, свист, рев на улицах.
И гармоника саратовская, с колокольцами, визгливая:
— Затыкай уши, Мати Пречистая…
День зимний. Рань. А колокол звонит тревожно и призывно. И гужом по улицам народ. Все в собор, в собор. Прощальный день, некрутский день.
И опять Митревна идет за Гаранюшкой; в черном платке она, до земли согнутая, вся трепетно печальная. Рядом с нею все тот же чернобородый Павел, старшой. Гараська передом, грудь бомбой.
— Гвардия идет, дорогу…
А бабий плач в печальном звоне большого соборного колокола горяч и трепетен и берет рукой за самое сердце.
Тот же день. Вечер. Станция. Тысячи народа. Плач. Обрывки песен. Свист паровоза. Еще плач. А Гараська пьяный.
— А-а, пращай, девки-и…
Один он только и куражится.
— У, дурья голова. В остатний-то день не могет удержаться.
— Ну, такому что, ему наша Волга по колено.
— Пущай там похрабрится, дурь-то выбьют…
Еще свист паровоза, как сигнал. Вой источный, полный тоски.
— Прощай!
Вот какой палец ни укуси, все больно. Уже давно суровая зима залегла, давно бы Митревне утихомириться надо. А она вечерами, когда солнце уходило за дальние бугры, она садилась у окна, глядела на пустую степь перед окнами, на пороховушку, что чернела на буграх, на самом краю степи, думала о Гараське, и слезы капали на руки.
Свекровь злилась, ворчала.
— Ну, опять зарюмила. Ну ш… ненаглядный Гаранюшка… Все вон хоть молебны служить, рады избавились. А ты, мамынька, все…
И Павел с ней.
— А, брось ты, мать. Каково тебе еще рожна. Сыта — одета? Ну, и брось. А Гараська придет. Ты это обмозгуй: надо же кому-нибудь служить. Не он, так я…
— Всех жалко.
— Жалко. Чего ему сделается? Не война же теперь. Послужит, вернется.
— А ежели война?
— Ну, это, чай, Бог не попустит.
А вечер длинный. И тихонько солнце уходит за бугры, и свет кроткий кругом, как умирающий…
Так день за днем идет, — какой палец ни укуси, все больно.
Потом письмо: «Хорошо служу, пришлите мне пять рублей», потом надежда — вот пройдет три года, он вернется. «Господь даст»… И острая материнская тоска, умягчилась временем, в тихую грусть преобразилась.
Лишь вечерами, когда за буграми умирало солнце, Митревна глядела на пустырь перед окнами, и плакала украдкой.
— Вернется же он, вернется.
Какой палец ни укуси…
Но пришел день, и по всей великой стране, из края в край — прошла высокая костлявая женщина с сумрачными глазами, женщина, одетая во все черное; она постучала во все окна всей страны — и сказала короткое слово:
— Война.
И все задрожали, как листья под ветром. И всюду зазвучали песни, полные печали. Если бы взвиться к небу, глянуть вниз…
Все мужики великой и малой Руси, суровые олончане и архангельцы, крепкие сибиряки, пылкие кавказцы, расчетливая Литва и упорные латыши, волжские татары и мордва, киргизы, калмыки, черемисы, поляки — все запели свои самые грустные песни: прощай, дом родной.
Война. Война.
Из города поскакали во все волости верховые — с бумагами — приказами. И день скакали, и ночь. И суток не исполнилось, все села и деревни разом поднялись. Утром — до света — мужики и бабы в поле на жнитве. Жнитво шло, урожай в тот год загляденье был. И прямо с поля — с серпами, с косами, в рубашках потных, трудовых, в лаптях разбитых, без шапки иной прямо так — на телегу и в город. И у всех мысль одна, приказ один:
— Скорей, скорей, скорей.
Заскрипели дороги и проселки, бабьим воем огласились.
— А, батюшки…
И все чуяли: черная костлявая высокая женщина с сумрачными глазами прошла по недожатым полям. И везде умерла радость.
— Война.
А город зашумел, переполнился, как закипающий горшок. В каждом дворе подводы, подводы, подводы. На улицах российское мужичье — лапотное, крепкое, с крепким запахом, с корявыми тяжелыми руками, с пытливостью в серых глазах… Оно — непобедимое, вечно выносливое мужичье, сердце и грудь и вся сила России — оно заполонило все улицы тысячами, десятками тысяч грудилось у воинского присутствия — запрудило много кварталов кругом.
— Война.
— Война, братцы…
— Немец наступает. Бей немца.
— Эх, чтоб этому немцу. Погодить бы надо недельки три. Пшаница поспела бы, рожь, работать во как надо, а он здесь…
— Просить надо воинского, чтобы отложили войну ну хошь на месяц. Нам теперь некогда. Надо хлеб убирать.
— Нельзя отложить. Аль вы не понимаете, дураки?..
— Эх…
— А, милый ты мой, Овдонюшка.
— Не плачь, баба, все идем…
— Сердца не надрывай.
— Братцы, да как же это теперь, я и ружья-то десять лет не видал.
— Научат.
— Эх, выпить бы что-л: теперь!
— И казенки-то закрыли.
— По какому случаю?
— Священная война, а ты тут с пьяной мордой.
— Да я бы для задеру.
— А, ненаглядный ты мой, Никитушка.
— Баба, иди к черту. Не тревожь душу.
— Сынок, Тимоша… Подь сюда. Я погляжу на тебя в остатний раз.
— Выпить бы теперь.
— Случай такой, а они закрыли казенки.
— Царь приказал.
— Ну, это, чай, зря говорят. Царь и не знает про это.
— А вон гляди, городовые… Что-ж и городовых берут на войну?
— Городовых не берут.
— Не беру-ут? Ах, они черти проклятые.
— Бей полицию!
— Брось ты шебутиться-то. Тут война, а ты — черт те знает…
— Вот я те ерболызну по харе.
— А, ну, ерболызни. А-ну…
— Разойдись!..
— Эт-то на-ас?.. Полиция?!.
— Бей полицию!
Раз-раз-раз!.. Рррр… — засвистал полицейский свисток. Толпа зявкнула и за городовыми. Те едва спаслись от мужичьих кулаков. Начальство прятаться. А воинский — храбрый.
— У меня с полицией, как хотите, а на войну итти надо.
— Да, ваше благородие, да разе мы не понимаем? Сами запасные, сами служили. Война — дело царское.
— Урр-ра!..
— Выпить бы.
— А, ненаглядный ты мой, Петюшечка.
— Не вой, дьявол.
— Выпить бы.
— Ребя, в Клейменом конце казенку громят.
— Бей казенки!..
— Ар-ря! Ва-а! Бей!
И потоками в разные концы — к казенкам, к пивным, к трактирам.
— Водки, пива!..
Казенки — вдрызг, кабаки — настежь, и пошла гульба.
Четверти, бутылки, полбутылки, шкалики, мерзавчики… В руках, карманах, шапках, в мешках.
— Пей!..
Против воинского присутствия — архиерейский сад за забором — большой, тенистый. У архиерея высокая беседка там, все на балконе он виднелся, издали благословлял шумящую толпу мужичья. Но кто-то забрался на забор, глянул: дорожки, лавочки, желтый песочек на дорожках…
— Ребя, вот где водку-то пить…
Раз-раз-раз! — забор в сторону — новый забор — саженный и гужом в проломы, под деревья уселись в кружок.
— Пей!
Архиерей в испуге в дом убежал — и не видал, как пьяное непобедимое российское мужичье пиры пировало и в бесчувствии валялось на тех самых местах, где архиерей молитвы читал…
А полиция — ни гу-гу. Носа ее не видать. Сами хозяева — все пьяные, все плачущие, все печальные и все воинственные.
— Немца? Немцу пить дадим.
— Урр-ра!
— Дело было под Полтавой…
— А, милый ты мой…
— Не зяви, тетка. Душу не тревожь.
— Ребята, не безобразь.
— Ваше благородие…
— Стой, офицер идет. Ваше благородие, вместе на войну?
— Вместе, ребята.
— Ур-ра!..
— Качать офицера!..
— Урра! Ур-ра!..
— Неси на руках.
— Вместе на войну. Бей немцев!
— Православный русский воин не боится ничего…
— Ур-ра!..
— А, милый ты мой.
— Да молчи ты, стерва, аль не видишь — все идем?..
— Пей, братцы…
Там песня — мужичья, тягучая, там крик яростный, бессмысленный, там прямо в пыли валяется пьяный, здесь…
Весь город, как котел кипучий. Бьет все через край. Весь день бьет.
К вечеру — от города ленточками обозы:
— Через два дня уходят поезда.
В деревни, проститься с полями в последний раз, с избами прокопченными, родными…
А солдаты из казарм уже уходят. Медные трубы гремят грустный марш… и вой тяжкий виснет над толпой провожатых и слезы на всех лицах. Все, все застучало по новому.
А Боков Павел ходит пьяный — со всеми напился.
— Ты идешь?
— Не, я не иду. А у меня брат в Преображенском полку. Он, чай, уже бьет немца.
— Пей!..
— Ур-ра!..
И пьет, и поет, и плачет. А голос труба, рявкнет — всех перебьет, лошади пугаются, — вот какой голос у Павла Бокова. И полон двор у него дружков-приятелей и родных-знакомых. Всех собрал — пьют, поют, плачут.
В крутяге пошло все…
И дни за днями чередом, чередом безостановным, тянут, тянут, тянут…
Поезд за поездом с музыкой и плачем уходит из города куда-то в даль страшную…
И слез на вокзалах — моря и реки. И рев, и визг, и отчаяние.
А в церквах — и день и ночь молебны.
— Подай, Господи. Спаси, Господи.
Полиция носу на улицу не кажет, а все идет своим порядком — странным, как жизнь…
Двух недель не прошло, Боков приспособился: арбузы-то на его бакче как раз во-время поспели. Чуть утро — с возом к воинскому присутствию.
— Православные воины, вот арбузы красные.
И чередом идет православный воин за арбузами красными.
— Сколько?
— Пятак.
— Дорого.
— Да для тебя-то? Сколько дашь?
— Три копейки.
— Бери… Для воина, чтоб не уступить! Для защитничка?.. А будь ты…
— Го-го-го… Вот это наш.
— Бери. Уступлю. Бей немца…
— Ур-ра!
Крик, будто погром какой.
Деньга — самокатом в карман…
Стал город жить странной жизнью. Будто этап. Через него из уезда тысячи народа шли под немца, а немного после — под турку. Мобилизации одна за другой хлестали край и рвали сердца на части.
Идут, едут, плачут, поют, стонут; сеном и навозом мусорят улицы и дворы, будто это не город, а постоялый двор.
Сдвинулась жизнь со стержня, с тихого места сдвинулась, и пошло что-то непривычное, беспокойное.
К зиме весь город заполнился солдатней; заняли училища, заняли казармы, — чуждые, злые, жившие, как на вокзале, где вот-вот пожил и ушел; и, может быть, никогда не вернешься.
— Эх, где ты, спокойное старинное житье?!.
И отчаяние пошло потихоньку капелька за капелькой в каждое сердце, тревога в каждую душу. Пришло уныние, озлобленность, неуверенность в завтрашнем дне… Дела стали сокращаться:
— Кончится война, тогда…
Штукатуры, маляры, плотники, каменщики, печники — их пруд пруди в городе, а дела нет. Знамо, на войну ушли тучи, а все же… И ходили они по городу, как неприкаянные, в черных пиджаках среди серых шинелей.
И месяц за месяцем пошли, год за годом, как богомолки в поле, — темные, с печалью в глазах, придавленные скорбью, приниженные.
— Когда же конец? Когда?
Только Павел Боков будто расцвел в эти годы. Арбуз, аль, допустим, дыня… Проси за них двугривенный — и дадут. Потому, деньги объявились шалые…
Подойдет к боковскому возу солдат.
— Почем арбуз-то?
— Четвертачек.
— Да, что ты?..
— Ай дорого?.. Господи, да самому теперь дороже стоит. Теперь баба по рублю на день берет. Разве я с тебя лишку прошу?
— Дорого.
— А, ну, сколько даешь?..
— Пятиалтынный.
— Давай. Разоряться, так разоряться.
— А може он не красный?
— Кто? Он?!
Боков разом багровел. И — хроп! — с наклески арбуз прямо о мостовую. Вдребезги. Красные блестки во все стороны.
— Видал? Да разе Павел Боков обманет солдата? Гляди, народ честной, вот арбузы.
И народ честной — гужом к боковскому возу. Улыбки, шум, — а четвертаки вереницей лезут в боковскую мошну.
На утро же опять на всех стенах красные афиши: мобилизация. И плач в новых семьях, и новые чадные свечи в церквах, и еще слезы, и еще горе…
— Когда же, когда же конец?
И у солдат пошло недовольство: плохо кормят, заставляют много работать. На базарах, на улицах говор:
— Вода одна, а в ней картошка нелупаная. Это — суп Сандецкий.
И добавляли слова. Волосы от них дыбом:
— Быть беде. Сорвутся, достанется начальству.
Но не срывались. На цепях сидели невидимых, крепко прикованные.
Однако беда на самом деле пришла в тихий город. И пришла совсем не оттуда, откуда ее ждали. Раз как-то зимой, на втором году войны — трах! — гром:
— Убили Вавилиху с дочерью.
Была такая купчиха в городе — мучника Вавилова вдова.
— Голову отрезали, все перевернули, все унесли…
— Батюшки, ведь последние времена…
— Кто убил?
— Не иначе, солдатня. Кому больше? Вон их сколько.
Загрешили на солдат: они…
Недели не прошло, — трах, — еще:
— Кузнеца Скрипкина задушили…
На этот раз и свидетели появились: видали, как солдаты к дому подходили.
На пятнадцать запоров стали все запираться. И калитку, и ворота, и дверь в сени, и дверь в избу, и окна — и задвижками и кольями. Такие страхи пошли — волосы на голове столбом встают.
Бывали в Белом Яру убийства в драке, по пьяному делу, но чтобы из-за грабежа в таком тихом праведном городе? — забыли про это и думать.
А здесь, на-ка, пойди.
Двух месяцев не прошло, убили семью Потаповых в садах. Да как убили-то: с пытками, с муками… Привязали Потапова к скамье, жгли лицо, бороду выщипали: пытали, где спрятал деньги. И только после пыток убили.
А потом… э, да и не перечислить. Заговорили: шайка действует. Предводитель — большой чернобородый. Стали чернобородых бояться. Увидят какого:
— Не он ли?
Полиция с ног сбилась. Исправник Кузьма Дмитрич в отставку подал: невмоготу стало — в городе ворчат, из губернии нахлобучки. Тяжело на старости лет.
Приехали откуда-то сыщики — говорили в городе, будто гурьбой ходят.
А шайка, словно вызов: в одну ночь три семьи… При сыщиках. Дескать, вот вы искать приехали? На-те же вам.
— Вот она война-то. Зверюет народ.
Раз на базаре этакий юркий противный человечишко подошел к боковским саням и глядит на них, глядит. А Боков лошадьми торгует. Летом арбузы, зимой лошади… На том и держался. Его крик до самого Саратова слыхать. Человек руку под сено…
— Эй, миляк, тебе чего?
Отошел человек, как собака, ежели на нее крикнуть. Боков опять хайло западней. А человечек с другим человечком, с третьим. Поглядели на сани, поворошили сено. Ушли. Привели околоточного… И Бокова-то, Павла Бокова, известного каждому мальчишке — повели в полицию.
Весь базар недоумевал.
— Не иначе, как краденая лошадь попала.
А на санях-то кровь была. В полиции Боков миллион слов сказал: и свинью-то резал, и корову-то резал, и кур-то резал, и в пьяном виде дрался с приятелями, носы им разбивал…
Чем больше говорили, тем веселее становились человечки:
— Нашли…
Собрали детей каких-то: не всех грабители убивали.
Одна девочка — лет пяти — увидала Бокова — ревку!
— Этот дяденька маме голову отрезал.
Охнул Боков, закрутился.
— Что ты, Господь с тобой? Ты погляди на меня.
Та еще пуще.
— Вот и кричал-то этак.
У Бокова обыск, и на сеновале в углу: шубы, золотые вещи, три самовара, пятеро сапог… И Вавилихи, и кузнеца Скрипкина, и садовода Потапова…
Времена те были строгие. Полгода не прошло, раз в весенний погожий день собиралась Аграфена Бокова спозаранку в церковь. В черном сарафане, белые рукава, белый платок на голове — будто монашенка — соседки коров в табун только погнали.
— Куда, Митревна?
— В церкву…
— Аль кто именинник?
— Суд нынче. Пашеньку судят.
Соседки головами качают, вздыхают.
И, отойдя, промеж себя:
— Па-шень-ку. Этого бы Пашеньку из поганого ружья пристрелить.
Тихими предутренними улицами пошла Митревна к Покрову, — пусть двери пока заперты, — на паперти стала на колени, лбом к плитам каменным, и лежала так долго, долго, вздрагивая плечами — старческими, костлявыми. А когда подняла лицо и закрестилась, на каменных плитах осталась лужица слез, будто кто водой из чашки плеснул.
Двери же были заперты. Большие, железные. И замок на них — весом с полпуда…
На суде Павел Боков был все такой-же: суетливый, глаза круглые, голос с хрипотцой, клялся, кричал, будто продавал арбузы, говорил неуемно, так что солдаты-конвоиры порой дергали его за пиджак, унимали. И чем больше говорил он, тем увереннее становились лица судей.
В зале все было отчетливо — говорили прокурор, свидетели, адвокаты, плакали дети, показывая маленькими пальчиками на Павла Бокова.
— Вот этот дяденька.
Боков кричал:
— Вре-ет! Оно еще глупое. Оно коровы от гвоздя не отличит. Разве так можно, чтобы дети? Я жаловаться буду.
Будто арбузы продавал.
Другие подсудимые молчали; их было шестеро, — угрюмо глядели вокруг.
А в уголке, вытирая глаза концами головного платка, сидела Митревна и смотрела безмолвно то на Пашеньку, то на строгого седого судью, что сидел в середине за столом, то в угол на икону. И слезы бисером по щекам.
Ненадолго ушли судьи, — в зале была тишина, и Митревна подошла к Пашеньке, за руку взяла его, плакала.
— Сыночек, миленький.
Пашенька вырвал руку, сурово сказал:
— Ступай сядь, где сидела…
Вдруг — тишь. Только шаги: топ-топ-топ-топ… Судьи — трое, один за другим — прошли в тиши, у переднего, седого, бумага.
Все в зале столбами.
— По указу… бул-бул-бул-бул-бул… через повешение.
Пашенька дернулся. Кто-то сдавленно охнул.
И тут только поняла Митревна, захрипела, качнулась и упала в тьму.
Дни кубарем, как веселые мальчишки, один за другим, один за другим. Прыгнет, мелькнет и нет его. И нет.
Вечерами, когда солнце уходило за бугры, на которых четко чернела пороховушка, — Митревна садилась у окна и глядела туда, на пороховушку, на край красного неба, думала.
Поднимая пыль, из-за бугров выползало коровье стадо — сперва одна корова, потом разом две, три, — будто кучи подвижные — все темные на фоне красного неба, — потом выползало плотной подвижной массой и усыпали дорогу по склону.
Митревна думала о коровах, о солнце, о днях уходящих, думала о пережитом за день, но думы были отрывисты, коротки, словно изношенные лоскутки, из которых ничего не сошьешь. Только вот, когда Пашенька… И вздох, и слезы, и непривычная к думам голова — все, все подскажет, и сердцу станет больно.
— Господи, Господи…
А солнце уже за буграми, теперь черными, и стадо прошло, а Митревна все сидит. Одна. В доме одна, на улице одна (чуждаются ее), и в мире целом одна.
Герасим — вот ее подмога. Он где-то в окопах.
— Мамаша, вернусь. Мамаша, не сумлевайся.
Письма иной раз хорошие.
Если бы не Герасим, зачем бы жить?
И блюдет дом Митревна, бережет его Герасиму. И телеги бережет, и сани, хотя покупатели на все были — вороньем налетели, когда узнали про несчастье, что Павла повесили — устояла Митревна, ничего не продала. На почте почтальону, что за гривенник письма писал, говорила:
— А еще пропиши ты ему, жду, мол, его, берегу все. Придет с войны, женится, внуки будут… Ничего не транжирю.
Ночь тихой стопой идет. И не спится Митревне. Все думает, думает она. А думы — непривычно тяжкие, обрывистые.
Утром же рано, только-только петух пропоет в хлевушке возле амбара (того самого, в котором Павел прятал награбленные вещи), Митревна уже на ногах. Ходит, вздыхает, крестится, медленно почесывается, затопляет печь и варит в глиняном горшке щи — воду с капустой и щепоткой соли.
А там — тупая скука на целый день.
Только в праздники и под праздники — едва колокол позовет — тихой улицей пойдет она к Покрову, все одной, одной дорожкой, которой ходила и пять, и десять, и двадцать, и тридцать лет.
И жизнь ей кажется вот этой тихой и скучной улицей.
Впрочем изредка она мечтала:
— Придет Гараська… придет. Кончится же эта проклятущая война. Женится. И сани нужны будут, и телеги, и дом. Сноха будет. Дети будут у них. Поняньчить бы.
Больше всего она думала о внучатах. Хотела их.
Была зима — нудная, тяжкая — первая зима, когда Митревна осталась одна в дому. А зимой старый человек вдвое старее. Кости ломило, по ночам не спалось, тоска и скука глодали беспрерывно… Гараська не писал в эту зиму совсем. Каждый полдень, когда кругленькая низенькая почтальонша в черной запорошенной по подолу юбке с кожаной сумкой через плечо проходила мимо окон, Митревна глядела на нее пристально:
— Не завернет ли ко двору?
И провожала долгим взглядом…
Письма не было и не было.
И долгой казалась зима ей, и скучной.
Одна на свете белом, — умрешь, похоронить некому.
Но рано или поздно все кончается, — и зима кончилась. Вечерами солнышко уходило за бугры — большое, красное, улыбчивое, будто говорило:
— Не унывай. Завтра приду, дольше пробуду.
И правда, приходило, забиралось на небо выше, чем вчера. Капель звенела днями целыми, а утром выйдешь — за ночь сосульки наросли на поларшина. Петух ночью в хлеве и днем на дворе пел яростно и оглушительно, будто чуял себя полным хозяином жизни. И огневое поднималось отовсюду.
А там — пришел день, когда женщина с тонкими поджатыми губами, вся в красном, прошла из края в край и стукнула во все двери:
— Революция.
И каждый вздрогнул, и почти все обрадовались, понимая это слово, как кто хотел, но с пользой для себя.
Раз увидела в окно Митревна: бегут бабы по темной обмякшей дороге. И Катя Красная — шабренка, и Варвара Маркелова, и еще, и еще… Дома не успели по настоящему снарядиться на улице уже и бедуимы накидывают, и платки оправляют, бегут.
— Ай, батюшки, не пожар ли? — забеспокоилась Митревна.
Бедуим на плечи и — на улицу.
Там: бабы толпой по углам, все в одну сторону смотрят. Но дыма нет, и сплох не бьют; значит, не пожар.
— Чего глядят-то?
— Свобода пришла. Конец войне. Наших мужиков вернут…
— Конец? Значит, Гаранюшка-то…
Митревна так и села на обмякшую дорогу.
Революцию так вот и поняли: свобода, значит, — кончены муки, довольно нашим мужикам в грязных окопах сидеть да простужаться. Весна, — город засветился радостью. Летом — солдат попер с фронта, сперва реденько, потом гуще, гуще, а потом, после Покрова, что ни поезд, то целый полк припрет, так сплошь и засереет дорога от станции до города. Только Гараськи все не было. И не писал он. И еще тяжелее было Митревне от его молчания.
Шли с фронта решительные, крикливые, резкие, с винтовками и тугими мешками за плечами, с зелеными котелками у пояса, с сумраками в глазах, они гужем шли, но совсем не те, что немного лет назад уходили из города. Нет, теперь это были волки — угрюмые, злые.
А Митревна все искала, выспрашивала:
— Гаранюшку мово не видели ли?
— Милиены там народа, а ты — Га-ра-нюш-ка!
Но нашлись и такие, кто знал про Бокова.
— Воюет. По новому воюет, с нашими буржуями. И-й, герой! Большевиком стал. Командер теперь у них.
Не верила Митревна. Слыхала она про большевиков-то. Это те самые проклятики, что всю жизнь мутят.
— То Гаранюшка взаправду герой, три креста егорьевских, а то… да неужели? Врут поди.
И через немного дней еще весть:
— Воюет. Большевик.
Вот тут-то и заюжала Митревна.
— Да ведь этак-то он и совсем могет не притти?
— Могет.
— Господи батюшка!..
Ну, к гадалке ходила, молебны служила, просфору каждое воскресение подавала и свечу ставила — каждую службу — пятаковую свечу.
Днями ждала она и ночами. Похудела до черноты, и все лицо исхлостилось морщинками, стало на печеное яблоко похоже, — вот будто из-под корочки весь сок вытек.
Днем было хорошо ждать: кто-то по улице идет, — не он ли? — и подумать можно о прохожем, снять острую царапинку-думу с сердца. А ночью вот хуже. Тут одна с думами, одна с муками…
Раз весенней ночью (пароходы уже ходили) услыхала она, подъехал кто-то ко двору. Митревна встрепенулась, подняла голову с подушки:
— Не он ли?
А в ставню: бот-бот-бот…
Он!..
Босиком, в юбченке одной выбежала к воротам. И-и, что было! Сама ведь втащила в сени тяжелый Гараськин сундучишко. Аж хрустели в руках косточки, а тащила. Затурилась старуха, волчком забегала по дому: двадцать лет с костей.
А Гараська… Гараська-то был пьяный… Сразу заметила Митревна: нижняя губа у него чуть отвисла, точь в точь как бывало у старика, когда он лишку переложит. И глаза были круглые, очень серьезные, сумасшедшие, и сумрак в них, что твой темный лес.
— Ерой ты мой. Кресты-то где у тебя? Тут мне все уши проужжали. «Ерой Боков, ерой». А я тебя с крестами-то и не видала.
— Ну, кресты, — махнул Гараська рукой, — теперь крестов нет.
Митревна ничего не понимала, но просто, по-старушечьи плакала от умиления:
— Милый ты мой, ерой ты мой…
Только вот, когда куражливый Гараська раскрыл сундучек и начал вынимать из него золотые и серебряные часы (трое часов вынул), кольца, браслеты, брошки, какие-то круглые штуки из золота (Митревна никогда не видала таких), потом смятые офицерские брюки, тонкое белье, два револьвера, — Митревна похолодела: чем-то, как-то эти вещи напомнили ей те самовары, что Павел прятал на сушилах, в сене…
— Откуда у тебя это?
— Ты, мамаша, не можешь понимать, каких это денег стоит. Ведь это богатство.
— А взял-то ты где?
— У буржуев отнял.
И Гараська загнул словцо.
— А тебе ничего не будет за это? Ой, Гаранюшка, как бы… вот Павла-то…
— Меня-я? Одной минуты тот жив не будет, кто меня тронет. Я…
И еще словцо.
Здоровый, — в плечах косая сажень с четвертью, глаза черные, лицо смуглое, выразительное, брови насуплены, срослись над переносьем, а глотка, что труба…
Да, есть вот такой танец: «Метелица».
— Берись за руки, сколько ни есть.
И все берутся за руки, сколько ни есть. Девки, парни, девченки, мальчишки, глядишь, иной раз бородач прицепился — засмеется, все лицо как старый лоскут измятый станет, тетка порой — под пятьдесят ей, а она: «И я, девоньки, с вами»… Все, все — потому что «Метелица».
— Жарь!
Гармонист жарнет — эдакую плясовую, что ноги сами скачут; передовой дробно вдарит каблуками в пол, пустит звонкую, невозможную трель, — и «Метелица» началась.
По всему простору несется пестрая цепь. По всем углам и закоулкам проведет ее передовой — и змеей, и кольцами, и кругами, и палочкой. Ведет — и сам не знает, куда поведет через минуту. В кухню? Валяй в кухню. Вокруг печки? Вокруг печки. Под стол? И все лезут — под музыку, с выкриками и приплясом — все лезут под стол. Через лавку? Катай через лавку… Потому что «Метелица».
И никто не знает, куда он в ней — в какой угол-закоулок — попадет сейчас. Несется, не рассуждая, не раздумывая, не чувствуя почти.
А гармонист в «Метелице» злодей: увидит, все приноровились плясать под «барыню», он пустит «камаринского». Значит, меняй ногу, бей чаще каблучком. И смех, переполох, катавасия. Но вот справились все, — злодей к чорту «камаринского» — и — р-раз! — «во саду ли в огороде»…
Так скачет неровно пестрая цепь, не знает, куда попадет через минуту, не знает, под какую музыку плясать будет…
Потому что «Метелица».
На фронте еще, далеко от города родного, встал Гараська в цепь революционной метелицы.
— Жарь!
И запрыгал, заплясал, пошел в цепи с выкриками, и руками, и ногами, и всем телом плясал, — весь отдался бешеному плясу. Зажегся, как огонь бенгальский. Вниз головой в самую гущу кинулся. И не думал, не рассуждал. Да и не привык он к этому трудному делу. Просто:
— Жарь!
Этот революционный пляс стал сильнее его воли, потому что будил в нем подземное, прадедовское, повольное, и звал, и не давал покоя.
Недельку всего прожил Гараська дома. По гостям ходил, подарки дарил, все раздарил да прожил, что привез, только два револьвера себе оставил да брюки мятые, офицерские. Как-то услыхал в похмельный день, что в Саратове буржуи забунтовали, туда стегнул, Митревна опомниться не успела.
— Гаранюшка, Гаранюшка!
А Гаранюшки и след простыл. Женить хотела, внуков хотела; сохи, бороны, телеги берегла — ничегошеньки Гараське такого не надо. Помануло волка в лес.
Плясом крепким пошла революционная метелица по городам, селам и деревням. Гром, свист, выкрики, стрельба. Кто знает, где завтра будет: под столом или на столе?
Двух недель не прошло — слышь-послышь, про Герасима слух по Белоярью пошел:
— Такой храбрец, передом у них идет, нигде не дрефит.
Чудаки люди! Где же и перед чем Гараська сдрефит?
Это же в нашем Белоярье, городе буйном, песню-то поют во всю глотку:
Пляши, товарищ! Гуляй!..
И когда эти бородатые кулугуры мещане — белоярские пупыри — забунтовали (каждый город на Руси бунтовал), их усмирять пришел Гараська с товарищами. Как же, здесь же ему ведомы все пути-переулочки, он как дома.
И прокляли его, и Митревну проклинали за то, что породила такого, дом сжечь хотели, не успели, потому что коршуньем налетел Гараська с товарищами на город родной, сразу в ста местах сражался, такого страха нагнал и на дьяволов бородатых, и на офицериков блестящих — все от него — кто по щелям, кто по полям. В той метелице, что через Белоярье прошла, через тихий угол этот — Гараська передовым был, заводилою.
— Жарь! Бей!
Двух месяцев не прошло, в Белоярье ревком появился, а в ревкоме — Гараська главный.
Но тут-то вот, когда метелица закружилась на одном месте, в ее цепь ввернулась Ниночка Белоклюцкая — закружилась вместе с Гараською, на Гараськину голову закружилась…
А Ниночка — вот она.
Был в уезде помещик Федор Белоклюцкий, деды его Белым Ключем владели, большим селом, с мужиками оборотистыми. У самого Федора Михайловича от прежних владений осталась только усадьба при селе и старинный дом в городе. Остальное все было прожито и пропито. Хорошо жил Федор Михайлович — со смаком: выезды, дамы, пиры, а когда война стукнула в дверь — глядь, от прежних богатств одни дудоры остались да дочка Ниночка — глупенькая немного, но хорошенькая, словно куколка. У Ниночки было одно очень ценное достоинство: она умела отлично одеваться и причесываться. И между уездными ленивыми воронами — она была как пава… Всю войну она с офицериками пробегала — летом в городском саду, а зимой на улице на Московской. Идет, бывало, по улице, каблучком четко постукивает, смеется, — колокольчик звенит, — а офицерье гужем за ней и смотрят на нее жадно, как коты на сметану. Лишь под утро возвращалась она в старый отцовский дом, пьяная и от вина и от угара любовного; прикрикивала на няньку ворчунью и ложилась спать вплоть до вечера, чтобы с вечера начать все снова… А отцу… Не дело было пьяному отцу смотреть за Ниночкой. Нянька бывало ему:
— Внуши ты ей, Федор Михайлович. Непорядки ведь, люди смеются.
А он:
— Цыц, хамка. Не твое дело.
Пойдет нянька — старая старуха (лет сорок у Белоклюцких жила), пойдет в свою комнату, станет перед иконой «Утоли моя печали» и начнет поклоны бить. Все выложит, все свои горести. Начнет просить и Богородицу, и Николу, и все святых — и гуртом и по одиночке — чтобы внушили они разум глупенькой девочке Ниночке…
Да нет уж, где уж…
Вся жизнь не только в городе одном, а в мире целом с панталыку сбилась, все стали с ума сходить, так где же тут Ниночке справиться — неустойчивой, листочку под ветром.
Стали поговаривать про Ниночку в городе — видали ее и на Песках на Волге ночью, будто она с офицериками… купалась будто…
Подруги от нее, как овечки от волка, смотрят испуганно и жалостливо и брезгливо, а пересудов-то, пересудов горы.
Но густым басом залаяла революция, и сразу смолкли пискливые голосишки. Встрепенулось все, закружилось, словно вихрь, и жизнь помчалась, будто молодая кобылица, — хвост трубой. Офицеры, солдаты, мещане, рабочие с заводов ходили гурьбами по улицам — под руку — угарно пьяные от радости и выкрикивали непривычными голосами непривычные песни:
— Вперед, вперед, вперед…
Ниночка уже в этой толпе, тоже под руку, грудь колесом, прямая, голову вверх, вся задор, горячая. Ох, умела она ходить! Вот есть такие: пройдет по улице, кто увидит, до другого года помнить будет.
И, поглядывая на нее, толпа серых солдат и истомленных рабочих задорнее и громче пела привычные песни.
Где-то по углам бабы толкали одна другую в бока и, показывая на Ниночку, говорили:
— Гляди-ка, она уже тут.
— Ах, чтоб ее.
Но в шуме радостном, в песнях задорных голоса эти проходили неслышным шопотом.
А дни — гужем, гужем непрерывным, и скоро унесли с собою радость первых дней. Все лето праздный город грыз семячки. И томился от праздности. Чего-то ждали люди, на что-то надеялись. А чего — никто не понимал. Ну, вот как есть никто.
Потом пришла осень, и задорным конем жизнь вздыбилась, заупрямилась, закружилась на месте.
Конечно, Ниночка была против этих, новых-то законодателей. Офицерики еще кружились возле нее, пристально посматривая, как колышатся ее бока при походке, но уже были они новые, порой испуганные, порой теряли свой блеск и неотразимость, и шипели часто, а Ниночка смотрела на них растерянно, и даже ей почему-то не хотелось в эти дни слышать о любви.
Потом через немного месяцев в городе — в тихом, благочестивом — была стрельба прямо на улицах, и люди убивали друг друга. Две недели Ниночка высидела в старом доме безвыходно, с пьяным отцом, одряхлевшим, словно заплесневатый пень.
И какой острой ненавистью пылала она к этой бунтующей солдатне… Вспомнит, как тогда, весной, она ходила под руку, и вся вспыхнет:
— Уф…
Но странными путями жизнь скачет по российским просторам.
Они, эти серые, резкие, крикливые — они стали у власти.
Пропали офицерики. Выйдет Ниночка на Московскую, а там, то-есть, ни одного приятного лица, ни одних закрученных душистых усов.
Но во все времена Ниночка — Ниночка. Она чувствовала, как со всех сторон жадно смотрели на нее эти серые, эти с резкими лицами — смотрели откровенно, как кривились толстогубые большие рты в улыбках. Взгляды впивались остро в каждую частицу ее тела. И крик порой:
— Э-эх, малина!..
А подземное, звериное уже бьется в сердце, привычно трепетом проходит и брызжет в смехе, глядит в улыбке, в походке… Ниночка-Ниночка.
Но дорога направо, дорога налево, дорога вперед. В этой кутерьме воистину никто не знает, где он будет завтра.
Дума. Старинное здание. Те же двери, окна, полы, надписи, сторожа. Но не дума это — совет. И новых барышень в нем тьма.
— Товарищ Ефимова, вы занесли в книгу эту повестку?
— Занесла, товарищ Высоцкая.
— Товарищ Белоклюцкая, вы куда?..
Здесь уже, здесь Ниночка. Шашки передвинулись. Служит, пишет что-то. Никому не нужное, в ненужных книгах. Ниночка, писавшая до этого только любовные записочки, да прежде задачи в тетрадках.
В этой массе новых служащих она, как канарейка среди воробьев, потому что у Ниночки было одно великое достоинство: она умела прекрасно со вкусом одеться и причесаться к лицу.
И всяк, кто войдет в совет, всяк глазами зирк на канарейку. Это же закон — к хорошему тянуться. Комиссары ли там, солдаты царапают взглядами Ниночку, воровскими, острыми…
И месяца не прошло, еще раз передвинулись шашки — Ниночка стала секретарем, знаете ли, секретарем у самого Бокова, о котором и в совете, и в городе, и в уезде говорили со странным смешанным чувством ненависти и страха.
День. Товарищ Боков — за большим резным столом, где прежде городской голова. Товарищ Белоклюцкая — сбоку, за столом маленьким. На лице — деловитость и важность. Боков толстыми негнущимися пальцами перебирает ворох бумаг.
— А это вот что?
Ниночка словно пружина.
— Это просят сообщить.
— А это?
— Это нам сообщают…
Все объяснит точно и понятно, повернется и пойдет к своему столику, а Боков воровским взглядом поверх вороха бумаг — трах! — так и пронизает Ниночку всю, всю…
В голове разом кавардак.
И через минуту опять.
— А здесь про что?
Ниночка к его столу.
От нее духами. Ноздри у Бокова ходенем ходят. Вот бы всю втянул ее…
Угрюмым взглядом он подолгу смотрел на нее, откровенно смотрел, как двигались ее круглые плечи, вздрагивала грудь, и вздыхал, и пыхтел, как запаленная лошадь, и лицо становилось шафранным…
Время было темное, полным-полно было тревоги кругом.
Горели восставшие села и деревни.
Боков ураганом носился по уезду, — там, здесь, везде.
Как острая игла в кисель, врезывался он в эту бунтующую, безалаберную, нестройную жизнь. С ним были люди, для которых было ясно все.
— Вот как надо, Боков.
И Боков делал быстро и решительно, потому что он был на самом деле человек храбрый и решительный. Прадедова кровь, старая повольная бурлила.
В город он возвращался победителем, будто уставший, как гончая собака после охоты, но готовый хоть сейчас в новый поход.
— А, контреволюция? Я-а им… Вот они у меня где.
И показывал широкую, будто доска, ладонь, и сгибал ее в кулак, похожий на арбуз.
А Ниночка — хи-хи-хи да ха-ха-ха, серебряным колокольчиком рассыпается.
— Ах, какой вы храбрый, Герасим Максимович!
Боков рад похвале.
А вокруг него закружились разные люди — ловкие да юркие — советники.
— Товарищ Боков, как вы думаете, не надо ли этого сделать?
Боков пыхтел минуту, морщил свой недумающий лоб и брякал:
— Обязательно. В двадцать четыре часа.
Что ж, у него — живо. Революция — все на парах, одним махом, в двадцать четыре часа.
Ниночка теперь — правая рука у него.
— А ну, прочтите, что вот здесь.
Ниночка читала. Боков на нее этак искоса — на ее тонкие руки, на вздрагивающую грудь, на… на… вообще так глазами и шпынял.
— Подписывать?
— Непременно.
И Боков подписывал:
— Г. Бокав.
Каракульками. Пыхтя. И губами помогал, подписывая.
Неделька прошла, другая, третья… В уезде тихо, в городе — тихо.
— А-а, поняли?..
Так-то.
Прежде вот от утра до вечера бумаги, бумаги, бумаги. Строгость во всем. Теперь нет. Ловкие советники пооткрыли отделы, все дело себе забрали. По реквизициям ли там, по контролю, по уплотнению… К Бокову только особо важные. И еще — по знакомству.
Раз пришла баба. Без бумаги. Ниночка ей:
— Изложите просьбу письменно.
А та:
— Неграмотна я. Да мне бы просто Гарасеньку повидать.
Ниночка сказала Бокову.
— Впустить.
Зашла баба в кабинет (теперь уже не в думе заседал, а в особняке купца Плигина), оглянулась на темные резные столы, этажерки, поискала глазами икону, не нашла и перекрестилась на гардину крайнего окна.
— Еще здрасте.
— Что надо?
— Аль не узнал, Герасим? Ведь это я, Варвара Губарева.
Боков осклабился.
— А-а, тетка Варвара; ты зачем же?
— Да вот говорят, будто ты все могешь. Леску бы мне на баньку ссудил. Все равно, лес-то вот со складов все зря тащут.
— У, это можно. Для тебя, тетка Варвара? Все можно.
И после этого попер свой народ к Бокову… Только вот мать… не приходила мать-то… Заговорят с ней соседи, Варвара та же:
— Вот он, Герасим-то какой. Вот банька-то — из его лесу.
А Митревна угрюмо:
— А ты молчи-ка, девага. Я про него и слышать не хочу. Бусурман.
— Да ты гляди…
— Нет, нет, не хочу.
Вот ведь — радоваться бы, что сын — герой, так она не-ет.
Будни. У ворот плигинского дома часовой с красной лентой на рукаве. Другой на углу, третий в саду, что по яру сбегает до самой Волги. Они всегда маячат — часовые — и оттого дом глядит жутко, как тюрьма или крепость. Но идут люди, хоть и мало, идут в дом, всяк за своим, скрываются в белых каменных воротах, кружатся. И в городе, и в уезде клянут Бокова, а в дому уже бродят улыбистые, угодливые люди, спрашивают почтительно:
— Принимает ли товарищ Боков?
И много их закружилось здесь.
Ходит по комнатам благообразный, волосатый с полупьяными наглыми глазами — Лунев, адвокат, тот самый, что защищал на суде Павла Бокова.
Этот знает и жизнь, и пути к людскому сердцу…
А за столом в зале, со странной надписью на дверях: «политотдел», сидит чернявый, суетливый, с очень серьезным лицом, деловитый такой — товарищ Любович. Это — чужой, не белоярский.
И в других комнатах: в пятой, десятой, пятнадцатой — велик-превелик купеческий дом, — в каждой люди: кто войдет, увидят деловитость, а дела-то нет — зевают, слушают, лущат семячки; ждут четырех часов, чтобы поскорее домой.
Только Ниночка — она вся деловитость. Каблучки тук-тук-тук. Платье на ней из креп-де-шина, все в волнах, черное, ярко оттеняет белизну шеи и рук.
Тяжелые Гараськины глаза, как магнитная стрелка — все на Ниночку, все на Ниночку. А Лунев жулик, — знает, чем раки дышат, — Ниночка за дверь он к Бокову:
— Хороша девица?
Улыбка блудливая.
— Целовал бы такую девку, целовал, да укусил бы напоследок, — брякнул Боков и рассмеялся скрипуче, с хрипотцой.
— Да дело-то за чем стало? Удивляюсь я.
— Чему?
— Раз, два и готово. Или вы женщин стали бояться?
Герасим лицом сунулся в бумаги. А Лунев на него с улыбкой так, из уголка, с дивана.
— У-ди-вля-юсь вам.
И замолчал.
И раз так, и два. Скажет вот такое, что у Герасима все печенки вздрогнут, и весь он, как струна станет. А Лунев только посмеивается в гладкую шелковую бороду.
А Боков за дверь, он Ниночке:
— Ну, знаете, убили вы бобра.
Глаза сделает Ниночка большие, а сама ведь знает, куда тянет адвокат.
Бокова-то. Обезумел он от вас. «Целовал бы ее, говорит, целовал, да на руках бы понес».
Ниночка — колокольчиком…
Как никого в кабинете, так и надо ей непременно отнести бумаги Бокову.
— Подпишите.
И одну за другой выкладывает. Низко нагнется, плечом заденет Гараськино плечо, волосами его ухо щекочет. Боков покраснеет, запыхтит, пот бисером на кончике носа выступит, ноздри, как меха. Вот бы, вот так и проглотил бы Ниночку со всеми ее бумагами… А та смотрит ему в глаза пристально, будто зовет, смеется глухо, в нос…
Кружилась голова у Бокова, а вот нет, смущается чем-то.
Лунев, конечно, все прознал. Ходит, улыбается, говорит:
— Не робейте.
Раз Ниночка с бумагами.
А Боков про себя:
— Э, была не была!..
Она к нему — плечо в плечо, волосы к щеке — самые, самые кончики, два волосика, три…
Боков как клещами ее охватил, будто в озеро вниз головою кинулся, красноватые большие руки на черном платье резкими пятнами…
— Ах, что вы, что вы, — встрепенулась Ниночка, — не надо…
— Все отдам. Все! Моя!..
И два дня после этого посетителям один ответ:
— Председатель болен…
— А секретарь?
— Тоже болен…
А когда посетители уходили, все хихикали, все, во всем плигинском доме.
Через три дня Боков и Ниночка при-ни-ма-ли. У Ниночки под глазами широкие — в палец — синие круги, она зябко куталась в шубку, позевывала устало, и локоны над висками, всегда завитые задорным штопором, теперь развились и висели печально, как паруса без ветра.
Боков тоже смотрел устало, со всем соглашался:
— А ну, хорошо, пусть будет так.
И никому в этот день не отказал в просьбе.
Лунев пришел к нему, улыбаясь, кланялся и говорил:
— Поздравляю, поздравляю, поздравляю.
И Ниночку поздравлял.
— Теперь бы свадебку гражданскую сыграть. Да поторжественней.
И долго говорил что-то Бокову и все на ухо, с улыбочкой. А Боков только головой качал.
После он побывал в других комнатах, шептал что-то своим приятелям (у него уже много их было) и во всем плигинском доме смеялись в этот день этаким мелким ехидным смешком.
В этот день Ниночка, перед вечером, в автомобиле ездила вместе с Боковым домой — в старый дом дворян Белоклюцких. Дом теперь был пустой, и жила в нем только нянька. Боков — храбрый, буйный Боков — немного оробел, когда проходил за Ниночкой по гулким пустым комнатам, со стен которых на него смотрели старые портреты крашеных офицеров. А Ниночка щебетала:
— Вот здесь я родилась. А это моя комната. Правда, хорошо? Смотри, какая яблоня под окном. Это папа посадил в день моего рождения. Видишь, она уже старенькая. А я? Я тоже старенькая? (И, смеясь, вздохнула)… А это моя няня. Няня, нянечка, как я люблю тебя. Это кто? А это мой муж. Герасим Максимович Боков, он все может сделать, что захочет. Венчались? Нам нельзя венчаться. Теперь закон не позволяет. У нас брак другой свадьбу мы справим на этой недели. Приходи, нянечка, я тебе материи на платье подарю. Правда, ведь, Гаря, мы подарим няне материи на платье? Ну, да, няня, он самый главный. Его знают самые, самые главные люди во всем нашем царстве.
А Боков бирюком оглядывался по сторонам и сесть не решался, смущался под пристальным взглядом старухи.
Спустя неделю в городе было событие: свадьба Бокова.
Хлопот было Ниночке — горы. Этого пригласи, с тем сговорись…
— Да помоги же мне, Гаря. Ах, какой ты, право, тюлень.
Боков открывал полусонные глаза.
— Ну, чего тебе, ну?
— Похлопочи, чтоб угощение было настоящее. Все я да я. А ты-то что же? Скажи, чтоб кур и гусей доставили из упродкома. Вот подпиши.
— Это что?
— Ах, пожалуйста, не рассуждай. Некогда мне…
Боков подписал.
И вот к вечеру же на плигинский двор приехали пять телег с гигантскими клетками, теми самыми, с которыми агенты упродкома ездили по уезду и собирали налог птицей.
А из клеток шум: гуси кричат, утки крякают. Базар птичий.
Ниночке еще больше хлопот…
— Гаря, подпиши.
— Что это?
— Пожалуйста, не рассуждай.
Старый плигинский дом был полон гостей в день свадьбы. Люди в куртках, гимнастерках, рубахах, фрэнчах, ситцевых платьях, с испитыми серыми лицами, на которых жизнь успела написать длинную повесть, — они толклись по всем комнатам.
«Совдеп» к этому дню уже был перенесен в другой дом, и здесь во всю ширь каталась Ниночка.
— Здесь спальня, здесь мой будуар, здесь моя приемная, здесь Гарина приемная, здесь Гарин кабинет…
Боков орал оглушительно: «пей!», обнимался со всеми и, спьянившись, потребовал гармонию, саратовскую, с колокольцами — и сам плясал под нее в присядку.
И снова орал:
— Контр-революция? Всех к стене! У меня вот они где, во!..
Он сжимал и разжимал кулак, стучал по столу, по стенам… А гости посмеивались, пили, славили в глаза Бокова и Ниночку, кричали ура, и «любимую» Бокова «Из-за острова на стрежень». Лунев распоряжался. В черном сюртуке, с красным цветком на груди, он носился по комнатам, угощал всех, называя себя отцом посаженным, и тенорком подтягивал нестройному пьяному хору. И за полночь далеко шумел пир.
Автомобили рыкали, светили глазасто, их рык в тихом городе слышался далеко — из края в край.
А город притаился — злой, как побитый зверь, — на улицу смотрели через щели чьи-то злые замечающие глаза.
— Советские гуляки, чтоб им…
Сам Боков пьяный, угрюмый, — ездил передом, в открытом автомобиле, и пьяненькая Ниночка за ним. Он слушал, как гости поют — радовался и гордился. И орал шофферу оглушительно:
— Лева, держи…
Веселым валом повалила Гараськина жизнь. Пестрая птица-щебетунья летает вокруг дубка, и дубку весело.
— Я тебя, Гаря, обожаю.
А Гараська обе руки протянет к птице — обнять или щипнуть, когда как. Э, да что там говорить. Все пошло, как в старинной русской песенке:
Лунев окончательно стал в доме своим; как же, сват же. Все переговаривался с Ниночкой, тайно, наедине, показывал ей какие-то бумаги, внушал ей своим воркующим баском:
— Муж, конечно, голова, но жена — шея, и может повернуть эту голову, куда хочешь. Вы, Нина Федоровна, все, вы все можете. Дайте ему вот это подписать.
Ниночка давала. Боков хмурил лоб, читал важно и при этом шевелил губами.
— Это на счет чего же?
— А ты подписывай, пожалуйста.
И Гараська ставил внизу каракульки. А через день, через два, глядишь, у Ниночки новая брошь, новый кулон или новое платье.
Лунев ходит этакий таинственный, довольный, хитренько улыбается, белыми пухлыми пальцами расчесывает шелковую бороду.
И всем хорошо. В городе теперь знали, куда надо итти со своей докукой: к адвокату Луневу. А это главное — знать, куда пойти…
В городе же докуки росли. Все новые, одна острее другой. И злые разговоры пошли про Ниночку. Но не знала она про них.
Так-то вот.
Впрочем, и у ней была порой печаль — размолвки с Боковым. Чаще это бывало в дни похмельные.
— Гаря, вот Лунин говорит… надо ему устроить. Ты его слушайся, он образованный.
— Знаем мы этих образованных. К стенке их. Только контр-революцию они разводят.
— Ну, с тобой не сговоришь.
— А ты не говори. Чего ты, баба, понимаешь? Выпьем лучше.
— Ах, как ты выражаешься… «Баба»… Пожалуйста, я тебе не баба. Привык там с бабами возиться, и думает, что все бабы.
— Аль ты по другому устроена? Гляжу вот я, гляжу на тебя кажний день, ну, никакой отлички. Все у тебя, как у других баб сделано.
— Фу-фу-фу, какой ты грубый. Я и говорить с тобой не хочу.
И хлоп дверью. В будуар к себе… А Гараська:
— Хо-хо-хо…
Выпьет, посидит, еще выпьет и пойдет мириться.
Веселым валом, веселым валом валит Гараськина жизнь в плигинском доме.
Раз вечером на лодках поехали кататься. На передней — большой, восьмивесельной, реквизированной у купца Огольцова — сидел сам Боков с Ниночкой Белоклюцкой, пьяный, клюквенно красный. Нина приказала принести ковер, и улеглась на нем, довольная, как победительница. На других лодках ехали приятели Бокова.
Поднялись до цементного завода, выехали на середину и, бросив весла, поплыли по течению, мимо города. Пили, пели, орали. Самогон на этот раз попался плохой, кого-то стошнило.
— Товарищи, дуй мою любимую! — заорал Боков.
И все нестройно запели «Из-за острова на стрежень».
Боков сидел на ковре, опустив голову, потряхивая ею, и в такт песни постукивал ногой.
Нина обхватила его шею белой рукой, и тоже пела, немного пьяненькая.
Боков поднял голову и тупо посмотрел кругом — на товарищей, оравших песню, на пьяненькую Нину, на дальние берега, и вдруг поднялся большой, чернявый, вытянул руки в стороны, взмахнул и заорал громче всех, прадедовским оглушительным голосом:
Он наклонился к Нине, схватил ее под руки и приподнял. Та испуганно глянула ему в глаза и… сразу поняла все. Как змея, она вывернулась и упала на дно лодки, возле скамьи. Боков схватил ее поперек туловища и попытался поднять. А сам орал:
Нина вцепилась как гвоздь в лавку, обвила руками и завизжала:
— Карау-ул!..
Песня здесь, на боковской лодке, сразу оборвалась. Орал только сам Боков. И на других лодках орали:
— Караул!.. Спасите!.. — визжала Ниночка.
Боков рвал на ней платье, подвинул к борту, но Нина теперь вся белая на солнышке, голенькая, держалась за скамью крепко. Лодка качалась, готовая перевернуться.
— Боков! Гараська! Что ты делаешь? — закричали испуганные голоса.
— Боков, брось!
— Ха-ха-хо-хо…
— Товарищ Боков, бросьте!
— Караул!.. Родимые, спасите!
— Утоплю!..
Кто-то навалился на Бокова, пытался удержать его. Началась борьба. Боков схватил Нину за косу.
— Пусти. Прочь!..
— Боков, опомнись!..
— Прочь!
Раздался выстрел.
— Карау-ул!..
Лодки сгрудились. Кто-то ударил Бокова веслом по шее. Ниночка в разорванной рубашечке, в кружевных панталончиках и черных шелковых чулках начала прыгать из лодки в лодку. У ней на голой груди поблескивал золотой медальон, а пониже под грудью и на животе краснела свежая царапина. Боков прыгнул за ней.
— Бейте ее, суку. Топите!.. А-а-а…
Ниночка визжала, вся обезумевшая.
— Боков, брось. Чорт, брось!.. Что ты? Очумел?!
— Убью!..
Догадались оттолкнуть лодку, в которую прыгнула Ниночка. Боков прыгнул и упал в воду. Его выволокли на большую «атаманскую» лодку, мокрого, ругающегося. Ниночка уже ехала поспешно к городу, на маленькой лодке.
— Стой, куда? — орал Боков. — Убью!
Он хотел стрелять из револьвера, ему не дали.
— Всех к стенке!.. Я вам покажу. Прочь! А ты… нынче же тебя удушу… — грозил он вслед уплывающей лодке.
— Вы… Греби за ней. Греби!.. Ну… А-а, та-ак!..
А кто-то считал грехи Бокова. День за днем так вот и вел бухгалтерские записи.
— Реквизировал в свою пользу. Убил. Пьянствовал. Дрался…
А кто-то считал его грехи, считал. Считал и Ниночкины грехи. Где-то далеко, в столицах, в советах, думали, почему мужики бунтуют. Крестьянская власть, а мужики: «долой эту власть».
И вот додумались, и подул новый ветер.
Однажды вечером прибежал к Бокову взволнованный Любович. Согнулся, угодливый и вместе наглый.
— Товарищ Боков, вы слышали? К нам выехала ревтройка.
А Боков в этот день был пьян. И вчера был пьян. И в субботу.
— Не жжелаю! — проворчал он и отмахнулся рукой.
— Но вы понимаете? Это же дело серьезное. Как вы не боитесь?
Боков повернулся и пьяными глазами посверлил лицо Любовича.
— Кто-о? Я-а? Бояться? Гараська Боков?.. Ни чорта, ни бога, ни царей, ни комиссаров не боится. Всех к…
— Но поймите, тройка ведь едет, тройка.
— Тройка?.. К чорту тройку. Я сам целый десяток.
— Покаетесь вы, товарищ Боков, поздно будет.
Боков стал, как клюква.
— Ты кто тут такой? А? П'шел вон, сволочь… А то — счас к стенке!
Да, тройка приехала. Но и не тройка даже, а целый отряд, готовый к борьбе и завоеваниям.
Пришли в плигинский дом люди властные, с какими-то бумажками, которые действовали, как талисман. Один — в казинетовом пиджаке, в ситцевой рубашке с грязноватым воротом, с рыжей бороденкой — лез везде. Обошел весь дом — плигинский-то, все пятнадцать комнат, открыл дверцы буфета, где Ниночка хранила припасы на случай чего. В будуар к ней зашел. В будуар!.. Все вынесла спокойно Ниночка. Даже, когда в буфет заглянули. Но в будуар…
— Не смейте, не смейте. Не имеете право заходить сюда.
И ножкой капризно топнула.
— Гаря, да скажи им. Это безобразие.
А рыжебородый смотрел на нее с любопытством, как на зверька какого.
— Вы не имеете права. А вы кто такие?
А рыжебородый нахмурился, покрутил бороденку пальцами.
— Это заня-ятно, сударыня.
Так и сказал:
— Сударыня.
И два других — во фрэнчах, холодно, оба со светлыми глазами, кривили в улыбке губы.
И знаете, ведь залезли в Ниночкины сундуки, все вывернули, перебрали, и все сложили в ящик и опечатали.
Тут только Ниночка поняла, что случилось необыкновенное. Она беспомощно оглянулась на Бокова. А тот — хмурый, полупьяный с похмелья — глаза в пол — молчит. У Ниночки нервно задрожали губы. Она вдруг рассмеялась.
Судили их на другой день. В том же плигинском доме, в зале, где справляли немного месяцев назад свадьбу.
Боков и Ниночка сидели в углу, чуть в тени. А свидетели — все на свету. Делегатки с заводов, те самые, что пели «во лузях», разъезжая по городу в автомобилях. Служащие совета, бородатые мещане. Они боязливо смотрели в тень на Бокова, на Ниночку и говорили:
— Забрал, отнял, убил.
Боков сидел, будто к стулу прирос, смотрел на них злыми угрюмыми глазами, и губы шевелились в угрозе:
— А, предатели. Ну-ж, я вам.
Судьи же ровненько вели дело, спокойно выспрашивали, как Боков пировал, отнимал, убивал. И ни у кого доброго слова не нашлось о Бокове. Увидели все! не жизнь — угар.
Потом рыжебородый позвал:
— Товарищ Лунев.
Оба — и Ниночка и Боков — переглянулись.
— Вот идет наша защита.
Лунев вошел все такой же: лицо благообразное, борода расчесана, волосок к волоску. Но в пиджаке потрепанном, чтоб походить на товарищей вот этих, что сидят за столом. Он не взглянул ни на Бокова, ни на Ниночку. Просто заговорил:
— Пил. Буянил. Грабил. Убивал. Срамил.
Боков вдруг вскочил, и не успели часовые опомниться, он уже подмял под себя Лунева, таская его за бороду, и колотил головой о пол.
Сразу всякий порядок нарушил…
Тем суд и кончился.
Рыжебородый прочитал приговор:
— Боков и Нина Белоклюцкая приговаривались к расстрелу за дис… дис… Этакое какое-то слово: дис… дис… и дальше — про Советскую власть что-то. И слова-то такого Боков прежде не слыхал. Да. Пошли слова разные…
Где-то на задах, за каменным забором плигинского дома, в третий раз протрубил вещий петух.
Из дома во двор вышли красноармейцы — трое — с двумя фонариками, но посмотрели на небо: на белые полосы, что протянулись с востока, из-за гор, — и потушили фонарики:
— Без них видно.
Не спеша завозились около автомобиля — грузового, похожего на открытый гроб.
Потом из дома вышли еще люди — и между ними рыжебородый — со сна потягивались, ходили деловито, говорили вполголоса, с хрипотцой.
Автомобиль зафыркал, вздрагивая. Тогда рыжебородый сказал:
— Ну, что же, ведите.
Красноармейцы — трое — вернулись в дом, а фонарики оставили у двери, были там долго, автомобиль фыркал нетерпеливо и рыжебородый сурово крикнул в раскрытую дверь:
— Ну, что же там, скоро? Светает уже.
Голос из двери — из темноты ответил лениво:
— Собираются.
— Поторопите.
Вышли — сперва красноармеец с винтовкой в руке, потом Боков — в сером фрэнче («Как он идет тебе!»), галифе, фуражка до самых бровей. Лицо крепкое, каляное.
Ниночка рядом — в черном пальто, из-под пальто — белое батистовое платье, тонкий, тоже белый шарфик на голове, из-под него — пряди волос. В глазах… глаза — копейки… Она не плакала.
По тихим, совсем тихим улицам — где ночные сторожа спали на углах, прислонившись к стене дома или к забору, — в начинающемся рассвете мчался автомобиль. По обоим углам четыреугольного ящика, прямо на заднем борту сидели два красноармейца с винтовками, а у их ног, прямо на полу Боков и Ниночка рядом, и ее черное пальто закрывало черный фрэнч Бокова, а голова прислонилась к его плечу. Впереди еще красноармейцы и рыжебородый с ними.
Цыганской улицей выехали на окраину. Вот крайний дом Вавиловых — во дворе высокая ветла. Боков встрепенулся, вытянул шею. Сейчас вот, сейчас… Вот… Вот… Двухоконный дом… Ставни закрыты. У стены два кривых потрескавшихся дубовых бревна.
Он вспомнил мать, ее встречу с ним и опять сел и будто ослаб весь.
У кладбища на углу, где лохматилась свежая яма, а неподалеку виднелись бугорки — целый ряд бугорков, — автомобиль остановился. Уже светало. Слева, на горе, кладбище — церковь виднеется из-за деревьев, справа — лысый холм, а за ним, далеко, лес. Красноармейцы живо соскочили с автомобиля. И рыжебородый с ними. Все они не смотрели один на другого, хмурились.
— Вылезайте, — каркнул рыжий.
Боков и Ниночка поднялись. Боков большой, как столб, и широкий, Ниночка возле него, кака девочка. Боков спрыгнул. Шагнул раз, два, три, остановился — глаза в землю, лицо каменное. Кто-то догадался, откинул борт автомобиля, и Ниночка тоже спрыгнула на землю. Она глядела на всех широко открытыми глазами, будто ничего не понимала, подошла к Бокову и взяла его под руку, просто, словно искала у него защиты и, взяв, опять поочередно оглянулась на всех: на красноармейцев, на рыжебородого. Вдруг Боков дрогнул и странный звук вырвался у него из горла — и будто стон, и будто крик. Ниночка испуганно поглядела момент молча прямо в лицо Бокову. И все будто поняла. Она сразу сломилась, лицом приникла к серому рукаву его фрэнча и заплакала в голос. А плач — будто сигнал. Рыжий нахмурился, задвигался нетерпеливо, что-то сказал красноармейцу со светлыми глазами. Тот подошел к Бокову и сказал жестко:
— Будет. Раздеться.
Боков разом умолк. Встряхнулся.
Красноармеец притронулся правой рукой к руке Ниночки и опять сказал раздельно и жестко:
— Будет. Раздеться и вам.
Подошел другой и, молча, сопя, стал грубо и вместе деловито, привычно стаскивать черное пальто с Ниночкиных плеч. Та перестала плакать и сама освободила руки из рукавов, потом сбросила шарфик с головы и в белом платье на момент стала, как невеста.
А другие красноармейцы раздевали Бокова…
Через минуту Ниночка в одном белье, с голыми круглыми руками и грудью стояла среди этих грубых тяжело суетливых людей. Она дрожала, прятала глаза.
— Марш к яме, — скомандовал старший.
Кругом щелкали затворы, и лица — как железо. Ниночка вдруг обняла голой рукой Бокова за шею, поцеловала в левую щеку, возле уса:
— Прощай.
И решительно побежала к яме, накалывая ноги на острые мелкие камешки.
И едва добежала до первых черных комочков выброшенной земли, за ней ахнул залп…
Боков закрыл лицо руками, согнулся и пошел к яме спотыкаясь…
В городе открыто служили благодарственные молебны:
— О избавлении.
Бабы, встречаясь с Митревной у бассейна, говорили ей напрямки и радостно:
— Слава Богу, пристрелили сынка-то твово. Наделал делов, ирод.
И от этих слов каменела Митревна на людях. Молчала. Молча наберет в ведрышко воды и, подпираясь палочкой, пойдет домой. Сгорбленная, старая. А бабы смотрят ей вслед — и злорадство, и жалость в глазах.
И только закрыв калитку, Митревна вдруг преображалась — шла к крыльцу качаясь, плача, порой вопила в голос — старушечьим слабым вопом.
А в тот, первый день она, узнав обо всем на улице, упала вот здесь за калиткой, на пустом широком дворе и лежала долго-долго, одна, теперь в целом свете одна.
Теперь ей некого было ждать.
Вечерами она привычно садилась у окна, смотрела, как за буграми, за пороховушкой — теперь сломанной, только столбы торчали, — садилось солнце, как из-за бугров, поднимая пыль, выползало стадо и пестрыми цветами рассыпалось по склону.
Тени густели, чернели. Надвигалась ночь. А Митревна все смотрела, упорно и вместе равнодушно.
И ждала чего-то… до глубокой ночи.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |