"Генерал Доватор" - читать интересную книгу автора (Федоров Павел Ильич)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
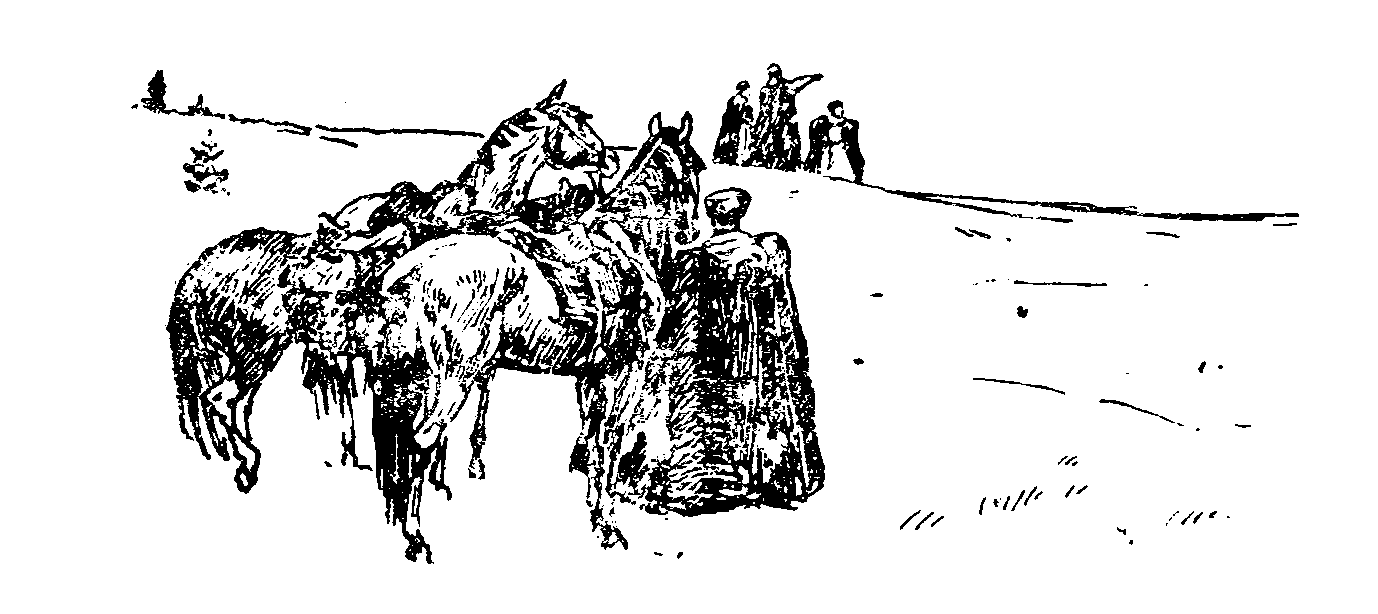 |
Раннее ноябрьское утро. Над крышами подмосковной деревни Сычи лениво стелется серый дымок. На улицах ни души. Иногда громыхнет у колодца бадейка, проскрипят по твердому снегу чьи-то валенки, глухо хлопнет дверь, и снова в утренней тишине начинает властвовать необычный для этого месяца мороз. На западной окраине деревни, глядя сквозь амбразуру дзота на убегающую в лес дорогу и зябко кутаясь в казачьи башлыки, бойцы дежурят у пулеметов. У одного из домов ходит взад и вперед часовой.
Здесь штаб полка. На фронте почти всю неделю стояло затишье. Командир полка приказал вытопить назавтра баню.
В окна вместе с морозом вползал белесый рассвет. Командир полка Антон Петрович Осипов и комиссар Михаил Абашев давно уже проснулись. Осипов, хрустнув пальцами, потер ладони и по привычке потянулся было за папиросой, но Абашев схватил его за руку:
— Не положено. Условия надо выполнять, дорогой товарищ.
— Виноват! Совсем забыл. — Антон Петрович встал, засучил рукава и, напружинив тренированные мускулы, приступил к зарядке. Накануне, просидев в штабе почти всю ночь, они с Абашевым выкурили уйму папирос и, насквозь прокоптившись дымом, дали друг другу слово курить меньше, а до завтрака и вовсе не притрагиваться к папиросам.
На кухне, весело потрескивая, топилась печь. Хозяйка дома Елена Васильевна Русакова, перебраниваясь с чубатым курносым поваром Сашкой, месила тесто для; пирогов.
— Ты начинку готовь, а насчет теста не учи. Мы пироги можем загнуть безо всяких твоих поварских фокусов.
— Пироги, Елена Васильевна, должны быть красивые, с зажимочкой. Ведь не могу же я на стол подавать какие-нибудь лопоухие.
— Сам ты лопоухий! Готовь сковороды. А на стол я сама подам, не беспокойся.
У двери в горницу, где жили Осипов и Абашев, заглядывая в щель, вертелись Маша, семилетняя голубоглазая дочка Русаковой, и Петя Кочетков. Осипов собирался усыновить мальчика и отправить его к сестре. Временно он попросил хозяйку взять Петю на свое попечение.
— Смотри, смотри, Петя, — пищала Маша, — дядя Антон, как гусак, ходит. А дядя Миша вприсядку.
— Это называется гимнастика, — поучительно объяснял Петя.
— Смешно прямо, такие большие...
— И вовсе не смешно... — укоризненно проговорил Петя, оправляя на гимнастерке наборный ремешок. На самом деле ему тоже было весело, хотелось посмеяться, но он старался держаться настоящим казаком и не намерен был уронить свой авторитет перед какой-то девчонкой.
— Гимнастика нужна, чтобы быть сильным, — подтвердил он солидно.
— Да они и так сильные. Дядя Миша вчера меня до потолка подбрасывал. А дядя Антон на лошадь верхом сажал. У него есть дочка Варя, Ей фашисты ножку отломили, и она в больнице лежит. Мы с ним туда поедем, я буду за ней ухаживать.
— А маму, значит, бросаешь? Так, так, доченька, — Елена Васильевна притворно покачала головой. Ее продолговатое, раскрасневшееся у печки лицо с голубыми, как у дочери, глазами было молодо и красиво. Овдовела она в финскую войну. От второго замужества отреклась и всю жизнь посвятила своей агрономической деятельности и воспитанию единственной дочери.
— Нет, мамочка, мы и тебя возьмем. У Вари нет мамы, вот ты и будешь ее мамой. Дядя Антон добрый!
Елена Васильевна растерянно улыбнулась и вдруг стала торопливо поправлять массивную, жгутом скрученную на затылке косу. Дочь как будто подкараулила ее мысли и вывернула их наизнанку. Уж очень по сердцу пришелся ей ласковый и внимательный подполковник с его тяжким несчастьем, о котором она узнала от повара Сашки. Так пришелся, что сама себе боялась признаться. Русской женщине свойственна особая чуткость, к чужому горю. Вот и к Пете за неделю она так привыкла, что стал он ей, будто родной. И Маша к нему привязалась, как к брату, и не отстает ни на шаг.
— А как же Петя?
— Да он же в казаках... Ему дядя Миша коня обещал и ружье. А если хочет, пусть едет с нами. Но он не поедет. Я знаю. Он военный... — с. серьезной деловитостью ответила Маша.
Все рассмеялись. У порога раздалось мычание. В углу, на свежеподостланной соломе, растопырив ноги, стоял пестрый теленок. Отпоенный молоком и выкормленный хлебом, он нехотя повиливал хвостом.
— Вот где котлетки-то, Елена Васильевна! — Сашка дал теленку шлепок. Тот засопел носом, боднул головой и снова сонно затих.
— Сколько тебе говорю, зарежь да и все, — заметила Русакова, перекатывая на столе тесто. — Куда он мне?
— Не надо, мама. Зачем его резать, — жалостно проговорила Маша. — Он маленький...
На ее слова никто не обратил внимания. Петя стоял около стола и в сотый раз любовался на свою форму. Елена Васильевна раскатывала на столе тесто. Сашка воровато посматривал на ее крепкие, оголенные по локоть руки и чуть-чуть приоткрыл рот. Он был влюблен в хозяйку, и вид у него в эту минуту, как и у пестрого телка, был глупый и потешный.
Из горницы вышел Антон Петрович; потрепав Машу по пышным белокурым волосам, он сказал:
— Умываться, стрекоза, будем?
— Опять холодной? — Маша смотрела на Осипова озорным любопытством и нескрываемой детской восторженностью. Каждое утро она ему поливала на спину из ковшика, где плавали льдышки, а он только крякал и весело смеялся.
Антон Петрович подошел к тазу и подставил руки. Маша лила из ковша воду. Хозяйка, вытерев руки, прошла мимо, словно боясь взглянуть на оголенную, густо перевитую мышцами спину Антона Петровича, и проворно исчезла в соседней комнате. Минут через пять она вышла и, изгибаясь стройной фигурой, подала Антону Петровичу через голову Маши белое, расшитое цветами полотенце.
— Да вы не беспокоились бы, Елена Васильевна. У меня там есть... — смущенно проговорил Антон Петрович.
— А это мягкое, домашнее. — Русакова ловким движением одернула белый передник и принялась резать ножом тесто.
— Благодарю. Домашнее все хорошо. Но мы уже как-то отвыкли.
Обернувшись к Маше, Осипов спросил:
— На лыжах поедем кататься?
— Поедем, дядя Антон! — радостно отозвалась Маша. — И Петю захватим, да?
— И Петю захватим.
— Ой, как хорошо! — Маша весело притопнула ножкой.
— Ух ты, стрекоза! — Антон Петрович подхватил девочку на руки, подбросил ее до потолка. Осторожно поставив на пол, склонился и поцеловал в лоб. Маша, обвив его ручонками за шею, тоненько вскрикнула:
— Ой, какой холодный!..
Часов в одиннадцать Осипов с Абашевым сели завтракать.
— Ты смотри: пирожки, пампушечки, творожнички... Будто бы и войны нет. Роскошь, — говорил Осипов закусывая.
— Добро, добро, — похваливал Абашев. — Понимаешь, люди-то как жили! Смотри, колхоз-то какой был. Не дают, чорт побери, спокойно пожить. А ведь нашу страну можно пшеницей засыпать, яблоками завалить, арбузами.
— Наши богатства Гитлеру и нужны, — вставил Антон Петрович.
Вошла Русакова. В одной руке она несла тарелку с солидной стопой блинов, а в другой — миску сметаны,
— Да вы нас совсем избалуете, Елена Васильевна! — воскликнул Абашев.
— Кушайте на здоровье! Сегодня еще телка зарежем. Деваться с ним некуда. Время такое. — Елена Васильевна не договорила и тотчас же вышла.
— Да, время действительно... — раздельно проговорил Абашев, и тут же, словно спохватившись, шутливо добавил: — Что-то уж больно хозяйка-то старается...
— Н-н-да, — неопределенно промолвил Антон Петрович, запихивая в рот пирожок.
— А ведь замечательная женщина, Антон Петрович! — Абашев перестал есть и устремил свой взор на Осипова. Тот по привычке, как всегда, когда ему приходилось решать какое-нибудь щекотливое дело, крякнул и, нервно насупившись, спросил:
— Что из того следует?
— А следует вот что: посматривает она на тебя, ну как бы это сказать... С восхищением посматривает, точно влюбленная...
— Ну уж это ты, брат, оставь.
— Не оставь, а истина. Да ты и сам-то малость неравнодушен к ней, только боишься признаться.
— Да ты что на самом деле! — Осипов скомкал в руках салфетку.
— Ничего, друг мой, ничего! Ты только не кипятись, будь поспокойней и пойми, что плохого в том, если ты эту милую женщину всерьез полюбишь...
— Ты шутишь? Или считаешь меня за дурака! Да разве я могу? Нет, никак не могу...
— Не могу, не могу! Тогда садись вон к печке и сыпь себе на голову пепел... Только не притворяйся! Да это, брат, золото, а не женщина, если хочешь знать... Мне рассказывали, как она в колхозе хозяйство вела. А он одно свое — не могу да не могу. Ничего тут зазорного нет, если вас взаимно влечет друг к другу и если вы откровенно признаетесь в своих чувствах... Почему бы тебе не подумать об этом? — невозмутимо и настойчиво продолжал Абашев, чем привел Осипова в полнейшее смятение. Если бы не вошел в этот момент начальник штаба полка майор Почибут, неизвестно, до чего бы они договорились.
— Есть удивительные новости, — присаживаясь к столу, проговорил майор. Всегда спокойное лицо его на этот раз торжествующе улыбалось.
— Новости? Выкладывай! — Осипов кинул на Почибута настороженный взгляд и нетерпеливо потянулся за папиросой. На душе у него было неспокойно и сумрачно.
— Сейчас звонил комдив и приказал... Угадайте, что он приказал? — Почибут выжидающе посмотрел сначала на комиссара, потом на командира.
— Не тяните, начальник штаба! Мы ведь не чародеи, чтоб отгадывать ваши загадки, — сказал Абашев, — говорите прямо.
— Командир дивизии приказал: выделить сводный эскадрон для участия в московском параде седьмого ноября. Подполковнику Осипову приготовиться командовать сводным полком.
Если бы майор сообщил, что на окраину деревни Сычи прорвались немецкие танки, Осипов не был бы так удивлен: на войне случаются самые неожиданные, невероятные вещи. Но это уж было слишком.
— На парад? В Москву? — выжидательно склонив голову набок, переспросил Осипов.
— Да! Форма обыкновенная, фронтовая, — подтвердил майор.
— Может быть, ты, начальник штаба, шутить изволишь? — заговорил Осипов.
— Какие там шутки! — майор пожал плечами.
— Нет, здесь не шутки! — сказал Абашев, поднимаясь во весь рост.
Осипов тоже вскочил из-за стола и взволнованно прошелся по комнате.
— Значит, надо вытаскивать людей из окопов. А вдруг немцы атакуют в праздник?
Антон Петрович вопросительно посмотрел на Абашева. Оба они хорошо знали, что немцы будут наступать, но когда?
— К нам придет один батальон Панфиловской дивизии, — успокоил его Почибут.
— Ну, тогда все в порядке! Тебе, Антоша, просто везет!
— Будто бы? — Осипов хотел, но не мог скрыть острого чувства радости. Потирая руки, он ходил по горнице, не находя себе места. Потом вышел на кухню и послал Петю узнать, готова ли баня. Вернувшись в горницу, он застал комиссара и начальника штаба уже в дверях. Они собирались уходить.
— А когда выступать? — спросил Осипов у майора.
Почибут ответил, что на подготовку дано два дня.
— Добре, — кивнул Осипов удовлетворенно.
Почибут и Абашев вышли.
— Елена Васильевна! — позвал Осипов.
Вошла Русакова.
— Вы меня звали, Антон Петрович?
— Я хотел поговорить с вами. Вы садитесь... — Осипов, заложив руки за спину, ходил из угла в угол. Лицо его было серьезным, даже строгим. Казалось, он решал сложную и ответственную задачу.
Сердце Елены Васильевны дрогнуло и заныло тревожной радостью. Ей показалось, что она поняла его без слов. Поняла своим женским чутьем и чистотой материнского сердца. Но это была ошибка.
— Вам надо уехать отсюда! — сказал вдруг Антон Петрович.
— Куда? Зачем? — спросила она чуть слышно.
— Не исключена возможность, что здесь начнутся сильные бои, — сказал Осипов. — Во что бы то ни стало надо отправить в тыл детей. По обстановке видно, что бои примут зимой затяжной характер, а с улучшением погоды начнется и бомбежка. Подвергать этому детей — преступление.
— Я бы давно уехала, но ведь никто не знал, что фронт так быстро приблизится к Москве. А теперь трудно выехать, все дороги забиты. Я никак не придумаю, как мне спасти дочь. — Русакова вдруг низко опустила голову и судорожно сжала руки.
— Если вы хотите, я вам могу помочь. Отвезете Петьку и Машу в Уфу, к моей сестре. Там у меня дочка. Ну и сами у нее останетесь. О билетах я похлопочу...
— Не знаю, как вас благодарить, Антон Петрович. — Елена Васильевна поднялась с места, наполненные слезами глаза смотрели доверчиво и ласково. Но Антон Петрович старался не замечать этого. На душе у него было совсем другое чувство.
Вошел коновод Федор Чугунов и доложил, что баня готова.
— А где Петя? — спросил Осипов.
— А он с ихней девочкой с горы на салазках катается.
— Добре, сейчас вместе пойдем. Комиссар уже там?
— Так точно. Он уже раздевается.
На краю села, под горкой, возле небольшой речушки, стояла баня. Маша с Петей, оседлав вдвоем салазки, хохоча и взвизгивая, катились вниз с горы.
Маша приветливо улыбнулась Осипову. Антон Петрович хотел было отослать детей домой, но жаль было нарушать их веселье. Кинув в ребят снежком, он вошел в баню.
Баня была вытоплена наславу.
— Ну и благодать! — Антон Петрович был в самом благодушном состоянии. Рьяно натирая мочалкой спину Абашеву, он говорил. — Понимаешь, Миша. У людей бывает внешняя сторона жизни, которая, как коркой, покрывает настоящую жизнь.
— Понимаю, не все вещи таковы, какими они нам представляются. А ты не очень нажимай, а то шкуру сдерешь, — шутливо сказал Абашев.
— А что, больно? Хорошо, буду осторожней. Ты прав, Миша, прав Я вот после четырех месяцев войны на все стал смотреть другими глазами. Жизнь во сто крат ценней стала. Видно, оттого, что на глазах гибнут тысячи жизней.
— Да еще каких! — вставил Абашев.
— Ты знаешь, я нутром чувствую, что буду еще долго жить.
— Я догадываюсь, с какого часа это началось у тебя, — усмехнулся Абашев.
— С какого?
— С того самого, как приглянулась Русакова.
— Ты вот все шутишь, а мне совсем не до шуток.
— Как раз я тоже не шучу. Может быть, я не так разговаривал, но мне от души хотелось помочь тебе разобраться в самом себе. Мне хотелось знать...
— Подожди! — перебил Антон Петрович. — Тебе хотелось знать, забыл ли я жену и как быстро залечивает жизнь раны?
— Да!
— Так я тебе должен сказать, что моя рана, пожалуй, не залечится никогда. Я понимаю, что прошлое невозвратимо, как и сама молодость, но это не забудется! У меня до того ярко перед глазами эта картина: Валентина прижимает к груди Витьку, а какой-то фашистский гад целится в них из автомата. Нет, этого я, брат, никогда не забуду! И тем более сейчас. Вот тут-то ты, милый друг, не прав со своим легкомысленным сватовством. Елену Васильевну я просто уважаю и болею за нее душой, как за всякую другую женщину, которую война застигла здесь врасплох. Ведь их место с детьми в глубоком тылу.
— Прости, что я другое подумал...
Договорить Абашеву не пришлось. За окном хлестко затараторили пулеметы. Огромной силы взрыв так встряхнул баньку, что, казалось, она вот-вот развалится.
Осипов бросился в предбанник, накинул на плечи бурку и выскочил на снег. Немецкий истребитель, беспрерывно стреляя, шел вдоль речки на бреющем полете. Над лесом, в полосе обороны первого и второго эскадронов, разворачивалось около двадцати «Юнкерсов».
— Давай, Миша! — вернувшись, крикнул Осипов.
Быстро одевшись, Антон Петрович выбежал на улицу. Коновод Федор Чугунов с перекошенным от гнева лицом, запыхавшись, нес безжизненно висевшее на его руках тело Маши.
— Совсем? — хрипло спросил Осипов.
— В грудь, товарищ подполковник. Целую очередь. Я бежал, хотел в щель их сховать, но не успел, — виновато ответил Федор.
Елена Васильевна болезненно вскрикнула, когда мертвую девочку внесли в горницу. Потом она, приложив руку ко лбу, прислонилась плечом к стенке и смотрела на все происходившее с каким-то страшным безучастием. Так она простояла до прихода Осипова. Когда он вошел, Елена Васильевна опустила руку и посмотрела на него. Антон Петрович содрогнулся. В его сознании на мгновенье вспыхнуло воспоминание, и, как всегда в такие минуты, он вновь увидел беспомощную Валентину с сыном на руках перед кучкой озверевших фашистских солдат. Он знал, что в ту страшную последнюю минуту его жена, прижимая к сердцу Витьку смотрела вот такими же опустошенными болью глазами, как и мать только что убитой Маши.
— Антон Петрович! Что же теперь делать? — тихо проговорила Русакова
В эту минуту она ничего не знала и не понимала, кроме своего страшного горя.
Антон Петрович подошел к ней, взял за руку и осторожно, как больного человека, усадил на диван.
— Понимаю, все понимаю! — сказал он отрывисто и, схватив со стены шашку, пристегнул ее к портупее. Золото блеснуло на эфесе клинка тускло, холодно. Порывисто подойдя к Русаковой, он сжал ее голову ладонями и глухо, с болью в голосе сказал:
— Заплачьте хоть...
— Не могу! — отозвалась она каменным голосом и, точно опомнившись, с испугом спросила: — А где Петя, Петя где?
— Петя с комиссаром. Оставлю вам его. — Отпустив ее голову, Антон Петрович подошел к лежавшей на скамейке Маше. Сняв с головы папаху, он наклонился к бледному, с заостренным носиком личику и, целуя его, прошептал: — Отомщу, дочка. За всех отомщу! — и так скрипнул зубами, что стоявший у порога адъютант — младший лейтенант Гриша Бранко — вздрогнул и попятился к двери. Искаженное лицо командира полка было страшным в своем беспощадном гневе.
Выйдя из хаты, Осипов поспешно спустился с крыльца и, вскочив на коня, поскакал к штабу. Там его уже дожидались Абашев, Почибут и лейтенант Головятенко, помощник начштаба.
— Донесение комдиву послали? — подъехав, спросил Осипов. Он уже был собран, подтянут. Из-под тяжелых век блестели суженные карие глаза, разившие своей остротой и волевой напряженностью.
— Да! — подтвердил Почибут.
— Ты, Миша, неотступно наблюдай и командуй левым флангом. Если сейчас там тихо, это значит, ждут, пока не выявится успех на правом фланге. Резервный эскадрон Шевчука держи наготове на случай прорыва. Да предупреди Шевчука, чтобы горячку не порол и берег людей. Я буду на командном пункте батареи Ченцова. В зависимости от обстановки туда передвинем наблюдательный пункт. Связь держать непрерывно посыльными и по телефону Начальнику штаба быть с комиссаром. Лейтенанту Головятенко — со мной. Распорядись тут, Миша, — Антон Петрович не договорил и тронул коня.
Высокий, складный, в белом полушубке, Головятенко откозырнул и, придерживая шашку, побежал в сарай за конем.
По протоптанной связными тропке запушенные инеем кони шли охотно и резво. Лес, наполненный выстрелами, гудел. Вздрагивали висевшие на лапчатых елях комья снега и, оторвавшись, бесшумно скатывались на разгоряченных коней.
Осипов в сопровождении Головятенко, Антипова и нескольких конных разведчиков и связных подъехал к широкой просеке. Стоявший у минного поля часовой перегородил винтовкой дорогу и. сообщил, что двигаться дальше в конном строю нельзя. Осипов приказал спешиться и итти всей группе пешком.
Когда подходили к командному пункту батареи Ченцова, бой был в полном разгаре.
Немцы наступали тремя группами, пытаясь овладеть лесными просеками. Первая группа наносила удар по левому флангу третьего эскадрона Орлова в направлении Сычи, вторая — в стык первого и третьего эскадронов, третья, более сильная группа стремилась смять левый фланг соседнего кавалерийского полка под командованием Бойкова, чтобы зайти во фланг первому эскадрону и, изолировав его от третьего (при помощи другой группы, наступавшей в направлении Петропавловское), уничтожить каждый эскадрон в отдельности.
Таким образом, обеспечив себе выход на Сычевские и Матренинские высоты, немцы, угрожая левому флангу бойковского полка, вынуждали его покинуть занимаемые позиции и отходить почти к самому Волоколамскому шоссе. Руководить всей операцией прибыли генерал Гютнер и начальник штаба армейской группировки генерал Рихарт.
Командир полковой батареи лейтенант Анатолий Ченцов выкатил две пушки, приданные третьему эскадрону, к завалам на просеке и бил по появившимся танкам прямой наводкой. Две другие пушки под командованием комиссара батареи Валентина Ковалева были поставлены на левом фланге первого эскадрона — в стыке лесных дорог — с таким расчетом, чтобы в нужный момент иметь возможность быстро перебросить их на участок возможного прорыва.
До прихода командира полка эскадрон отбил две сильные атаки. Теперь немецкие танки, выйдя из-под огня наших батарей, маскировались в ближайшем лесу, беспрерывно обстреливая завал. В конце просеки к небу поднимался черный столб дыма. Горел танк. Языки пламени вырывались из башни и разбрасывали по деревьям искры.
Лавируя между деревьями, Осипов добрался со своей группой до командного пункта и встретился с Ченцовым в небольшом, наскоро устроенном блиндаже.
— Значит, поздравили с наступающим праздником... Добре ты им ответил, добре... — выслушав доклад Ченцова, похвалил его Осипов.
Комбат, по своему обычаю, говорил с усмешкой. В его серых ласковых глазах вспыхивал восторженный азарт, как будто он не атаки отбил, а проделал очередной, вполне удавшийся ему, фокус.
— Когда налетели бомбардировщики, я приказал откатить пушки от завалов в глубь леса, — докладывал Ченцов, ухарски сдвинув кубанку набок. — Ясно было, что они будут рушить бомбами завал. Так оно и вышло. Когда улетели, немного подождал я и обратно поставил пушки на место. Сейчас, думаю, танки полезут, растаскивать завал попытаются. Жду с нетерпением... Наконец вылезли, окаянные! Тут мы их и угостили.
— Хорошо! — подтвердил Антон Петрович, оторвавшись от карты.
Приказав Головятенко узнать обстановку в первом эскадроне, Осипов снова углубился в карту. Он не совсем ясно понимал, что намерены предпринять немцы дальше. Но очевидно было, что противник в первую очередь будет стремиться овладеть просеками. С момента отъезда из Сычей Антон Петрович всю дорогу пытался подавить в себе нарастающее возбуждение, стараясь хоть немного унять давившее на сердце горе. Оно мешало ему сосредоточиться.
Адъютант не спускал с него глаз, пытаясь разглядеть на его суровом лице хоть какие-нибудь признаки взволнованности. Ведь только он, свидетель прощания с девочкой, мог понять, какие чувства обуревают этого человека.
— По завалу бьет? — попрежнему не поднимая головы от карты, спросил Осипов, прислушиваясь к гулу выстрелов.
— Так точно, товарищ подполковник, — ответил Ченцов.
Зашуршала плащ-палатка, закрывавшая вход в блиндаж. В клубах морозного воздуха появился связной командира первого эскадрона Громов. Он подал командиру полка донесение.
Орлов писал о потерях, требовал медпомощи и боеприпасов, одновременно сообщая, что немцы усиливают нажим на левый фланг соседнего полка.
— Слушай, Ченцов... — Антон Петрович поднялся во весь рост. — Откатывай пушки от завалов! — Осипов, прищурившись, смотрел на удивленного комбата.
— Зачем, товарищ подполковник?
— Откатывай быстрей! Вот сюда, — Осипов показал пальцем место на карте. Оно было в стороне от просеки, все поросшее молодым лесом и густым кустарником. Стрелять прямой наводкой оттуда было невозможно.
Ченцов снова переспросил.
— Не ясно? — Сузившиеся глаза командира полка глянули остро, пронзительно.
— Не ясно, — откровенно признался Ченцов.
Антон Петрович, крепко сжав челюсти, что-то соображал. Из донесения он понял, что немцы, подтянув тяжелые танки, готовятся к новой атаке. Он решил откатить пушки глубже в лес, первый завал, прикрывающий вход на просеку, бросить, а укрепить и заминировать второй, находившийся на расстоянии километра от первого. Пушки Ченцова Осипов решил оставить в засаде.
— Закати сюда пушки, — объяснил он Ченцову. — Проруби сектор обстрела и встань на прямую наводку. Только как следует замаскируйся. Если немцы подойдут к первому завалу и начнут его растаскивать, не препятствуй. Впусти их на широкую просеку, и тогда бей. А до этого ни одного выстрела! Эскадрон Орлова будет тебя прикрывать. А эскадрон Рогозина остается на месте. Ну, теперь понял, в чем дело?
Комбат все понял. В случае неудачи при этой рискованной операции батарея должна неминуемо погибнуть. Отводить пушки было некуда. Сзади были непроходимый лес и топь, впереди немцы. Уходить можно было только с одними постромками. Комбат знал, что если он не удержится, то эскадрону Орлова и Рогозина отступать тоже некуда.
— Все ясно, товарищ подполковник! — Ченцов не спеша, с вывертом, бросил ребрышко ладони к щегольски сидевшей на одном ухе кубанке и, резко оторвав руку, спросил: — Выполнять?
Осипов, покрякивая, медлил с ответом. Порывшись в кармане, вытащил портсигар. Протянув его Ченцову, спросил:
— Ты, Ченцов, пушки свои очень любишь?
— Вы же знаете, товарищ подполковник!
— А коней?
— Жизнь отдам за коней...
— Дешево ценишь свою жизнь... А детишек любишь, а?
— Двух мальчиков имею. А к чему вы спрашиваете, товарищ подполковник? — спросил Ченцов.
— Да вот сегодня в Сычах немецкий летчик девочку застрелил. Понимаешь, на моей квартире была, такая белокуренькая... — Осипов, закурив папиросу, поиграл пальцами около виска. — С кудряшками... такая. Может, вот за них лучше отдадим жизнь, а?
Комбат сверкнул добрыми глазами, отвернулся и хмуро посмотрел в темный угол блиндажа. Может быть, в эту самую минуту он вновь вспомнил своих озорников, оставленных на Кавказе?
Осипов глубоко затянулся папиросой; косясь на Ченцова, тихо продолжал:
— Ты это запомни, комбат. Хорошо сегодня дрался. Еще злее дерись. Но знай, что эскадрон Орлова я уже приказал отвести тоже глубоко в лес; поэтому на правый фланг тебе оглядываться не надо. Делай свое дело. И пришлю прикрытие.
Ченцов облегченно вздохнул.
— Задача у тебя... — Осипов на мгновенье замолчал. — Впрочем, ты знаешь сам. За геройство посулов сейчас не будет, а вот седьмого ноября, если выполнишь задачу, в Москву на парад поедешь. Обещаю. Ступай и подавай передки. Я перехожу на запасный командный пункт.
Спустя несколько минут Ченцов сидел на коне и распоряжался передвижением батареи. Гремя кольцами постромок, ездовые подводили засыпанных хвоей битюгов и ставили орудия на передки. Немцы открыли по завалу и ближайшему к нему лесу убийственный огонь.
Высокий, богатырского телосложения, круглолицый красавец сержант Анатолий Алексеев, командир орудия, дал перед этим несколько залпов.
— На, держи, гад! — крикнул Алексеев, посылая снаряд.
Противник, не подозревая, что батарея снялась, засыпал старые позиции уймой тяжелых снарядов. Шишковский лес гудел и трещал, словно его хлестала жестокая буря. Кругом с шумом и грохотом валились срезанные снарядами вершины деревьев. Остро пахло смолой и пороховыми газами.
Немцы решили стереть с лица земли русскую батарею. Она мешала им, как заноза в пятке, не давала двигаться, валила их танки, разбрасывала во все стороны табунившихся за танками автоматчиков.
Один взвод эскадрона Орлова, прикрывая левый фланг, не успел во-время отойти и попал под этот обстрел. Выполняя приказание Доватора о захвате «языка», старший лейтенант Кушнарев тоже очутился здесь. Он все время торопил бойцов, чтобы быстрей выйти из зоны обстрела. Но передвижению мешали раненые. Их было уже более десяти человек. Из санитарок здесь оказалась только одна молоденькая девушка Оксана. Она не успевала перевязывать.
Кушнарев видел ее в бою впервые. Оксана действовала очень спокойно. После очередного разрыва девушка быстро вскакивала на колени и торопливо ползла к лежащим на снегу бойцам.
Когда Кушнарев падал перед визжащим снарядом, у него, зацепившись за сучок, кубанка слетела с головы. И хотя снаряд разорвался слева, основательный толчок старший лейтенант получил в правый бок. Он ткнулся носом в снег. В ушах стоял звон, потом его кто-то схватил за волосы и приподнял голову. Сначала он хотел крикнуть от боли, но потом раздумал и только сморщился.
— Вы живы? — раздался голос возле правого уха.
— А? — Кушнарев повернул голову.
— Вы не ранены, я спрашиваю? — Оксана, смутившись, выпустила из своего кулака спутанную шевелюру и потянулась за кубанкой.
— Нет, — угрюмый на вид и редко смеявшийся Кушнарев на этот раз готов был расхохотаться. «Крепкий кулак», — мелькнуло у него в голове. Она так изменилась, что Кушнарев не узнал ее.
— Если нет, ползите дальше! — Оксана нахлобучила ему на глаза кубанку и, не обращая внимания на приближающийся свист мины, двинулась было к застонавшему неподалеку раненому. Но Кушнарев, поймав ее за рукав, рывком притянул к себе и вдавил ее голову в снег. Мина с треском разорвалась в нескольких шагах, именно в том месте, где лежал стонавший боец. Из развороченной воронки шел дым. Кругом валялись клочья окровавленной шинели. Оксана отвернулась и вытерла рукавичкой приставший к щеке комочек снежной грязи.
— Осторожно надо, тетя! — Приподнявшись, Кушнарев сел на снег.
— Ничего, дядя... — небрежно проговорила Оксана. Темные большие глаза девушки смотрели растерянно, густые ресницы вздрагивали. Только сейчас Кушнарев узнал девушку из партизанского отряда.
Двух казаков с перебитыми ногами пришлось тут же на снегу перевязывать. Одного понесли трое задержавшихся бойцов, другого, поменьше ростом, подхватил, как ребенка, на руки Торба. Оксана шла рядом, помогая Торбе нести раненого.
Кушнарев посмотрел сбоку на ее строгий профиль, на тонкий с горбинкой нос, и показалось ему, что она самая милая и мужественная на свете девушка.
— Когда вы приехали? — спросил он.
— Меня на самолете доставили. Ранена была, — тихо ответила Оксана.
Батарея Ченцова выдвинулась на новые позиции благополучно, без потерь.
— Во-время снялись... А командир полка сразу понял обстановку и повернул все по-своему, — заметил комбат, посматривая на веселых, коренастых батарейцев.
Это была единая, крепко спаянная семья, влюбленная в свои пушки и в своего отважного командира.
Сержант Алексеев, несмотря на мороз, сбросил полушубок и, проваливаясь в глубоком снегу, рубил молодую елку. Старший наводчик Максим Попов и заряжающий вислоусый Богдан Луценко, прозванный за усы Хмельницким, рыли капонир.
Алексеев, свалив елку, хотел было откатить ее в сторону, но Ченцов приказал поставить на место, чтобы «росла» в снегу. Так поступили и с другими деревьями.
— Когда снаряд пролетит, — объяснил Ченцов, — такие елки сами попадают. Раз мы в засаде, то важна внезапность. На каждый танк даю три снаряда, хватит? — спросил он у Алексеева.
— На этом расстоянии бью с двух! — ответил Алексеев. — А сколько на пехоту?
— Пехотой будет заниматься комэска три. У него одиннадцать пулеметов, он их встретит, а мы подсобим...
Работа по установке орудий шла заведенным порядком, как в образцовом, отлично организованном хозяйстве. Плохо обстояло дело лишь с устройством временных укрытий. Для того, чтобы выкопать в мерзлой земле небольшой окопчик, требовались самые невероятные усилия.
Стрельба начинала стихать.
На командном пункте связисты временно оборудовали телефонную станцию. Стены выложили из снега и мелких веток, сверху натянули плащ-палатки, внутри настелили еловых лапок.
— Связистам треба удобство, — подшучивая, заметил Богдан Луценко.
— Культура! У них в землянке всегда плакаты висят: «Не шуметь», «Курить в час полцыгарки, а то дышать нечем», «Говорить вежливо. За крепкое слово бьем телефонной трубкой по пяткам», — отвечал ему в тон Максим Попов, отворачивая ломом глыбу мерзлой земли.
— Это все Савка Голенищев выдумывает у них. Знаешь, длинный такой...
А в это время Савка Голенищев уже сидел в своем убежище и басил в телефонную трубку: «Орел, Орел, я — Калуга, я — Калуга». Рядом с ним на кучу еловых веток в ожидании разговора прилег комбат Ченцов.
— Орел, Орел, — продолжал бубнить Савка, — дай Огородника, Бригадир просит.
На командном пункте первого эскадрона, в глубокой, с пятью накатами землянке, комиссар батареи, двадцатитрехлетний политрук Валентин Ковалев, взял телефонную трубку.
Напротив него сидели командир первого эскадрона лейтенант Рогозин, а рядом политрук Гриша Молостов. В конце стола (крышкой его служила принесенная из села дверь) — командир разведчиков старший лейтенант Кушнарев. Он прибыл со своими разведчиками добыть «языка», которого ему никак не удавалось захватить. Сейчас, после боя, разбирали обстановку, спорили о международном положении и закусывали курами и жареной свининой. Кур и свинину доставил в огромных молочных бидонах председатель Данилковского колхоза Никита Фролов. Круглый, ширококостный, краснолицый председатель сидел рядом с Валентином Ковалевым. Разомлев от выпитой водки, он блаженно улыбался и с гордым самодовольством разглаживал густую, невероятной величины бороду, то и дело поправляя большие, в роговой оправе очки.
— Орел слушает! — крикнул Ковалев в трубку.
Он был тот самый Огородник, которого вызывал Бригадир — комбат Ченцов.
— Толя, это ты, братуха? Здравствуй, милый! Так, так. Ага, значит ворон караулишь? — Ковалев задорно хохотал, грызя белыми крепкими зубами куриную ногу. Серые глаза его поблескивали озорной удалью.
— Не выйдет, думаешь? — продолжал смеяться Валентин. — Чтобы у тебя да не вышло! Да таких колхозников, как у нас в огородной бригаде, во всем мире нет!
— Вот это верно! — кивнув бородищей, подтвердил Никита Фролов, понимая разговор совсем в другом смысле.
— Ты мне вот что объясни... — склонившись к политруку, спрашивал Рогозин. — Несмотря на разницу в политической платформе, может существовать у нас с капиталистическими государствами настоящий военный союз?
— Может, — твердо ответил Молостов.
— Миру угрожает фашизм, — вмешался Кушнарев, — значит, для подавления фашистской агрессии нужен и должен быть военный союз.
— А какого чорта они отсиживаются на островах! — возмущенно вспылил Рогозин. — Двинули бы оттуда, а мы отсюда! А то немцы-то к Москве пожаловали...
— Тише! — крикнул Валентин и погрозил Рогозину обглоданной костью. Потом, склонившись к трубке, он возбужденно спросил: — В Москву, говоришь, на праздник? На парад! Обещал? Ты брось загибать, Толя. Нет, всерьез? Ах елки-палки! Я сегодня обязательно три черепахи подшибу. Знаешь, давай заключим договор: у кого больше будет, тот и поедет на праздник. Вместе нас все равно не пустят. Согласен? Вот и отлично! А сейчас приезжай курочек покушать. Тут нам папаша на всю артель принес. Замечательный батька!
Ковалев, отбросив кость, провел рукой по мягкой шерсти бурки. Его пальцы натолкнулись на твердую жилистую руку и крепко пожали ее. Старик расчувствовался и уронил очки.
— Замечательный батька! — продолжал Ковалев в трубку. — У него четыре дочки... Да, да! А девушки какие! Если бы ты знал! Обязательно женюсь. Непременно... На свадьбу приезжай! Алло! Алло! Толя! Чего ты там? — Ковалев дунул в трубку, и вдруг его широкое густобровое лицо исказилось в напряженной гримасе. — Тише! — Он уже не просто крикнул, а скомандовал резко, отрывисто, с суровой властностью в голосе. Эго уже был совсем другой человек, не тот весельчак Валя Ковалев, а командир, строгий, волевой и требовательный.
— Так, так, так... — повторил он полушепотом, словно боясь, что его подслушают. — Значит, теперь держись... Пошлю или сам приеду. Не волнуйся, отдам последний. Уж раз пошла такая свадьба, режь последний огурец.
«Ишь ты, какой колючий! — восторженно посматривая на Валентина, думал Никита Дмитриевич. — А хорош был бы зятек-то. Хорош!»
— Немцы пошли в атаку на первый завал. — Ковалев положил трубку и бросил на командира тревожный взгляд.
— Товарищи, — крикнул Кушнарев, поднимаясь из-за стола, — немцы в атаку на эскадрон Орлова пошли!
— Да они сегодня несколько раз лезли. Удивил! — отмахнулся было Рогозин.
— На этот раз будет погорячее!
Валентин, отодвинув блюдо с мясом, встал из-за стола. Он был небольшого роста, но широкоплеч и коренаст.
— Нам тоже приготовиться. Дело вот в чем... — немного помолчав, сказал Ковалев. — Там комбат Ченцов остался с пушками в засаде. Немцы сейчас растаскивают завал. Если комбат и Орлов не удержатся, то противник захватит и второй завал. Тогда нам будет худо. Полк Бойкова дерется с утра. Командир нашего полка сообщил комбату, что будет серьезная атака. Надо быть готовым... Я иду к пушкам.
— Ну, а я к Ченцову, — сказал Кушнарев.
— Вот это правильно, — поддержал Ковалев разведчика. — Там «языки» близехонько, бери, как барашков...
Кушнарев промолчал.
— Ты говоришь, завал растаскивают, а почему пушки Ченцова молчат? — спросил Рогозин.
Стрельба в районе первого завала действительно слышалась редкая и вялая. Только на правом фланге у Бойкова хлестко переливались пулеметные очереди. Били немцы. Звук их пулеметов был жесткий и дробный.
— Почему молчит Ченцов, я спрашиваю? — Рогозин настойчиво теребил Валентина за острое плечо кавказской бурки. Но Ковалев сам не понимал, почему комбату стрелять не велено. Снарядов было достаточно.
— Командир полка запретил... — неожиданно ответил Ковалев и, чтобы прекратить дальнейшие рассуждения, добавил, обращаясь к старику Фролову: — Вам, Никита Дмитриевич, надо собираться, а то здесь...
— Ты меня, комиссар, не пугай! Я ведь ту германскую отбарабанил, да и гражданской прихватил чуток. Все равно не боюсь смерти.
— Зачем, папаша, думать о смерти! — воскликнул Ковалев с прежней неудержимой веселостью. — Нам еще жить да жить! В Москву на парад через три дня поедем. Эх, и погуляем!..
— Крепко любишь жить, паренек. Уважаю таких, — застегивая полушубок, проговорил Никита Дмитриевич. — Ежели утихнет, вечерком загляну...
А хорош, хорош! — не унимался нахваливать Ковалева старик. — Что это у них затевается с Зинкой-то? Два дня не был, а она уж ходит по комнате, как птица в клетке.
Никита Дмитриевич не подозревал, что дело давно уже сладилось.
Несколько дней тому назад комиссар полковой батареи Валентин Ковалев со старшиной Алтуховым поехали в село Петропавловское за фуражом. Председатель колхоза Никита Дмитриевич Фролов встретил их, как самых дорогих гостей, и усадил за стол.
— Мать, собирай на стол! Живо! — засуетился радушный хозяин и вытащил припрятанную бутылку водки.
— Да мы не пьем, — отнекивались гости.
— На войне, да не выпить, как бы не так, — не уступал хозяин.
— В рот не берем. Даже крошечки, ни-ни... — проговорил лобастый, толстогубый, похожий на монгола Алтухов, придерживая в кармане горлышко от пол-литровки, привезенной для угощения председателя.
— Не выпьете по стаканчику, клочка сена не дам, — отрезал обиженный Никита Дмитриевич.
Это была первая фронтовая часть, вступающая на территорию колхоза. Увидев добрых, крепких, лихих кавалеристов, Никита Дмитриевич еще сильнее почувствовал непоколебимую уверенность в том, что гитлеровцев не пустят дальше ни на шаг и закопают их в подмосковной земле. Накануне ему пришлось выдержать жестокий бой со своей хозяйкой. Пелагея Дмитриевна требовала подвод для немедленной эвакуации.
— Ты что ж это, хочешь, чтоб я тут с немцами оставалась? — налетала на него дородная белокурая супруга. — Весь скот отправил, а мы, выходит, хуже животных?
— Скот велено было угнать, а мне уезжать не велено, — возражал Никита Дмитриевич. — Не пустят сюда германца, вот и весь сказ.
Он уже давно записался в партизанский отряд и включил в него всех дочерей, но держал это в строжайшем секрете.
Председателем колхоза его избрали недавно, во время войны. Он очень гордился оказанным ему доверием и отдавал все силы, чтобы сохранить колхозное имущество и помочь Красной Армии.
— Объясните, товарищи командиры, моей почтеннейшей супруге, разобьем мы германца аль нет? — торжествующе поглядывая на Пелагею Дмитриевну, спросил Никита Дмитриевич.
— А сам ты как думаешь, папаша? — хитро прищуривая монгольские глаза, спросил Алтухов.
— Мы люди русские, советские, фашистское ярмо никогда не наденем. Наполеон тоже вот приходил в Москву. Трус всегда из-за угла бьет, нахрапом лезет, а получит сдачу, бежит без оглядки. Дадим мы ему сдачу, дадим! Я вот тоже... — старик едва не проговорился о партизанском отряде, но, спохватившись, умолк.
— Вот это правильно, папаша! — подтвердил Ковалев.
Из горницы выглянуло девичье лицо и тотчас же скрылось. За дверью послышался сдержанный смех.
— Не прячьтесь, все равно отыщем! — шутливо крикнул Ковалев.
— Да выходите, трусихи. Не съедят вас... — Никита Дмитриевич встал и распахнул дверь.
Из большой светлой комнаты одна за другой вышли три одинаково одетые, разительно похожие друг на друга девушки. Следом, точно шарик, выкатилась самая младшая, розовощекая, с синими, как у матери, глазами девочка лет тринадцати. Она смело подошла к командирам, подала руку и солидно отрекомендовалась Серафимой.
— Вот смотрите, какие. Запрягай и паши. Никаких тракторов не надо! А эта, четвертая — «куцавка». — Никита Дмитриевич поддал ей легонького тумачка.
— Папка, не дразнись! — шаловливо крикнула Серафима. — Он меня «Ефимкой-куцавкой» зовет, потому что я маленькая и коротенькая. Ну и пусть... А то дали какое-то имя — Серафима. Это в Язвищах попадья живет Серафима. Лучше уж я буду «куцавенькая».
Все рассмеялись. В просторной чистой комнате с приходом девушек стало еще уютней и праздничней. Солнечно плескался за окнами морозный день. На массивный буфет из окна падали косые солнечные лучи. Открыв стеклянные дверцы буфета, синеглазая красавица, первая выглянувшая из горницы, достала груду тарелок и стала их перетирать. Это была самая старшая дочь, двадцатилетняя Зина, строгая и красивая.
Вторые две — Ольга и Евдокия — были близнецы. Это были добродушные, славные и миловидные девушки. Сейчас они вышли на кухню и помогали готовить закуску.
Ефимка, со свойственным всем подросткам любопытством, подсела к Ковалеву и заинтересовалась сначала его орденом, потом буркой.
— Замечательная! — восторгалась девочка. — У Чапаева тоже такая была. Можно померить?
— Пожалуйста! — Ковалев, сняв с гвоздя бурку, накинул ей на плечи.
Бурка, коснувшись пола, стала коробом.
— Ну, теперь совсем похожа на куцого Ефимку... — шутил Никита Дмитриевич.
Зина покосилась на сестренку блеснувшими глазами, строгие губы ее дрогнули в ласковой улыбке.
Ковалев, наблюдая за девушкой, понял, что внешняя суровость ее — это только маскировка, желание отличить себя от других. Из всего было ясно, что семья Фроловых — крепкая. К Ефимке относятся снисходительно и любят больше всех.
Ефимка, подметая полами бурки крашеный пол, маршировала по комнате, задрав кверху нос.
— На огород бы тебя поставить заместо пугала, — смеялся отец.
— Очень даже хорошо, только немножко длинная... — не обращая внимания на шутки, заметила Ефимка. — Вот Зиночке будет как раз. А ну, померяй! Красота будет! — приставала сестренка.
— Как тебе только не стыдно! Ведь ты же настоящий мальчишка, Ефимка, — строго проговорила Зина, расставляя на столе тарелки.
— Ну и мальчишка! Что ж из этого?
Зина, ничего не ответив, вышла на кухню.
— Отчего она у вас такая сердитая? — тихонько спросил Ковалев у Ефимки.
Такой вопрос подстрекнул Ефимку к таинственности и расположил к откровенности. Оглянувшись на отца, который увлекся с Алтуховым разговорами о колхозных делах, Ефимка подсела к Ковалеву и начала шепотом рассказывать сестрины секреты:
— Наша Зина такая ученая, такая ученая, и не знаю, как вам сказать. Книжки читает по целым ночам и на скрипке играет. Она у нас в Москве училась, а теперь сюда приехала. Ей папаша новую скрипку купил. Лакированная, а Зина говорит, что инструмент никуда не годится. Привередница она у нас, гордая, но хорошая. А Ольга с Дуней плясать любят и песни петь. Они на трактористок учились. Мы все вместе спим. Они сказки любят рассказывать. От папаши научились. Ох, сколько он знает сказок! Всю ночь не уснешь. Хороший у нас папаша! Правда?
— Замечательный батька! — восторженно откликнулся Ковалев.
— А мы прошлый год заработали две тысячи трудодней. Все работали, и Зина тоже. Она только зимой учится, а летом к нам приезжает в колхоз. Папаша говорит, кто меньше двухсот трудодней заработает, тому никаких подарков не будет.
— А ты сколько заработала?
— У меня ничего нет, я учусь! — важно произнесла Ефимка. — Папаша говорит: «Ты наш единственный паразитик. Пока учись, а там видно будет... Может, я тебя в трактор запрягу...» А мне не хочется в трактор, я хочу в летчики. А он говорит: «Ноги у тебя короткие. Не примут». Может быть, еще подрастут, а?
Ковалев, улыбаясь, очарованно смотрел на Ефимку. Ему хотелось схватить ее на руки и бесконечно носить по комнате. После грубых и тяжелых испытаний войны ему не верилось, что все это реальное: и светлая, чистая горница, и веселый щебет Ефимки, и строгая красота Зины. Три месяца беспрерывных боев, бесчисленные и мучительные заботы! Люди, живые и мертвые, раненые и больные, кони и пушки, снаряды и сухари, марши по колено в грязи, блиндажи и щели, свист мин и удушливый, отвратительный запах пороха...
А сейчас все точно в сказке, мир и уют. Все сидят за гостеприимным столом, и Никита Дмитриевич, важно поглаживая бороду, подкладывает гостям лучшие куски. Пелагея Дмитриевна, раскрасневшаяся, с улыбающимся лицом, несет из кухни шипящую яичницу. Она рада гостям. Она верит, что эти плечистые, крепкие, опоясанные ремнями, славные молодые парни не дадут врагу надругаться над родиной, над ее цветущей Ефимкой, над строгой красавицей Зиной, над веселыми и добродушными близнецами Ольгой и Дуней.
Зину, как нарочно, посадили рядом с Валентином в передний угол, и они оба, молодые и сияющие, сидят точно новобрачные. Какие нелепые мысли лезут в голову. А что, если сейчас Ефимка крикнет «горько»... Поцеловал бы он Зину или нет? Вероятно, сначала посмотрел бы в глаза, а потом... Нет, в глаза смотреть страшно, Жгучие, синие, недоступные в своей строгости.
Валентин неловко тычет вилкой в яичницу, рушит глазастый желток, а захватить не может. Рядом теплое дыхание Зины. Он чувствует аромат ее васильковой шелковой блузки и видит, как мелькает сильная, покрытая бархатным пушком загорелая, шоколадного цвета рука. Вдруг эта рука подхватывает с его тарелки ломтик яичницы и подносит к его губам.
— Пили за мое здоровье, а вы не слышали! Закусите хоть! — укоряюще говорит Зина.
— Простите, задумался, — отвечает невпопад Валентин.
— О чем вы думали? — Слегка, прищуренные глаза девушки светятся ласковым сияньем.
Валентин смотрит в это сияние и не может оторваться. Молчит. «Разве ты не знаешь, о чем я думаю?» — спрашивают его глаза.
— О чем я сейчас думал, расскажу в другой раз, — произносит он вслух и почти резко. А потом, точно испугавшись неуместной резкости, тихо добавил: — Иногда приходит на ум такое, что даже самому себе стыдно признаться.
Зина вспыхнула и ничего не ответила.
После завтрака Никита Дмитриевич повел Алтухова показать колхозное сено. Молодежь заняла горницу. Зина извлекла из футляра скрипку. Хорошая, волнующая мелодия зазвучала в горнице.
— Почему вы не эвакуировались со школой? — спросил Ковалев Зину.
— Нашу школу не эвакуировали, а распустили.
— Ну, а что же будете делать, если немцы придут?
— Как это придут? А вы на что? — Зина тряхнула головой и выжидательно посмотрела на комбата. Такие вопросы задавали Ковалеву и в Белоруссии, и на Смоленщине, задавали всюду, куда приходила его часть. И всем он отвечал: «Дальше не пройдут». Он и сам верил в это, а немцы все шли и шли, занимая город за городом, а он отступал и упорно говорил: «Дальше не пройдут». Выходит, обманывал он и себя и всех, кто задавал ему этот страшный вопрос.
— За каждый клочок земли, который нам приходится отдавать, мы зубами готовы держаться и бьемся насмерть! — зло проговорил Ковалев и неожиданно смолк.
Да, тяжело было говорить об этом сейчас, когда немцы заняли Волоколамск и находились в семидесяти километрах от Москвы
Но Ковалев, как и все его боевые друзья, твердо верил в то, что наступит перелом и они погонят гитлеровские полчища прочь от Москвы.
В эти дни полк Осипова стоял в резерве и готовил второй оборонительный рубеж в районе Язвищенских высот. Ковалев навещал Петропавловское почти ежедневно. Фроловская семья встречала его, как родного. Особенно рада была его наездам Ефимка. Веселая и непоседливая, она требовала музыки, песен и пляски, но в доме с некоторых пор поселились тишина и скука. Ольга и Евдокия ушли в Ивановскую МТС угонять тракторы и застряли где-то по дороге. Зинаида, закутавшись в теплую оренбургскую шаль, куда-то исчезала на целые дни, а вечерами читала. Иногда она запиралась с отцом в горнице, они шушукались и гнали Ефимку от замочной скважины. Только с приездом Валентина все озарялось ярким светом, как любила говорить Ефимка. Начинались стряпня, игры и всякие интересные разговоры.
В такие дни Ефимка была наверху блаженства. Но самое интересное началось с того момента, когда она совсем случайно подслушала странный разговор между Валентином и Зинаидой. В этот день батарейцы топили у Фроловых баню. Сначал мылся Валентин с солдатами, потом Ефимка с Зинаидой. Родителей дома не было, они уехали в Москву навестить больную тетку. После бани Ефимка забралась на лежанку и, свернувшись калачиком, незаметно заснула. Разбудил ее негромкий голос Зинаиды. Она кому-то говорила:
— Я все поняла и все обдумала. Голову прятать под крылышко не буду.
— Но ты знаешь, что это очень опасно. К тому же ты такая красивая, — возразил мужской голос, и Ефимка узнала Валентина.
— А почему разведчица должна быть дурнушкой? — Рассмеялась Зинаида.
Ефимка едва сдержалась, чтобы не крикнуть, у нее больно сжалось сердце, когда узнала она, что Зина собирается быть разведчицей.
— Я повторяю, что это смертельно опасно!
— А ты разве ежедневно не подвергаешь себя опасности?
— Я — это другое дело. Я принимаю смерть в бою, как должное.
— А почему же мне нельзя принять смерть в открытом бою, лицом к лицу с врагом?
— Там будет другая смерть...
— Думаешь, не знаю? — тихим голосом спросила Зина.
— Несколько дней назад ты сказала мне, что любишь, а сейчас объявила, что уходишь по заданию к немцам в тыл. У меня, понимаешь, такое состояние, как будто меня обманули, дали в руки счастье, а потом отняли.
— Я не подозревала, что ты так... — вдруг голос Зинаиды зазвучал, как металлический. — Подожди! Предположим, что у нас есть ребенок. И вот ты, комиссар батареи, во имя спасения других жизней мог бы меня послать на смерть? Мог бы или не мог? Скажи.
— Смотря по необходимости... — глухо и нерешительно проговорил Ковалев, с явным намерением оттянуть ответ на этот неожиданный и жестокий вопрос.
— Значит, при необходимости послал бы? — не унималась Зина.
— Знаешь, я тысячу раз пошел бы сам, но тебя не послал бы, — ответил он с твердой мрачностью.
«Ах, дура, дура, и что же она мучает его!» — кусая подушку, всхлипывала за печкой Ефимка.
— Нет! Такая возможность исключена, милый. — Зина встала и, заложив руки за спину, широкими шагами прошла по комнате. Ее тонкий профиль с нахмуренными бровями был недоступно красив. — Да, да, такая возможность исключена, мой милый, — продолжала она медленно и громко, словно любуясь своим сильным, гибким сопрано. — Исключена потому, что твоя жертва в данном случае напрасна, бесполезна и даже вредна. Представь, ты, как командир батареи, находишься около своих пушек, а я, как разведчица, сижу в Шитькове в маленьком подвальчике около рации. И вдруг верхний этаж моего подвальчика занимает немецкий штаб. Предположим, приехали генералы, полковники и дюжины три лейтенантов. Я тебе передаю: «Валя, второй дом от края подними на воздух». А ты отлично знаешь, что в подвале этого дома я, Зина. Поднимешь или не поднимешь?
На несколько минут комнату заполнила напряженная тишина. Валентин слышал, как бьется у него сердце, а слова, нужные слова, уплывали куда-то все дальше и дальше.
— Поднял бы! — наконец решительно произносит он, но, немного подумав, оговорился: — Наверное, поднял бы! Ну, довольно об этом. — Он едва сдерживался, и голос его начинал срываться.
Зина подскочила к нему, обняла и расцеловала. Ефимка, не вытерпев, заплакала за печкой. Успокоив сестренку, Зина взяла скрипку и заиграла. Скрипка тихо и нежно пела. Видно было, что в песню эту Зина пыталась вложить всю свою молодость и то новое глубокое чувство любви, которое она впервые переживала. Ей было приятно видеть, что Валентин слушает ее и, может быть, сейчас, в эту минуту, думает о том же, о чем думала и она.
— Какой сегодня день! Если бы ты только знал, какой день! — восторженно произнесла Зина, оборвав горячий голос скрипки.
Она подошла к Валентину, села рядом и, положив голову к нему на плечо, тихо сказала:
— Сожми мою руку... Крепче, крепче... Вот мы с тобой съездили сегодня в сельсовет. В течение пяти минут из Фроловой меня превратили в Ковалеву и отдали тебе в полную власть. Это шутка, конечно, но знаешь, мне сейчас так стыдно, так стыдно, будто я совершила самый бесчестный поступок. А все оттого, что я бессовестно счастлива. Нашим пока не скажем. Время сейчас тревожное, а мы, здравствуйте, — поженились! Честное слово, глупо. Мне, значит, завтра же надо итти к своему начальнику и заявить: «Знаете, товарищ начальник, ваша разведчица Зина вышла замуж». Просто какой-то дурацкий водевиль. А все ваша милость виновата. Вскружил голову девчонке...
— Ну, положим, поездка в сельсовет не моя затея... А ты что, начинаешь раскаиваться? — спросил Валентин.
— Нет, нет! Я сама не знаю, что говорю! Валенька, милый, я ведь любовь знала только по книжкам. А вот пришла же она и так неожиданно и в такое время, что даже как-то страшновато за все. А сейчас я нарочно и себя и тебя испытывала, хотя и знала, что ты сильнее меня. В последние дни я много думала и перебирала в памяти все твои рассказы о войне. Это так страшно и так горько. Какие испытания несет наш народ! Так разве после этого я могу остаться в стороне? Нет, не могу. Ты понимаешь меня и я вместе с тобой хочу нести все тяжести войны и биться до конца, до победы.
В окно кто-то громко и настойчиво постучал.
— Кто бы это мог быть? — спросила Зина.
— Да вояки какие-нибудь. Я сейчас приду.
Валентин, подхватив бурку, исчез за дверью.
Зина взяла скрипку и снова хотела играть, но дверь распахнулась, и в комнату вошли трое военных и за ними Ковалев.
— Уж не нас ли, красавица, собираетесь встретить с музыкой? — проговорил, улыбаясь, передний.
На нем была длинная, ловко сидевшая, кавалерийская, с серебристой опушкой бекеша и такая же коричневая барашковая папаха.
— Генерал Доватор. Знакомьтесь, — отрекомендовал Ковалев.
«Так вот он какой, знаменитый генерал Доватор, о котором гак много говорил Валентин!» Зинаида растерянно протянула руку вместе со смычком. Лев Михайлович сначала взял у нее смычок, а затем пожал руку. Вторым поздоровался широкоплечий, с веселыми глазами бригадный комиссар Шубин. Выше всех ростом был третий, тоже в бурке, с продолговатым, сухощавым кавказским лицом — командир дивизии генерал-майор Атланов. Он попросил сыграть что-нибудь.
— Нет, нет, не буду, — горячо замахала руками Зина, — как-нибудь после. Да и какой я музыкант...
— Жалко, что откладываете, — огорченно вздохнул Лев Михайлович. — А мы затем и заехали, чтоб послушать. Да и дельце маленькое подвернулось. А насчет игры не скромничайте. Хорошо играете. Мы долго слушали, даже стучать не хотелось. Вот хоть и у комиссара спросите, и у генерала Атланова. Всем понравилось.
Зина все еще смущенная, поблагодарила и предложила садиться, но все стояли и смотрели на нее. Доватор следил за ней острым, колючим взглядом, намереваясь, казалось, влезть в самую душу.
«Да что они рассматривают меня, как картинку? — с чувством внутреннего протеста подумала Зинаида. — Уж не потому ли, что я красивая, как говорит Валентин?» И первый раз в жизни Зина пожалела о том, что она женщина, и подумала о себе с неприязнью.
Валентин с Атлановым, разговаривая вполголоса, вышли в другую комнату.
Доватор, повертев в руках смычок, присел на диван и, переглянувшись с Шубиным, пригласил его занять место рядом с собой.
— Так, значит, вы та самая Зина Фролова? — присаживаясь на диван, спросил Шубин.
— Не совсем так... — загадочно ответила Зина, смущаясь и краснея.
— То-есть как? — Шубин, видя ее замешательство, смотрел с удивлением. — Может быть, мы не по тому адресу попали?
— Нет, адрес правильный. — Зина энергично тряхнула головой, каштановые волосы густо рассыпались по круглым плечам.
Да, девушка действительно была красивой, и Шубин уже с сожалением успел подумать, что она, очевидно, не блещет умом.
Доватор, не скрывая, любовался Зиной. Ему просто не хотелось начинать серьезный разговор. Однако, не желая обременять свою будущую разведчицу излишним волнением, он сразу перешел к делу. Отстегнув планшетку, достал какую-то бумажку, прочел ее и, взглянув на Зину в упор, спросил:
— Вам знаком майор Викторов?
— Нет. Я не знаю никаких майоров Викторовых, — резко и категорически ответила Зина. На самом деле после получения специальной подготовки она находилась в распоряжении майора Викторова и ждала назначения со дня на день. Но майор почему-то медлил. Фамилию майора Викторова она могла открыть только по соответствующему паролю.
— У меня беда случилась: заболел брат, — тихо проговорил Доватор.
— Обратитесь к доктору... — после небольшой паузы светила Зина.
Это был пароль. Теперь она поступала в полное распоряжение соединения генерала Доватора. «Значит, вместе с Валентином. Совсем отлично», — мелькнуло у нее в голове.
Во все детали разведывательного дела Доватор вникал сам лично. Отправляя людей на задание, беседовал с каждым человеком в отдельности. Сейчас шла подготовка к очередной разведывательной операции по тылам противника. Было решено предварительно забросить за линию фронта группу специально подготовленных радистов-разведчиков и систематически получать точные данные об обстановке.
— Вас рекомендовал майор Викторов, — продолжал Лев Михайлович. — Вы не изменили своего решения?
Майор хоть и рекомендовал Зину, но откровенно признался, что жалеет посылать девушку на опасную работу. Это-то и толкнуло Доватора наведаться к разведчице. Да и комиссар настаивал.
— Скажите мне, деточка моя, чистосердечно... — Шубин не спеша расстегнул на груди бурку, снял ее и положил на валик дивана. В кожаной безрукавке и фетровых сапогах, он оказался стройным и моложавым, но движения его были удивительно медлительные и расчетливые. Зине показалось, что вся его спокойная и крепко сбитая фигура только и создана для того, чтобы придумывать хитрые вопросы, для вида сдобренные отеческой лаской. Только серые вдумчивые глаза под сросшимися бровями говорили другое. В них светились теплота и добродушие. Эти проницательные и умные глаза смотрели сейчас на Зину, как на человека, с которым случится несчастье и который вряд ли выпутается из беды. — Скажите чистосердечно, вас очень увлекает романтика профессии разведчика?
— А кого это не увлекает, Михаил Павлович! — вступился Доватор.
— Подожди, Лев Михайлович. Пусть она сама ответит!
— Если говорить чистосердечно, увлекает! — возбужденно ответила Зина. Она чувствовала, что комиссар собирается экзаменовать ее и, собрав всю свою волю, решила дать отпор. — Но дело не только в одной романтике, товарищ комиссар, — заключила Зина.
— А в чем же еще?
— Прежде всего без увлечения не сделаешь ни одного хорошего дела. Если уж что захотел сделать, отдай всю свою силу и душу. А люди сейчас отдают для защиты родины все. Вот и я хочу сделать так же, как и все. Буду разведчиком. Вы мне сейчас скажете, что это очень опасно, попадешь к гитлеровцам, будут пытать, огнем жечь. Отлично знаю, не, одну ночь думала об этом, но не трушу. Я не ушла и готова сейчас перенести любую муку, любую пытку.
— Горячо, очень горячо! — кивая головой, повторял Шубин. — Я, честно признаюсь, вначале подумал, что вы только на скрипке пиликать умеете, бантики завязывать. Ничего не поделаешь, ошибся. Только у меня есть еще один чистосердечный вопрос. Можно задать?
— Слушаю вас, товарищ комиссар.
— Кто вас так ретиво настропалил? Ничего не бояться, не ужасаться, а прямо с места в карьер хоть на виселицу. Я подозреваю, что Ковалев. Хвастал, поди, рейдом в тыл, где сплошной героизм! Запорожская сечь! Не война, а песня! Но если так говорил, то он пустой и вредный хвастунишка! Излишнее увлечение и романтика — это усыпление бдительности. У разведчика должен быть трезвый и холодный расчет. На каждом шагу он подвергается опасности, и если не выдержит, то нанесет общему делу непоправимый вред. Умереть нетрудно, но надо дело сделать! — Комиссар говорил резко, напористо, не обходя острые и опасные положения.
Доватор, откинувшись на спинку дивана, наблюдал за девушкой. Зина сидела на краешке стула около опрятно убранной кровати и смущенно покусывала губы. Слова Шубина по отношению к Валентину не только не были оскорбительны, а, наоборот, поднимали в глазах девушки любимого человека. Ведь он ей говорил то же самое, и казалось, что комиссар подслушал сегодня их разговор с Валентином и сейчас передает его слово в слово. Удивительное совпадение!
— Можно отвечать? — спросила Зина, когда Шубин закончил.
— Да, да, отвечайте! Чему вас учит Ковалев во время музыкальных вечеров?
— Запугивал. Говорил самые ужасные вещи... — Зина возбужденно взмахнула руками и весело рассмеялась.
— Запугивал? — переспросил Доватор. По тону его чувствовалось, что он не одобряет этого. — Вот что, комиссар: запретите ему сюда ездить, — добавил он властно, скрывая появившуюся на губах усмешку.
— Определенно запретим, — безапелляционно подтвердил комиссар.
— Нет, вы этого не можете сделать! — Зина умела выражаться коротко и решительно. — Вы не можете запретить! — повторила она сердито.
— Мы не только запретим, но и переведем его в другую дивизию, — сказал Шубин.
— В резерв отчислим, — вставил, улыбаясь, Доватор. — Отговаривать человека от выполнения ответственнейшей задачи...
— С целью извлечения личной выгоды... Заметь — в военное время! — Шубин внушительно поднял указательный палец.
— Да, да! — подхватил Доватор. — Здесь, брат, трибуналом пахнет!
В слове «трибунал» Зина смутно ощутила нечто суровое, но совсем не опасное и ничем не угрожающее. Доватор проговорил его с шутливой беспечностью.
Зина начала понимать, что в их посещении, помимо делового разговора, кроется еще что-то другое. Не ускользнуло от нее и подозрительное перемигивание.
— До трибунала-то, положим, далеко... — проговорила она убежденно, и в ее синих глазах, строго смотревших на Доватора, блеснула лукавая улыбка. Гости чувствовали, что девушка начинает вникать в их коварный замысел.
— Должен вам заметить, товарищ Фролова, что у вас крепкие нервы, — вполне серьезно заметил Шубин.
— Должна вам заметить, товарищ бригадный комиссар, что вы ошибаетесь. Моя фамилия не Фролова, а Ковалева.
На розовых губах Зины играла насмешливая улыбка.
— Вот видишь, генерал Доватор! Я тебе сразу же заметил, что непочтительно разговаривает девушка, непочтительно! Вместо того чтобы по такому высокоторжественному случаю, как бракосочетание, пригласить к столу, посадить в передний угол, она нас держит чуть не у порога и не смей тронуть, колется, как ежик!
— Прошу, прошу! — Зина по русскому обычаю низко поклонилась.
После шуток и поздравлений сели за стол. Комдив Атланов произнес торжественную речь. Он говорил громко и страстно, и в словах его звучала упрямая, неистребимая жажда жизни.
— Никакие невзгоды, никакие исторические трагедии — сказал он между прочим, — не могут остановить движение жизни. В гражданскую войну после тяжелых, изнурительных походов в полках конницы Буденного устраивались такие веселые свадьбы, что от песен и пляски в хатах лампы гасли. А это значит — люди были сильны духом и крепко верили в победу. Никакие невзгоды не могли сломить человеческую волю и отвратить любовь к жизни. Я поднимаю бокал за победу, за любовь, за человеческое счастье на земле!
После этого Доватор попросил Зину сыграть на скрипке. Она смущенно отказывалась. Но Лев Михайлович настойчиво уговаривал, вылез из-за стола, сам принес и подал смычок и скрипку.
...Тихая и торжественная мелодия зазвучала так проникновенно и, казалось, так по-человечески внятно и одухотворенно, что у Зины дрогнуло сердце, и сама она точно слилась с этими звуками и больше ничего не видела и не слышала. Скрипка пела, и чудесный голос ее наполнил комнату теплом и блеском каких-то необыкновенных лучей; и всем на минуту показалось, что на улице не зима, а весна, повсюду цвели сады, цвела вся земля, и с шумом падали на нее теплые дожди, и все вокруг радовалось и пело.
Скрипка, как и страстные слова Атланова, славила жизнь и, может быть, больше всего человека. Так думали все; о том же думала Зина. Вдруг звуки скрипки смолкли, но в комнате все еще не угасало тепло весны, дыхание цветущей земли...
Лев Михайлович внезапно встал и отошел к туалетному столику. Он постоял несколько минут, глядя на семейную фотографию Фроловых, о чем-то глубоко задумавшись.
Музыка произвела сильное впечатление на всех, а на Атланова в особенности. Взглянув на него, Шубин с изумлением заметил, как крупные суровые черты лица этого Далеко не сентиментального человека разгладились, разительно помолодели, и глаза ярко поблескивали. Шубин налил в рюмки коньяку и, пододвинув Ковалеву и Атланову, сказал:
— Выпьем, Иосиф Александрович, — и, кивнув на Валентина, добавил: — За его счастье выпьем. Это не девушка, а сокровище!
— Да, Михаил Павлович. Поберечь ее следовало бы, — задумчиво проговорил Атланов. — Талантливая!
Доватор, повернувшись от столика, позвал к себе Шубина, о чем-то тихо с ним заговорил. Михаил Павлович согласно кивнул, и они вместе вернулись к столу.
— Заканчиваем, товарищи, — присаживаясь к столу, сказал Доватор, кинув на Зину острый, пронизывающий взгляд. — Зинаида Никитична, мне нужно еще кое о чем переговорить с вами.
— Я вас слушаю, Лев Михайлович.
Зина, видя изменившееся лицо Доватора, насторожилась.
— Мне кажется, всю затею с разведкой придется отставить.
— Почему?
Голос девушки зазвенел и дрогнул.
— Видите, какое дело...
Лев Михайлович, застегнув верхнюю пуговицу генеральского кителя, порывисто встал и прошелся по комнате.
— Учиться вам надо, — проговорил он решительно. — Вы не имеете права... — Он хотел сказать «губить себя», но, спохватившись, поправился: — Не имеете права не учиться. Вы очень способны. Поезжайте в Москву. Хотите, я напишу куда следует?
— Правильно! — горячо подхватил Атланов. — Вы будете выступать по радио для всей Красной Армии! Для всего народа! Вы же знаете, что такое хорошая музыка и песня. У меня кавалеристы воюют с песней, кашу варят с песней. Спать ложатся — поют, а встанут и снова запевают: «И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет...» Хорошие слова!
Зина, не моргая, смотрела на левый носок туфли, точно капризный ребенок. Уговаривали ее все наперебой, но она упорно молчала.
— Я ей тоже все время толкую. Даже слушать не хочет! — кипятился Ковалев.
— Погоди, Валя, — не вытерпела Зина и досадливо замахала рукой.
Подняв на Доватора умные, строгие глаза, она спросила:
— У вас, Лев Михайлович, есть дети?
— Да. Сын и дочь Рита, — ответил Доватор.
Шубин прищурил правый глаз, нарочно громко, кашляя склонился к столу. Он понял, что отмалчиваясь, Зина готовилась к меткому удару. Вот она обдумала все и хочет что-то сказать.
— Если бы ваша дочь Рита, — твердо и медленно начала Зина, — в тысячу раз имела больше способностей, чем я, и вдруг решила итти воевать. Вы, член партии, генерал-майор, запретили бы ей или нет? Или бы уж, на худой конец, взяли в штаб, под свое крылышко? Она бы вам по вечерам на гитаре тренькала или, как я, на скрипке играла? Как бы вы поступили, интересно мне знать?
— Вот это я понимаю, соль-мажор! — Шубин широко развел руками. — Что я тебе говорил, генерал Доватор, не умеет быть почтительной, не умеет! А еще артистка, художник! — Шубина распирало от восторга, казалось, что у него треснет на спине туго затянутый китель.
— Да у нас, Михаил Павлович, таких художников, — звонко крикнула Зина, — половина колхоза! Вот если бы сейчас кто-нибудь из нас новый порох придумал или какую пушку, тогда другое дело! Можно было бы такую девушку отправить в глубокий тыл, в лабораторию или на завод. За вами, Лев Михайлович, ответ!
— Брось, Доватор, — снова вмешался Шубин. — Ее все равно не переспоришь. А то, чего доброго, тряхнет своими кудряшками и улетит в штаб армии, а там — будь здоров! — на самолет — и в твою Белоруссию. Оттуда еще привет отстукает.
Вместо ответа Доватор взял Зину за руки и поцеловал в губы.
— Молодец! Это я так поступил бы с моей дочерью, — сказал он взволнованно и, оглядев присутствующих грустным задумчивым взглядом, тихо добавил: — Пора по коням!..
Когда вышли, на дворе стояла глубокая морозная ночь. Редкие выстрелы рвали тишину и вспугивали мигающие на небе звезды.
— Ну, как комиссар, разведчица? — садясь на коня, спросил Лев Михайлович.
— Геройская, — ответил Шубин коротко.
Немецкие автоматчики подошли к оставленному завалу с большой осторожностью. Сначала разминировали подступы к нему, за этим последовал обычный для немцев круговой обстрел леса. Но в ответ не раздалось ни одного выстрела. Казалось, что густой Шишковский лес вымер, только сороки кружились над деревьями и беспокойно выщелкивали свои немудреные назойливые песенки.
Построчив из пулеметов, немцы, наконец, решились подвести к завалу бронетранспортер и начали растаскивать деревья. Сперва батарейцы слышали звук работающего мотора, треск ломающихся сучьев, затем немецкие солдаты, успокоившись, обнаглели, подняли галдеж и принялись действовать в открытую.
Наблюдавший за ними сержант Алексеев, сидевший у пушки, чувствовал себя, как на иголках. Его подзадоривали Луценко и Попов, находившиеся у другой пушки.
— Да якого ж чорта мы дивимось на цю поросячью породу? Бачь, волокут корягу, шоб тоби, сукину сыну, на мину наступить лапою и полететь вверх тормашками. Ну, что ж, товарищ сержант? — молящими глазами посматривая на Алексеева, спрашивал Луценко.
— Нельзя, — шептал Алексеев. — Без приказа комбата нельзя.
— Дай, товарищ сержант. Я с первого снаряда у этой серой черепахи кишки выну, — говорил Попов, потирая от нетерпения руки.
И, в самом деле, для того чтобы стоять у заряженного орудия, видеть перед собой врага и молчать, надо было иметь адскую выдержку и терпение.
Алексеев это хорошо знал, имел достаточную выдержку, но все равно у него сейчас зудели руки и невольно тянулись к пушке. Он то и дело бегал к связистам в их снежное укрытие, где сидел у телефона Ченцов, и докладывал:
— Во весь рост ходят, товарищ комбат. Что мы на них любуемся?
— Иди и наблюдай, сто раз тебе говорить! Скажу, когда будет нужно.
Алексеев пробирался обратно к пушкам и молча садился за щит. По лицу его все догадывались, что стрелять не разрешено, но все-таки надоедливо лезли с расспросами:
— Ну, как?
— Идите к шутам! Надоело. Сто раз вам говорить, да? Суетятся, пристают, а потом промажут. Я вам промажу! Я вам так промажу, — до самого Берлина будете ехать, не забудете. Марш по местам! Когда будет нужно, дам команду. Да не выглядывать из укрытий, а то пулю проглотишь, — ворчал Алексеев.
К полудню с большим трудом немцам удалось сделать в завале небольшой проход. Затем, вновь начали методически обстреливать подступы ко второму завалу с намерением взорвать мины и выявить огневые точки русских. Убедившись, что просека не заминирована, они решили пустить для разведывательных целей около сорока автоматчиков.
Орава подвыпивших молодчиков, строча на ходу из автоматов, двинулась вдоль просеки.
Командир эскадрона Сергей Орлов и Чепцов немедленно донесли об этом Осипову. Второй взвод эскадрона Орлова находился за завалом, два других расположились вдоль просеки и, выдвинувшись правым флангом почти к центру завала, прикрывали батарею Ченцова. Таким образом, оборонявшийся эскадрон изображал собой уступ влево в виде буквы «Г». Впустив автоматчиков в глубь просеки, Орлов имел полную возможность истребить их продольнолобовым огнем второго взвода, а также фланговым огнем первого и третьего взводов, имевших в распоряжении, кроме батареи Ченцова, восемь пулеметов и до тридцати автоматчиков. С левого фланга его мог поддержать хорошо укрепившийся эскадрон Биктяшева. Однако Осипов отдал неожиданное распоряжение: второй взвод от завала отвести и впустить туда немецких автоматчиков.
— Да ведь они зайдут в тыл Биктяшеву! — говорил Орлов в трубку.
— А ты об этом не беспокойся. Ты что, на самом деле испугался каких-то сорока пеших автоматчиков? — спокойно говорил Антон Петрович.
Он уже предупредил комиссара и комэска Биктяшева: огня не открывать, ждать его приказа и неотступно наблюдать. Он понял, что, бросив вперед автоматчиков, немцы задумали обычный трюк: ворваться в тыл, наделать шума, поднять панику и демонстрировать окружение. Ему же надо было выманить из укрытия танки и истребить их.
Всегда спокойный и выдержанный, старший лейтенант Орлов наблюдал за противником с волнением, Его сосед Хафиз Биктяшев то и дело подтягивал ремешок каски, ругался на чем свет стоит и звонил в штаб полка.
— У меня на затылке мухи сели, а мне запрещают их спугнуть, — жаловался он начальнику штаба майору Почибуту.
— Сиди и не рыпайся! — отвечал майор и тотчас же переводил разговор на другую тему, спрашивал, не болит ли у комэска голова и не прислать ли ему бутылку вина или порошок пирамидона. Интересовался, хорошо ли он вымылся позавчера в бане и почему он так мелко и неразборчиво пишет донесения, словно блох в строчку сажает.
— Чорт знает что такое! — бранился Хафиз, швыряя трубку. — Я ему дело говорю, а он о пирамидоне и про каких-то блох говорит! — Но тем не менее после разговора он чувствовал себя спокойней и уверенней. Потом снова брал трубку и вызывал соседа Орлова.
— Ну, как, Сережа, а? Я считал, что ты самый первейший друг, а ты мне на затылок блох напустил. Нехорошо, ай-ай, как нехорошо! Эти блохи сидят у меня на шее, как скорпионы. Если ты их жалеешь и не бьешь, то я из них живо дух выпущу. Посмотри, как я их буду атаковать.
— Ты хорошо знаешь характер нашего хозяина? — спрашивал Орлов.
— Отлично, — вздыхал Хафиз, склоняясь над телефоном.
А командир полка сидел в блиндаже с трубкой возле уха, слушал все эти переговоры и не вмешивался ни единым словом, только глуховато откашливался и коротко вздыхал.
Настроение командиров и бойцов его радовало. Все нити предстоящего боя он уже забрал в свои руки, отчетливо понимал и чувствовал замысел противника. Теперь оставалось подчинить дальнейшие события своей собственной воле и управлять ими. Не выпуская из рук трубки, он бросал сосредоточенный взгляд на карту или на склонившегося в конце стола Головятенко, занятого составлением оперативной сводки. В блиндаж то и дело спускались связные и осторожно клали на стол свернутые в трубочку донесения.
— Как добрался? — коротко спросил одного Осипов, развертывая бумагу.
— Хорошо, товарищ полковник, — бодро ответил Вася Громов. Это был совсем молодой паренек, недавно прибывший на фронт добровольцем.
— Ты меня скоро в генералы произведешь? А? В полковники уже зачислил. — Антон Петрович, прищурив глаз, лукаво улыбался.
— Виноват, товарищ подполковник!
— То-то... По снегу полз?
— Полз.
— А почему не отряхнулся?.. Сходи, милый, к оперативному дежурному и скажи, что я велел тебе стакан водки дать.
— Да нет, товарищ полковник, товарищ под... не пью я... — смущенно бормотал Вася.
Присутствующие давились от хохота. Вася Громов водки терпеть не мог и отдавал свою порцию товарищам. А однажды скопил целый литр и принес в подарок командиру полка. Это теперь служило предметом постоянных шуток.
— Да что вы смеетесь? — едва скрывая усмешку, спросил Осипов. — Мы же все с ним делим пополам... даже шинель...
Тут хохот еще больше усилился.
С шинелью у Васи произошла такая история. Назначил его командир эскадрона Биктяшев в штаб посыльным. Дежурный по полку определил его в землянку командира полка и заставил топить железную печь. Вася выполнял свои обязанности очень добросовестно. Бдительно следил за печкой, бегал в штаб, колол дрова. Осипову старательный паренек понравился. Один раз Антон Петрович застал его в страшном смятении и растерянности. При появлении командира полка Вася всегда вскакивал и становился «во-фрунт». Но сейчас он этого не сделал. Лицо его было выпачкано в саже и выражало самую отчаянную растерянность.
— Ты что, милок, кособочишься? — удивленно посматривая на паренька, спросил Осипов.
— Разрешите, товарищ подполковник, в эскадрон отправиться, — совсем подавленно проговорил Вася.
— Зачем?
— Наказание отбывать...
— Какое наказание?
— Наряд. Комэска товарищ Биктяшев, старший лейтенант, дал, — унылым голосом отвечал Вася.
— За что?
— За шинель... — Вася повернулся и показал. Левая пола шинели почти наполовину была сожжена и являла собой очень печальный вид. — Растопил жарко и нечаянно уснул маленько. Комэска мне сказал: «Ты самый первостепенный лентяй, спишь все время, шинель спалил...» и велел откомандироваться в эскадрон на кухню картошку чистить.
Вася докладывал с такой наивностью и искренним огорчением, что Осипову трудно было скрыть улыбку.
— Как же теперь быть-то? Нехорошо ведь получается! — Антон Петрович присел на стул, написал записку и, подавая ее Васе, сказал: — Ступай к моему помощнику, капитану Федосееву, и отдай. А потом вернешься сюда.
Через два часа Вася явился к Осипову в новенькой, ловко пригнанной шинели и готов был броситься подполковнику на шею. С тех пор он был зачислен постоянным связным командира полка.
— Младший лейтенант Братко, проводите Васю... — уже без шуток приказал Осипов своему адъютанту. — Да кстати скажите, чтобы на батарею Ченцова подбросили снарядов, а Орлову — патронов. Кухню туда чтобы не возили. Обед доставить в термосах, без всякого шума и ложечного звона... Лейтенант Головятенко, напишите реляцию на орден Красной Звезды санинструктору Гончаровой. И вообще потребуйте от командиров всех подразделений списки отличившихся.
Голос Осипова прервал сильный гудок зуммера. По телефону звонил комбат Ченцов. Он сообщил, что в конце просеки показались немецкие танки. Осипов так сжал телефонную трубку, что, казалось, намеревался раздавить ее. С хрипотой в голосе, но четко и раздельно приказал:
— Подпустить ближе. Бить наверняка, чтобы не ушел ни один. Как только ошеломишь внезапностью, Орлов будет атаковать пехоту. Спокойно, спокойно, милый. Я держу резерв, в случае нужды помогу. Ну, в добрый час, в добрый час! Все будет хорошо.
Внушительная и крепкая уверенность командира полка подбодрила Ченцова, как самая живительная дружеская ласка. Ченцов был храбр и смел, никогда не терялся. Любил риск, но увлекался боем расчетливо, с неподражаемой виртуозностью. К этому приучил и своих артиллеристов. Полуторакилометровую просеку он измерил до последнего вершка и со скрупулезной точностью высчитал ориентирные данные.
В конце просеки, из завала, вымазанный какой-то серой краской показался тяжелый танк, за ним второй, средней величины, третьим выполз бронетранспортер. Он, как и башни танков, был облеплен автоматчиками.
Передняя машина, тяжело переваливаясь на неровностях, громыхая гусеницами и покачивая длинным хоботом орудия, медленно приближалась. Над лобовой амбразурой отчетливо вырисовывался череп со скрещенными костями.
— Ну!.. — посматривая на комбата блестящими глазами, придушенно крикнул Алексеев.
Ченцов, нажимая плечом на кудрявую пышную елку, то плавно поднимал, то опускал руку, словно собираясь дирижировать оркестром:
— Подожди, подожди...
На середине просеки, обходя торчащие пни, тяжелый танк уклонился вправо, подставляя левый бок в полный профиль.
— По первому основному... — протяжно заговорил Ченцов. — Угломер двадцать-десять... бронебойно-зажигательным, огонь!
Танк дрогнул, сверкнув ослепительной вспышкой, высоко подбросил исковерканную башню. Затем раздался оглушительный грохот, и все окуталось черным дымом. Удачно посланный снаряд взорвал весь комплект находившихся в машине боеприпасов вместе с сидевшими вокруг башни автоматчиками.
Немцы, ехавшие на других машинах, беспорядочно спрыгивали в снег и тут же падали под пулеметным огнем Сергея Орлова. Последующими выстрелами был уничтожен второй танк и изуродован бронетранспортер. Находившиеся у второго завала автоматчики бросились удирать. Выскочившие из засады кавалеристы расстреливали их из автоматов, кололи штыками и рубили шашками. Разгром был полный. Подоспевшие разведчики Кушнарева — Торба, Павлюк и Буслов — повели в штаб несколько десятков пленных.
— Эскадрону Орлова занять старый рубеж обороны, — командовал Антон Петрович. — Пушки скрытно передвинуть вперед на старые позиции, быстро. Людей кормить! Поздравляю с наградами! Мне немедленно доставить сведения о потерях и пленных.
Настроение командира полка было приподнятое, бодрое. Рогозин и Ковалев также успешно отбили все атаки.
— Хорошо! — произнес Антон Петрович. Короткое это слово прозвучало итогом напряженных дневных событий.
Сведения о неудавшихся атаках генерал Штрумф получил от своего штаба в тот же час.
«Изучение оперативных сведений, — писал Рихарт своим четким убористым почерком, — позволяет сделать весьма неприятные выводы, а именно: малое понимание командирами отдельных частей тактики лесного боя. Подвижные, выбрасываемые вперед группы автоматчиков, как это было в Белоруссии и в районе города Смоленска, не дают положительных результатов, а, наоборот, полностью истребляются противником. Узкие лесные просеки ограничивают свободный маневр танковых подразделений и позволяют противнику сдерживать продвижение малым количеством полевых орудий. Спешенная русская конница обороняется успешно, даже при отсутствии танковых частей и самоходной артиллерии...»
Изложив в общих чертах создавшуюся обстановку, генерал Рихарт предлагал немедленно усилить группу «Клоппенбург» и прорываться в направлении Данилково (левый фланг полка Бойкова). В других местах демонстрировать атаки, сковывая русских массированными артиллерийскими налетами. План этот был принят, и немцы начали его осуществлять.
После короткой, но сильной артподготовки два батальона германской пехоты, подкрепленные танками, навалились на левый фланг бойковского полка и начали его теснить.
...После боя Ковалев прилег отдохнуть. На рассвете его разбудил командир эскадрона лейтенант Рогозин и сообщил, что полк Бойкова начинает отходить.
— С час тому назад там началась стрельба, — рассказывал Рогозин. — Я послал связного, он вернулся и говорит: «Отступают». Доложил командиру полка, он приказал оставаться на месте и приготовиться к бою.
— Чего же ты сразу не разбудил! — Ковалев подхватил автомат и застегнул крючки полушубка: спал он одетым.
— Жалко было! Спал больно хорошо. Туда пошел с взводом политрук Молостов. Связи с Войковым уже нет.
— Эх, голова! — Валентин бросился к телефону и приказал подводить к орудиям лошадей. Сам же с четырьмя автоматчиками на конях поскакал в направлении соседнего эскадрона.
Там во всю мощь грохотала машина боя. Немного не доехав, Валентин спешился, оставил коней в густом ельнике и с тремя батарейцами спустился в лощинку.
По руслу небольшой речушки, нагибаясь и прячась в кустарнике, гуськом уходили разрозненные группы бойцов. По ту сторону на окраине села ярко пылал сарай. Неподалеку виднелась брошенная пушка, около нее на снегу лежали убитые, очевидно, бойцы расчета.
Вдоль речушки со зловещим свистом один за другим пролетали снаряды.
— Стой! — крикнул Ковалев отступающим казакам Бойкова.
Бойцы остановились. Их было человек шесть. Пробираясь по кустам, подходили новые. Некоторые из них были ранены.
— Где командир? — спросил Ковалев, подходя ближе.
— Не знаем. Убили, говорят... — неуверенно, вразнобой ответило несколько голосов. По звуку выстрелов Валентин понял, что впереди еще шел бой.
— А ну, заворачивай назад и занимай оборону, — приказал Ковалев.
— Куда заворачивать-то?.. Вон они, танки... — сказал чернявый круглолицый паренек в разорванном на плече полушубке.
Хотя танков не было видно, а только доносился из деревни рокот моторов, Ковалев понял, что если сейчас не поставить здесь заслона, то другие эскадроны его полка вместе с батареей будут отрезаны.
— Стакопа! — крикнул Валентин одному из сопровождавших его автоматчиков. — Быстро, аллюр два креста, кати сюда пушку.
— Есть катить пушку!
Низкорослый, плечистый, с рыжим залихватским чубом Стакопа, круто повернувшись, побежал к оставленным в ельнике лошадям.
Командный окрик Ковалева и бодрый ответ Стакопы подействовали на бойцов отрезвляюще. Они посматривали на незнакомого командира с неловкой подавленностью и некоторым затаенным любопытством.
— А кто вы такой будете? — спросил чернявый.
— Комиссар батареи. А твоя как фамилия? — в свою очередь спросил Ковалев, сдерживая бешенство.
— Борщев, а что? — ответил чернявый.
— Ты, Борщев, будешь за командира. — Ковалев уставился на него острыми неморгающими глазами и решительно продолжал: — Назначаю тебя командиром. Быстро занимай оборону. Вот здесь, в кустах, — Валентин показал место.
— Подмога, что ль, придет? — спросил Борщев.
— А как же ты думал?
— Да я ничего... Айда, ребята, располагайся...
Бойцы, переваливаясь в снегу, повернулись и, немного отойдя, заняли на ближайшей высотке позицию. Для выявления обстановки Ковалев послал несколько человек вперед. Вскоре они вернулись вместе с политруком Молостовым. Он тоже завернул человек тридцать и положил неподалеку в оборону.
— Что же здесь, Гриша, творится? — подходя к нему, спросил Ковалев.
— Не выдержали. Командира эскадрона ранило. Политрук убит. И все полетело к чорту. Я нашел командира взвода, кое-как собрал людей... На тот конец деревни ворвались танки, больше десятка. Да вот, гляди!
Из кустов было видно, как по деревне, стреляя из крупнокалиберного пулемета, прошла тупорылая танкетка и завернула в ближайший проулок. Сквозь выстрелы и шум мотора доносились крики гитлеровцев.
Разбрасывая хлопья снега, тяжелые артиллерийские кони, похрапывая, подвезли противотанковую пушку. Батарейцы ловко и слаженно развернулись на узенькой лесной дорожке и моментально сняли орудие с передков.
Ковалев подал команду. Вынырнувшая из проулка немецкая танкетка завертелась волчком и, ломая плетень, осела набок. После двух других снарядов она загорелась. Остальные танки попятились и укрылись за дома на западной окраине деревни. Натолкнувшись на сопротивление, немцы замолчали.
Ковалев и Молостов решили соединить обе группы, окопаться, подтянуть из первого эскадрона взвод своих людей, вытащить брошенную пушку и встретить гитлеровцев но-настоящему, а дальнейшее будет зависеть от приказа командира полка. Надо было действовать быстро и решительно.
— Борщев, ко мне! — приказал Ковалев.
— Есть! — Борщев нехотя приподнялся, заложив ладони в рукава полушубка, с болтающейся на плече винтовкой, рысцой подбежал к Ковалеву.
Валентин знал, что применение властного и повелительного окрика не всегда достигает цели. Иногда это вредно действует на психику, озлобляет человека, толкает его на гибельный шаг; в другом случае внушает страх и выбивает из нормальной колеи. Спокойствие, волевая, суровая выдержка действуют лучше.
— Товарищ Борщев, у вас замерзли руки. Очень жалею, что вы потеряли свои рукавицы, — слова были неожиданны, как выстрел над ухом.
— Обронил... — Борщев опустил руки по швам и, виновато отведя глаза в сторону, прятал подбородок в воротник полушубка.
— Ты вообще-то храбрый или так себе? — спросил Ковалев.
Бойца от такого вопроса покоробило.
— Не знаю... как и все... — ответил он неопределенно, мрачно посматривая на носок сапога.
— То-есть как это «все»? Как и мои пушкари?
Борщев подавленно молчал.
— Ты чего дрожишь?
— Озяб, холодно...
— Пробежаться надо, — с въедливой настойчивостью проговорил Ковалев. — Видишь, на берегу сарай горит?
Ковалев показал на него. Сарай находился за рекой, на расстоянии трехсот метров. Неподалеку стояла брошенная пушка. В стороне горела подбитая танкетка.
— Беги к этому костру, обогрейся, кстати на пушку взгляни. Если она исправна, подними винтовку прикладом вверх и жди. Мы подадим туда передки. Если она повреждена, погрейся — и назад. Понял?
— Понял... Но там, товарищ комиссар... — заговорил было Борщев, но Ковалев его прервал тихим, но безоговорочным повелением:
— Бегом марш!
Очевидно, страх не мог убить в человеке представление о дисциплине. Борщев, нахлобучив на глаза ушанку, неуклюже повернулся и, спотыкаясь, побежал к речке. Бойцы, слышавшие и видевшие все это, настороженно покосились на комиссара и с застывшим на лице напряжением стали наблюдать за Борщевым. Он уже пробежал мостик и торопливым шагом поднимался на бугор. Пока еще он находился в мертвом пространстве, и пули его не доставали.
— Стакопа, приготовить орудие, — спокойно приказал Ковалев, хотя на душе у него скребли кошки. Он ясно отдавал себе отчет в том, что Борщева могут убить, а его, Ковалева, могут обвинить в преднамеренной жестокости, не уяснив того, что спасение пушки — это спасение сотен людей.
— Человек, значит, дешевле пушки... — послышался чей-то хриповатый голос.
Ковалев не знал, кому принадлежит эта реплика. Его подмывало оглянуться, но он удержался и продолжал наблюдать за Борщевым. В душе его все кипело. «Неужели тот, кто сказал это, не понимает, во имя чего я это делаю?» — думал Валентин. Он готов был вскочить на коня, промчаться туда, осмотреть пушку и крикнуть: «Передки, ко мне!» Но вместо этого он подозвал рыжеволосого, всегда веселого Стакопу и приказал держать упряжку наготове, подробно объясняя, как надо брать пушку и снаряды.
Стакопа понимает все с полуслова. Это закаленный, обстрелянный боец. Кубанец, комсомолец, пограничник. Его подобрали раненого во время августовского рейда в лесах Смоленщины. Вылечили и поставили в строй. Он стал образцовым командиром отделения.
Ковалев не без восхищения любуется им; и всегда, когда он слышит четкие слова Стакопы: «Есть, товарищ комиссар!», ему кажется, что никто так не понимает его, как этот исполнительный и верный солдат.
Над головами просвистел снаряд и разорвался где-то в лесу. За деревней клокочет густая пулеметная стрельба, постепенно уходящая на северо-восток.
«Неужели и там отходят?» Но об этом не хочется думать. Политрук Молостов привел остальных людей и ставит им задачу. Он даже не наблюдает за Борщевым. Для него это обыкновенное дело. Он действует не только как политический руководитель, но и как строевой командир. Кадровую службу он провел артиллеристом, а демобилизовавшись, был инструктором Тамбовского обкома партии.
Не дойдя до пушки метров пятидесяти, Борщев почему-то упал на снег. Полежав минуту, он пополз, часто останавливаясь и приподнимая голову. Очевидно, на бугор прилетали шальные пули, так как близкой стрельбы слышно не было. Через несколько минут он добрался до орудия, долго около него копался. Наконец знак был подан. Орудие оказалось исправным.
— Пошел, Стакопа! — Валентин, круто повернувшись, побежал следом за ним. Он задыхался от волнения и радости. Торопил, подбадривал садившихся на коней ездовых.
— На галопе туда и обратно. Если все снаряды не осилите взять, часть оставьте. Быстро, Стакопа, быстро!
Артиллеристы на двух выносах, гремя колесами передков, на рысцах проскочили деревянный настил моста, а дальше галопом помчались на пригорок. Через несколько минут пушка была поставлена на передки, но немцы открыли по окраине сильный артиллерийский огонь. Скат к. речушке закипел черными взбросами земли и окутался клубящимся дымом.
Ковалев увидел, как конь левой пристяжки переднего выноса повалился в снег. Около него копошились ездовые, очевидно, отстегивали постромки. Повернувшись к своему орудийному расчету, он приказал открыть по деревне огонь.
Казалось, чт
— Ваше приказание выполнено, товарищ комиссар. Обогрелся...
— Сильно царапнуло? — спросил Ковалев, помогая ему слезть с пушки.
Санитаров поблизости не оказалось, и Ковалев начал сам перевязывать его.
— Да не знаю... Пальцы вроде как шевелятся — значит, не очень. Там наши батарейцы, — Борщев сморщился и часто заморгал глазами... — Побитые... Клименко, Печников... Беляев. Земляки мои... Ох!.. — Борщев трудно вздохнул и покачал головой. Так он сидел с полминуты, затем, вскинув на комиссара зеленоватые глаза, продолжал: — Мы, товарищ комиссар, ей-богу, не виноваты!.. Командиров убило. А тут немецкие танки подошли... Неразбериха пошла... Нет, виноваты! — вдруг сказал он твердым, изменившимся голосом. — Виноваты! А трус я или нет, вы сами видели.
— Не могу этого сказать... — неопределенно ответил Ковалев, начиная понимать этого неуравновешенного и горячего парня.
— Нет! Я самый настоящий трус, товарищ комиссар. Мои земляки дрались, как герои, а я их бросил. Они погибли. Конечно, вы вправе считать, что я подлый трус!
— А ты сам как считаешь?
— Знаете, что я вам скажу, товарищ комиссар. Я работал на ипподроме жокеем. Объезжал самых непокорных лошадей, считал, что у меня «железный характер», и все это оказалось вздором. На деле вышло, что я боюсь смерти больше, чем другие... Э-эх! Противен сам себе.
Он помолчал.
— А признаться по совести, вы меня здорово в шенкеля взяли. Я ведь все сделал не от страха, что вы накажете, а от стыда. Слушайте, товарищ комиссар, возьмите меня к себе ездовым.
— А рана?
— Пустяки, вы ведь сами говорите, что не опасная. Возьмите, я вам докажу, что я не трус. Самых диких объезжал!
— Война — это не ипподром. А по чести сказать, не взял бы я вас. Не нужны вы мне... — Но на самом деле Ковалеву этот человек начинал положительно нравиться. Однако он и виду не показал. Спокойно докончив перевязку, он добавил: — Философией заниматься сейчас некогда! Видите, начинают шевелиться.
Немцы снова повели интенсивный обстрел. Ковалев, установив пушки на позиции, пока не отвечал.
Было одиннадцать часов утра. День выдался облачный. Над лесом шапкой нависла морозная туманная мгла, мешавшая полетам бомбардировщиков. Ковалев протянул от первого эскадрона связь и доложил командиру полка обстановку. Осипов уже все знал. Он похвалил Ковалева за сообразительность и приказал беречь снаряды. На вопросы Ковалева он отвечал коротко и явно чего-то недоговаривал.
К двенадцати снова показались немецкие танки, и опять они были отбиты. Озлобленный неудачей, противник начал забрасывать обороняющуюся группу массой снарядов. Неожиданно Осипов отдал приказание отходить в глубь леса.
Навстречу Ковалеву и Молостову выехал лейтенант Головятенко с приказом и схемой для занятия круговой обороны. Вести были самые неутешительные. Связь с находящимся в Сычах штабом оборвалась. Немецкие танки, прорвав оборону полка Бойкова, заняли Петропавловское. Немцы потеснили эскадроны Орлова и Биктяшева и захватили оба завала. Таким образом, полк Осипова был рассечен пополам и два эскадрона вместе с батареей и командным пунктом оказались запертыми в Шишковском лесу.
На новом командном пункте первого эскадрона Ковалев встретил нескольких партизан во главе со своим тестем Никитой Дмитриевичем. Он был изумлен, когда на куче разных узлов рядом с Ефимкой увидел Зину. Ведь она должна была вылететь на задание. Здесь же, укутанная в теплую шаль, восседала Пелагея Дмитриевна. Ефимка, увидев Валентина, бросилась к нему.
— Что же теперь будет-то, зятек? Знаем, все знаем, — ворчала мать. — А ты меня в бок-то не пихай, — обернувшись к Зине, сказала она. — Ах, бессовестные, ах, негодники! Чего же это удумали, без родительского благословения...
— Да перестань ты! Вот ведь какая оказия! — вступился Никита Дмитриевич, поправляя на плече берданку. — Ты не слушай ее, комиссар... — Он хотел было назвать зятя по-семейному, но не решился. — Она у нас известная командирша!
Старик что-то не договорил, схватил лопату и побежал рыть землянку.
— Ох, вояка! Нешто он мне не зять? Зять! Хоть и скоропалительный, а зять. Что хочу с ним, то и сделаю. На то я и теща!..
Ковалев растерянно улыбнулся.
— От попа да тещи не спрячешься и в роще... Так вот, дорогой зятенька, — продолжала Пелагея Дмитриевна. — Прибыли на твое иждивение и жену тебе доставили. Принимай.
— Милости просим, мамаша. Располагайтесь, как дома... У нас просторно под каждой елочкой. Но как вы здесь очутились? Почему не уехали в Покровское? А ты почему не улетела? — обращаясь к Зине, спрашивал Валентин...
— Погода, видишь, какая... Мы только проснулись, а танки уже в деревне, в окна из пулеметов бьют. Едва успели схватить кой-какие узлы, да через огороды — и в лес... Как все это случилось, я, Валечка, ничего не понимаю. — Зина подняла на него тревожно блестевшие глаза.
— Пока трудно сказать. Обыкновенная на войне история. Во всяком случае, ничего страшного.
— Как же, милый, ничего страшного? В деревне немцы, кругом немцы... — Взгляд Пелагеи Дмитриевны выражал болезненное напряжение, на лбу резко углубились морщины. Она хоть и старалась внешне прибодриться, но видно было, как она растерялась.
В ее сознании все перепуталось и перемешалось. Вся налаженная и привычная жизнь полетела кувырком. Дочь неожиданно оказалась замужем и должна была куда-то лететь. Две других находились бог знает где. Сама она бросила все свое хозяйство на произвол судьбы и неизвестно каким путем очутилась в лесу. Кругом стреляли пушки, а люди в касках ходили как ни в чем не бывало, валили лес, рыли окопы, о чем-то спорили, бранились, грызли сухари и даже смеялись. Пришел какой-то широкоплечий командир в бурке. За ним — целая толпа других, опутанных ремнями, с револьверами. У каждого в руках была карта.
Валентин вскочил и побежал туда. Он встал перед прибывшим командиром в струнку и козырнул. Тот протянул ему руку и улыбнулся.
— Кто это? Самый главный, что ли? — спросила Пелагея Дмитриевна у Зины.
— Командир полка, подполковник Осипов.
Зина как-то приходила в Сычи к Русаковой. Там она познакомилась с Осиповым. Да и Валентин немало рассказывал о нем.
— Наверное, очень хороший, — гляди, руку подал, смеется.
— Очень хороший, мама, — подтвердила Зина. — Знаешь, у него жену и сына фашисты расстреляли. Одна дочка осталась, безногая. Бомбой оторвало...
— Господи! — Пелагея Дмитриевна тяжело вздохнула. — Как же это, и детей? Изверги проклятые...
— А ты думаешь, тебя бы они помиловали? Три дочери комсомолки, четвертая пионерка, а муж — член партии...
— Я — другая статья... А детишки-то, детишки-то тут при чем?
— Да ведь ты сама сказала, что изверги. Разве фашисты могут быть иными?
— А как зовут эту девочку? — спросила Ефимка. Она как-то сразу переменилась, притихла, повзрослела и смотрела на окружающих с встревоженным любопытством. Для нее открывался новый, совершенно необыкновенный мир, страшный, неведомый, но, должно быть, очень интересный.
Пелагею Дмитриевну сообщение Зины ошеломило. Она негодовала, и вместе с тем странное и непонятное успокоение овладевало ею. Сообщение о несчастье других людей поглощало собственную беду и делало ее менее значительной.
— Зиночка, миленькая, узнай, пожалуйста, как ее зовут. Мы письмо напишем. Обязательно напишем.
В густом лесу было темно, сыро и холодно. Над деревьями повисло сумрачное и неприветливое небо. Под елками ютились еще несколько семей. Это были местные жители.
Валентин Ковалев прошел по тылам противника Белоруссию, Смоленскую область, Калининскую, Московскую и всюду наблюдал одну и ту же картину народного бедствия. Под дождем, под снегом, в лютую стужу в лесах жили тысячи советских семей. Они собирали по ночам с собственных огородов мерзлую картошку, голодали, но не сдавались.
Антон Петрович собрал к себе в блиндаж всех командиров. Голос его звучал уверенно и громко:
— Блиндажи рыть глубже, накаты делать толще. Заставляйте людей работать, не жалейте, что они устали. Будете жалеть — погубите. Точки располагайте реже: меньшая будет поражаемость от артиллерии. Подпускать фашистов на верный выстрел. Не бойтесь близости. На случай прорыва я буду держать резерв.
Он закурил. На минуту в блиндаже наступила тишина.
— Дисциплину поддерживать строжайшую, но без нервозных тиков-криков. Командирам выбрать такое место, чтобы не только слышать бой, но и видеть его и иметь возможность во-время предотвращать всякие неожиданности. Связь держать, как вожжи в руках. Донесения присылать безо всяких панических подробностей. Людей всячески ободрять и внушить им, что Доватор и комдив нас непременно выручат. Там остался комиссар, у него в резерве эскадрон Шевчука, а у комдива полк Жмякина.
Осипов глубоко затянулся и прошелся по блиндажу из конца в конец.
— Раненых всех поместить в надежное укрытие. Я просил комиссара любым путем перебросить фельдшеров, врача и медикаменты. Помните, что эти люди пролили свою кровь за родину и теперь беспомощны. Если кто-нибудь посмеет оставить раненого без внимания, того буду строго наказывать. Население, ушедшее от немцев, тоже надо всячески оберегать и поддерживать... Бой в окружении мы принимаем не впервые. Опыт у нас уже есть, вспомните наш августовский рейд! Я убежден, что люди моего полка не потеряют заслуженной тяжким трудом и кровью наших товарищей славы. Товарищи командиры, коммунисты и беспартийные большевики! Я не требую от вас никакой клятвы, потому что убежден, что вы останетесь верными священной присяге.
— Выполним, товарищ подполковник!
Лейтенант Рогозин встал и рубанул ладонью воздух.
— Выполним! Спасибо за доверие. Я так считаю, и характер у меня такой, — если мне с полным доверием поручили дело, жизни не пожалею, а сделаю. Можете надеяться, товарищ подполковник!
Настроение у всех командиров было уверенное, бодрое. Никто не сомневался, что Доватор поможет им выйти из тяжелого положения. Однако, несмотря на это, Осипов почти всю ночь не спал. Не оттого, что его путало окружение, недостаток боеприпасов и пищи. Фашистов он вообще не боялся. Он их ненавидел люто, страшно. Даже во сне его мозг перерабатывал многочисленные планы, как он должен воевать и ставить врага в самые невыгодные положения. Он уже не кидался, как это было в рейде, в безрассудный риск. Теперь он действовал продуманно, хитро, но смело и дерзко...
На Ржевском большаке его полку было приказано занять оборону по обочинам широкой рокады. По сведениям оперативной армейской сводки, немцы находились в двадцати пяти километрах; однако высланные Осиповым конные разъезды донесли, что немцы на двадцати трех машинах с четырьмя танками во главе движутся в село Толстиково без всякого боевого охранения.
Обнаглевшие гитлеровцы спешным порядком двигались на Москву. Плевать им было на всякие головные дозоры. Они врывались в смоленские деревни, до обалдения накаливали печи, резали скот и птицу, обжирались. Потом раздевались донага и, выбив насекомых, валились спать.
Передовой отряд немцев численностью до четырехсот человек на двадцати трех автомашинах занял село Толстиково и расположился на ночлег. Через час во всех избах задымили трубы, и началась стрельба по свиньям и курам.
Полк Осипова, накануне перековав коней на зимние подковы, находился от Толстикова в пятнадцати километрах. Впереди лежала «ничейная» земля, на которой бывалые казаки, разведчики Осипова, считали себя полными хозяевами. Охрана немцев была до крайности небрежной.
Осипов имел приказ командира дивизии: «В бой вступать только в исключительных случаях». Но упустить такой момент!.. Это было не в характере Антона Петровича.
Темной октябрьской ночью он подтянул к деревне восемь пушек, столько же пулеметных тачанок и около тридцати ручных пулеметов. На заре полк напал на фашистов с трех сторон, а с четвертой немцев встретили два эскадрона на свежих, только что подкованных конях. Рубка была жаркая. От всего немецкого гарнизона уцелели единицы. Немецкого капитана, недурно говорившего по-русски, Осипов взял в плен. Он привез его в штаб, заперся с ним и потребовал подать бутылку коньяку. О чем он беседовал с немецким капитаном, осталось неизвестным.
Гитлеровский офицер вышел оттуда бледный, как мертвец, подавленно повторяя одно слово: «Стыд... стыд...». Ночью он перерезал себе вену оконным стеклом. Часовой это заметил. Осипов вызвал врача. Жизнь немца спасли. На другой день Антон Петрович отослал его к командиру дивизии с запиской: «Поговорите с ним о совести: очень интересный экземпляр».
В другой раз, также находясь в арьергарде, Осипов подпустил вплотную колонну автомашин и разгромил ее до основания. Машины он приказал стащить в одну кучу и поджечь. Потери гитлеровцев были весьма значительными.
Доватор сначала не поверил этим сведениям, но командиры штаба подтвердили их достоверность.
...Отправив связиста Голенищева в штаб за рацией, Осипов прилег отдохнуть. Ворочаясь с боку на бок, Антон Петрович терзался воспоминаниями. В его воображении вставали живые картины недавнего прошлого: начало войны, семья, смерть жены и детей, недавняя гибель Маши. Отчаянный крик Елены Васильевны отдавался, в сердце Антона Петровича жгучей болью. Не хотелось думать об этом, а мысли лезли в голову навязчиво и угнетающе.
Не спал в Сычах и комиссар Абашев. Он сидел за столом. Напротив него — майор Почибут. Перед ними стояли комсорг Сергей Бодров и связной Осипова Вася Громов. Он привез очередную сводку, но, когда поехал обратно, потерял коня и вернулся.
— Значит, тебя обстреляли неожиданно? — спрашивал Абашев.
— Только на просеку выехал — трах-трах, и давай строчить. Конь упал... Я назад...
— Иди сейчас к связистам. Оттуда радист Голенищев пойдет. Может быть, вместе пройдете. А если нет, быстро возвращайтесь обратно, — приказал Абашев.
Громов, повторив приказание, вышел.
— Тебе, Бодров, придется пробиваться с группой медработников. Задача — помочь раненым.
Абашев на минуту задумался. Все шло вначале хорошо. Отбили все атаки, и вдруг подвел сосед. Остро шевельнулась досада.
— Вы, начальник штаба, объяснили товарищу Бодрову задачу, сказали, когда выступать? — спросил он у майора.
— Так точно. В четыре ноль-ноль, — лаконично ответил Почибут.
На его губах играла неизменно спокойная, подкупающая своей добротой улыбка. Казалось, ничто в жизни не может удивить, расстроить и вывести из терпения начальника штаба.
Все, что случается на войне, ему давно уже было известно, так же, как и все винтики сложной штабной машины, которые он отлично регулировал и заставлял работать с предельной точностью. А винтики эти начинались с войсковой разведки и кончались лошадиными подковами и пушками на переднем крае. Все проходило через голову этого невозмутимого, исполнительного, кристально-честного и справедливого человека.
«Честное слово, когда майору придется умирать, — думал про него Абашев, — он, наверно, ляжет в гроб, приоткроет крышку и скажет: «Пока до свиданья, голубчики. Не забудьте в восемнадцать ноль-ноль послать оперсводку».
— В четыре ноль... — что-то взвешивая в уме, повторил Абашев. — Хорошо. Так вот, Бодров, ты должен пробиться к командиру полка любым путем. Разумеется, самым хитрым путем. Действуй так, как тебе приказал майор Почибут. Надо помочь раненым и доставить взрыватели. Все.
— Разрешите итти? — спросил Бодров, ловко и отчетливо козыряя.
— Да, — разрешил комиссар.
Бодров вышел.
— Почему же все-таки штаб дивизии не разрешает помочь Антону Петровичу своими средствами, хотя бы четвертым эскадроном? — спросил Абашев у начштаба. — Мы можем пробить брешь и вывести Осипова с людьми. Ведь там почти вся батарея. Разве можно бросить на произвол судьбы четыреста человек вместе с командиром полка!
Вошла Русакова. На ее побледневшем лице было выражение тоскующего недоумения. Взглянув на замолчавшего, взволнованного комиссара, она тотчас же быстро вышла. За кухонным столом, что-то мурлыкая себе под нос, сидел над книжкой Петя.
— Я вам нужен, Елена Васильевна? — подойдя к двери, спросил Абашев.
— Нет, нет... Благодарю... Я так просто, — послышался извиняющийся голос Русаковой.
Абашев вернулся к столу.
— Ты знаешь, как она переживает, — продолжал он. — А теперь будет страдать вдвойне. Услышала... Лучше уж на передовой быть, чем за женщинами ухаживать. Ну, что думает штаб дивизии?
— Штаб дивизии не позволяет оголять левый фланг. Там скапливаются войска противника. Если бы даже и нашелся выход, комдив категорически запрещает Осипову покидать Шишковский лес. Иначе немцы могут вырваться на Волоколамскую магистраль.
Почибут четко, по-военному, с исчерпывающей ясностью изложил создавшуюся обстановку. Она была неутешительной. Немцы маневрировали превосходящей силой танков, артиллерией и авиацией.
— Да, это верно, — согласился Абашев и в десятый раз спросил: — Но все-таки будут они что-нибудь предпринимать?
— Говорят, будут. Этим занимаются лично генерал Доватор и комдив Атланов.
— Доватор? В самом деле?
— Да.
— Ну, что ж... Ему можно верить. Он сделает все возможное. Будем ждать. Иди, капитан, отдыхай. Дел нам предстоит много.
Почибут собрал карты и, попрощавшись, удалился.
Едва начальник штаба, прозвенев шпорами, спустился с крыльца, к комиссару, постучавшись, снова вошла Русакова.
Машу похоронили два дня тому назад. Коновод командира полка и повар Саша сколотили гроб, обтянули его красной материей. В похоронах приняло участие все население, бойцы и командиры.
— Мы никогда не простим фашистам смерти наших детей! — говорил Абашев, стоя над могилой. — Врагов ожидает справедливое возмездие. Мы клянемся в этом!
На непокрытую голову Абашева и воротник его белого полушубка падали крупные хлопья снега.
Казаки саперными лопатками засыпали могилку. Русакова, сжав обеими руками голову, только стонала, но не плакала.
Сейчас Абашев смотрел на ее худое, измученное лицо и не узнавал его. Перед ним стояла суровая, но странно и неожиданно помолодевшая женщина. Нервное движение рук и дрожь голоса говорили о тяготеющем над нею горе.
— Вы будете ужинать, Михаил Николаевич? — спросила она тихим голосом и, не дожидаясь ответа, тихо добавила: — Я хотела вареного мяса Антону Петровичу послать, можно?
— Можно было бы и послать. Я из виду упустил... — Абашев искоса взглянул на Русакову и заметил, что она не спускает с него пытливых, тревожных глаз. Комиссар понял, что в жизни этой женщины прибавилась еще одна мучительная тревога. Она чувствовала и догадывалась о случившемся с Осиповым и страдала. Абашев видел это,
— Проберутся туда разведчики, как вы думаете?
Плотно сжав губы, Елена Васильевна с глубоким напряжением ждала ответа.
— Пока ничего страшного нет. На войне это часто бывает. Давайте-ка лучше вместе ужинать, Елена Васильевна, — весело проговорил Абашев, стараясь перевести разговор на другую тему. Он знал, что никакие слова утешения сейчас не помогут. Да и у него самого на душе было тревожно и тяжело.
За окном, в морозной ночи послышались шаги. Напустив в комнату холода, вошел посыльный и передал вызов в штаб дивизии.
Комдив генерал-майор Атланов в накинутой на плечи бурке сидел за столом, перечитывая донесения. Он делал на карте отметки и словно не замечал стоявшего перед ним полковника Бойкова.
Высокий и бравый Бойков с чувством досады мял в руках кожаные перчатки и ждал приглашения сесть. Вот уже несколько минут комдив держит полковника на ногах, как провинившегося школьника. Зная Атланова, Бойков понимал, что, просматривая донесения, комдив обдумывает сейчас решение, как поступить с ним, с полковником Войковым, полк которого отброшен с занимаемых позиций, и тем самым поставлены в катастрофическое положение другие части.
Виноват ли в этом он, полковник Бойков?
Его полк не выдержал внезапного удара немецких танков и в беспорядке отошел. Полк Осипова почти целиком попал в окружение. Левый фланг дивизии генерала Панфилова загнулся фронтом на юг. Там идет сейчас ожесточенный бой. Если панфиловцы не выдержат, то немцы расчленят армию пополам, перережут Волоколамское шоссе и войдут в тыл всей армии.
— Мне ничего не остается делать... — после длительного молчания жестко говорит, наконец, комдив, — кроме одного, — предать тебя военному трибуналу. А я-то ценил, уважал, доверял тебе, как самому себе! Понимаешь или нет?
Такой неожиданный переход к делу ошеломил Бойкова, но внешне он остался спокойным. Атланов поднял от карты крупную, лобастую голову и посмотрел на полковника сузившимися от усталости глазами. В них Бойков увидел бередящий душу укор и непримиримую беспощадность.
Хрипло откашлявшись, Бойков почувствовал, что ему нужно сейчас что-то сказать, объяснить, но гневный и возмущенный взгляд командира дивизии совершенно обескуражил его и лишил всех необходимых для объяснения слов.
— Ты ведь не безусый мальчишка, не цыпленок желторотый и не трус. Я это твердо знаю. Как же ты мог допустить? — Атланов потрогал рукой крупный, с горбинкой нос и продолжал: — Ты мне скажешь, что у немцев было превосходство в танках, в авиации, удар был внезапным... Все это мне известно. Но ты знаешь приказ: назад ни шагу! Если не выдержал один эскадрон, загибай фланги, бей с тыла, займи, наконец, круговую оборону и дерись до последнего казака. Да что ты, не знаешь, как действовать?
Бойков устало поглядел на бритую щеку комдива и сумрачно молчал. Напряженно раздумывая, тщетно искал он корень совершенной им ошибки. Ему казалось, что все произошло из-за несущественных, на первый взгляд, мелочей. В момент атаки блиндаж, где помещался узел телефонной связи, разбило снарядом. Управление было потеряно. На третий эскадрон обрушилась лавина немецких танков. Командир эскадрона и политрук погибли. Люди растерянно заметались, а штаб молчал. Последний связной по дороге был убит.
Все цеплялось одно за другое, перемешалось, перепуталось. В результате, отбросив полк Бойкова, немцы заняли Морозово и Петропавловское.
Собрав разрозненные эскадроны, Бойков пытался было контратакой восстановить положение, но успеха не имел. Командиру дивизии все это было известно из оперативной сводки. Два часа тому назад Атланов подкрепил полк Бойкова двумя резервными эскадронами из полка Жмякина. Атаки противника были отбиты, но обстановка осталась напряженной.
Скрипнула дверь. В комнату вошел начальник штаба дивизии подполковник Жаворонков и доложил Атланову, что комиссар Абашев должен сейчас прибыть.
— От Осипова ничего нет? — взглянув на часы, спросил комдив.
— Пока ничего!
Стрелки часов показывали полночь.
Атланов взглянул на Бойкова, медленно поднялся. Свалившаяся с плеч бурка повисла на спинке стула. Подойдя к белевшей в углу печке, комдив прислонился к ней спиной и, скрестив на груди руки, коротко бросил:
— Садись, Бойков.
Поскрипывая ремнями, полковник устало опустился на лавку. Он не ожидал такого жестокого решения со стороны комдива. Его будет судить трибунал? А ведь только неделю назад он получил из рук Атланова второй орден Боевого Красного Знамени.
Бойков глубоко вздохнул и ощутил твердое прикосновение к груди орденов. Ему сразу стало жарко и душно. Опустив голову, он смутно слышал, как командир дивизии отдавал начальнику штаба приказание по разведке, настоятельно требуя непременно доставить «языка».
— Надо добыть свежего пленного, и желательно офицера, но не какого-нибудь вшивого и бестолкового балду. Вчера привели одного, а он хлопает глазами, как баран, и ни черта не смыслит.
Атланов неожиданно умолк.
На улице раздались громкие голоса, четкий топот копыт. У ворот игриво взвизгнул конь. Через минуту в широко раскрытой двери показался Доватор. Вместе с ним приехали военком Шубин и генерал Панфилов. На их папахах серебрился морозный иней. А у Панфилова даже и брови заросли седыми, блестевшими при свете лампы сосульками. Комната сразу наполнилась оживленными голосами и свежим воздухом.
— Мы сегодня, как цыгане, кочуем, — развязывая на груди ремешок бурки, говорил Доватор. — Из штаба армии — к Панфилову. От него прямо сюда. Ты, комдив, поласковей нас встречай. Смотри, каких я тебе гостей привел. Самые дорогие и голодные. Так протряслись дорогой, что чуть коням уши не поотгрызли... Генерал Панфилов каши предлагал, отказались. Торопились... А сейчас за котелок каши я готов полдюжины песен спеть.
— И мы с Панфиловым тоже не отстанем, — улыбнулся Шубин. — Подпоем, Иван Васильевич?
— Специально целый батальон веду генералу Атланову подпевать, — хитро подмигнув Доватору, сказал Панфилов и, обращаясь к Атланову, весело добавил: — А поют так, что фашистские солдаты спать перестали! Да-а!
Панфилов, приподняв подбородок, отогнул от шеи воротник полушубка, поправил на поясе кобуру пистолета и, поглядев на Бойкова, тепло улыбнулся.
Душевное состояние Ивана Васильевича Панфилова было отличное. Его полки не только отбили все атаки противника, но все время серьезно беспокоили врага. Сейчас положение Панфилова было настолько прочным, что он охотно согласился помочь Доватору батальоном пехоты. О неудачах Бойкова он был хорошо осведомлен, но старался не показывать виду.
Бойков почувствовал это и посмотрел на Панфилова благодарными глазами. Пока приехавшие приводили себя в порядок, комдив Атланов отдал какое-то распоряжение начальнику штаба. Тот, откозырнув, поспешно удалился.
Доватор, раздевшись, стоял у зеркала и поправлял на вороте генеральского кителя белоснежный подворотничок. Шубин вполголоса разговаривал с Бойковым. Атланов, взяв Панфилова за локоть, подвел его к столу.
— Посмотри, Иван Васильевич, правильно ли здесь расположены твои полки? — пододвинув карту, спросил Атланов.
Острый выступ прорвавшейся танковой колонны был помечен на карте синим карандашом и почти упирался в Волоколамское шоссе. Красные стрелы панфиловских батальонов были нацелены противнику во фланг. Полоса обороны была обозначена подковками.
Бросив внимательный взгляд на карту, Панфилов одобрительно кивнул головой.
— Клинышек-то надо, Иосиф Александрович, отрубить, — проговорил он после минутного молчания.
— Да, — подтвердил Атланов. — Но мне одному трудно. Всю ночь думал об этом. Сил маловато.
— Поможем. Затем и приехали! — Панфилов, отодвинув рукав полушубка, посмотрел на часы. Уверенно тряхнув головой, он продолжал разговор: — Скоро подойдет батальон моих «песенников». Мы с Доватором все уже согласовали.
В коротких словах Панфилов с удивительной простотой и ясностью изложил план предстоящей операции.
Атланов, понимавший все с полуслова, относился к этому на редкость мужественному человеку с чувством глубокого уважения.
— Отлично! Правильно! — говорил он, бегло набрасывая карандашом схему.
Доватор, присев на лавку рядом с Бойковым, поглаживая колени, слушал его объяснения. Шубин, закинув ногу за ногу, сидел по другую сторону Бойкова.
— Войну сколько ни изучай, а в бою всегда находятся непредвиденные обстоятельства, — взволнованно оправдывался Бойков.
— Надо предвидеть и предугадывать всякие обстоятельства, — возразил Доватор.
— Это верно, — соглашался Бойков. — Я не оправдываюсь, товарищ генерал. И несу полную ответственность за свои действия.
— Безответственных командиров у нас нет, — спокойно заметил Шубин. /
— Не в этом дело, — поднявшись со скамьи, продолжал Доватор. — Ты понял, в чем заключается твоя ошибка?
— Да, понял. Только, к сожалению, поздно. Когда накануне немцы в течение дня непрерывно атаковали полк Осипова, мне надо было сделать короткий встречный удар. Или хотя бы организовать ночную вылазку. Я бы тогда разбил их планы.
— Вздор, — убежденно заключил Доватор. — Опять ошибки, промахи, а потом снова станете ссылаться на обстоятельства...
И, помолчав, задумчиво добавил:
— Когда же, наконец, мы перестанем совершать ошибочки и расплачиваться за них кровью?
В комнату с тарелками и стаканами на подносе вошел ординарец Атланова Охрим. Заметив сердитый взгляд Доватора, он нерешительно остановился.
— Подождите. Это потом, — Лев Михайлович махнул рукой и приказал все унести обратно. Проводив глазами удаляющегося ординарца, он подошел к стоявшим у стола генералам, пододвинул себе стул, кивнул Шубину и Бойкову, приглашая их тоже занять места. Когда все присутствующие сели вокруг стола, он шутливо сказал:
— С вашего позволения, генерал-майор Атланов, я плута Охримку выпроводил. Он, наверно, приготовил целую батарею бутылок и намерен всяким зельем помутить нам мозги. А мне хочется дело сделать и каши поесть.
— Я тоже так разумею, — согласился Панфилов. — Потерпим.
— Добре. Скоро придет батальон панфиловских орлов, — продолжал Лев Михайлович. — Надо их поплотней накормить и дать по чарке. За это время приготовим боевой приказ, а потом можно и самим немного подкрепиться. А теперь, Иосиф Александрович, поделитесь с нами вашими планами и предположениями.
Доватор, навалившись грудью на стол, впился глазами в карту.
Атланов в ожидании начштаба часто бросал взгляды на дверь. Но Доватор нетерпеливо приказал начинать.
Доклад командира дивизии был прерван приходом подполковника Жаворонкова и комиссара Абашева.
Лев Михайлович давно заметил отсутствие начальника штаба дивизии, но промолчал.
Приветливо поздоровавшись с Абашевым, Лев Михайлович усадил его рядом с собой. На Жаворонкова он только взглянул, но ничего не сказал. Это было хуже всякого выговора.
Коротко изложив план предстоящей операции, Атланов просил разрешения немедленно ее осуществить. Обосновывая все детали атаки вескими доводами, Атланов предлагал нанести противнику три одновременных удара. С юго-востока — остатками полка Осипова с приданным батальоном панфиловцев; с востока, в лоб, в направлении Морозово, полком Бойкова; с северо-востока наступление должен поддерживать левофланговый полк дивизии Панфилова. Все детали предстоящего боя были основательно продуманы и взвешены. Однако все чувствовали, что операция предстоит тяжелая.
На участок Петропавловское — Морозово противник подтянул до семидесяти танков и мог в любой момент бросить их в бой. Подкрепить наступление танками штаб армии отказался, но в то же время категорически требовал немедленно любыми средствами ликвидировать прорыв и восстановить прежнее положение. Спешенной кавалерии совместно с батальонами панфиловцев предстояло атаковать бронетанковые части противника. Единственно, что обещал штаб армии, — это подбросить артиллерии, но тоже в очень ограниченном количестве. Когда Доватор, разговаривавший со штабом армии по телефону, сообщил участникам совещания цифру пушек, все переглянулись. Это была до смешного маленькая цифра. Ее даже неудобно было называть, а принимать в расчет и подавно.
— Что-то уж очень мало, Лев Михайлович, — с недоумением спросил Панфилов. — Может, ты ослышался?
— Какое там! Раза три переспросил... Хотел обругаться, да сдержался. Начальник штаба армии со мной разговаривал и сообщил, что этими пушками распоряжается сам командарм и дал их нам только потому, что считает операцию весьма важной...
Панфилов, многозначительно откашлявшись, отрывисто сказал:
— И то хлеб...
— Ну, что ж... — Доватор отвел глаза от карты, секунду помолчал и продолжал: — Сделаем все возможное, но выползти противнику на шоссе не позволим. Постараемся отбросить его назад. У тебя, генерал Панфилов, командиры надежные?
— Мои никогда не подведут, — с твердой убежденностью ответил Иван Васильевич.
— Хорошо! Тебе, Абашев... — Доватор поймал за руку пытавшегося встать Абашева, усадил на место и, сдавливая его локоть, сказал: — Тебе, военком Абашев, придается батальон вот его орлов, — веским кивком головы Лев Михайлович показал на Панфилова. — Это настоящие молодцы! Сегодня я их видел в деле. Богатыри! Армейские пушки тоже тебе. И четыре наших дивизионных. Ты должен выручать своего друга Осипова. А полковнику Бойкову передадим резервные эскадроны...
— Бойков мною отстранен от командования полком, — проговорил Атланов. — Я не успел вам доложить, товарищ генерал.
Иосиф Александрович сутуло согнул широкие костлявые плечи, словно на них легла непомерная тяжесть. Он любил Бойкова за его смелость, кавалерийскую удаль, горячий темперамент и острый ум, и ему тяжело было выговорить это. Но Атланов характером был крут и от своих слов и приказаний отступать не умел.
Все примолкли, ожидая, что скажет Доватор.
Лев Михайлович понял это и, сузив остро поблескивающие глаза, сурово нахмурился, зная, что от его решения зависит не только человеческая жизнь, но и судьба многих людей. Доватор чувствовал, что сидящие здесь люди уважают его, верят в его полководческий талант, но и ценят авторитет командира дивизии, который непосредственно подчинен ему, генералу Доватору, и ответственен за свои действия не только перед ним, но и перед родиной, перед партией.
— Да! Это замечание существенное. Командир дивизии прав. Полковник Бойков совершил ошибку, — начал Доватор с суровой властностью в голосе. — Может быть, даже и не ошибку, а преступление, за которое следует жестоко наказать.
Панфилов, крякнув, потянулся за папиросой. Комиссар Шубин, покосившись на ордена Бойкова, опустил голову. Атланов попрежнему сутулился и ни на кого не глядел. Бойков широко открытыми глазами, не моргая, смотрел на Доватора. Абашев что-то чертил на листке бумаги. Только начальник штаба дивизии подполковник Жаворонков, неторопливо порывшись в полевой сумке, извлек пачку бумаг и, взяв нужную, запросто сказал:
— За такую ошибку, что совершил полковник Бойков, нельзя, товарищ генерал, наказывать.
— Почему? — круто повернувшись к нему, спросил Доватор.
— В ночь перед наступлением в полосе обороны полка немцы сосредоточили до сорока танков. Вот разведсводка, — Жаворонков положил перед Доватором отпечатанную на машинке бумагу.
— Хоть четыреста, но драться он должен был насмерть, — с глубокой, непоколебимой решимостью проговорил Панфилов.
Слова его прозвучали как суровый, безапелляционный приговор.
— Плохую вы делаете услугу Бойкову, товарищ подполковник, защищая его подобным образом, — гневно сверкая глазами, сказал Доватор.
— Я не защищаю Бойкова. — Жаворонков со смелым упрямством смотрел Доватору в глаза. Побледневшее, с острыми скулами лицо его нервно подергивалось. Человек он был вспыльчивый, но умевший в нужную минуту брать себя в руки, опытный, честный и волевой командир. — Дело не в защите полковника Бойкова.
— А в чем же? — вмешался все время молчавший Шубин.
— Скажу, товарищ бригадный комиссар, — ответил Жаворонков. — Дело в простой человеческой справедливости. При этом соотношении сил, какое сейчас у нас, полковник не мог бы удержать свои оборонительные рубежи. Если мы худо воевали, то надо нас всех отстранить и назначить других командиров. А мы дрались неплохо. Это вы все знаете. Я прошу командование учесть не только заслуги полковника Бойкова, но и наши ошибки. А они у нас были. Бойков просил подкрепления, мы не дали. Просил пушек, дали только две. Никому не секрет, что это очень мало. — Жаворонков, поправив на плече ремень, полез в карман за папиросами.
Все напряженно молчали.
Каждый в эту минуту чувствовал себя ответственным за то, что враг был близок к Москве.
«Действительно, как могло случиться, что фашисты очутились у самой Москвы? — напряженно думал Доватор. — Разве в самом деле плохо дрались его дивизии? Вспомнить хотя бы августовский рейд. Ведь он со своими полками мог пройти всю Смоленщину и Белоруссию. Но ему приказали вернуться обратно. Разве плохо дрались они раньше? Да и теперь вот уже две недели кавалеристы, не вылезая из окопов, ведут тяжелые бои с противником, численно превосходящим их вдвое».
Начальник штаба дивизии коснулся самого больного места. Нужны дополнительные резервы и усиление материальной части. Об этом Доватор и Шубин говорили целые ночи напролет. В какой же степени в этой обстановке виноват полковник Бойков?
Выпрямившись на стуле, Лев Михайлович решительным движением руки отодвинул разведывательную сводку в сторону и, усилием воли преодолевая нахлынувшее волнение, начал говорить:
— На войне, товарищи, сущность поведения солдата и командира определяется воинским долгом и приказами вышестоящих начальников. Если командир дивизии решил отстранить командира полка, — значит, тому и быть. Ему вверены кавалерийские полки, он хозяин своего положения и ответственен не только перед командованием, но и перед своей совестью и честью.
Доватор, вглядываясь в лицо Атланова, давно понял, что комдив погорячился с отстранением Бойкова и теперь мучился. Лев Михайлович решил накалить атмосферу пожарче, надо было дать прочувствовать, что приказы даются для того, чтобы их исполняли.
— Я не могу отменить приказ комдива, да и не собираюсь, наоборот, прикажу направить дело в трибунал и потребовать разжалования Бойкова. И впредь недостойных командиров буду смещать и судить независимо от рангов и положений. — Доватор не говорил, а чеканил каждое слово.
Атланов морщил лоб и покусывал губы. Взглянув на Бойкова, он вдруг изумился. На лице полковника млела страшная в своей бессмысленности улыбка.
— Строговато, но мудро, — резко кивнул головой Панфилов.
— Бригадный комиссар Шубин, за вами слово, — пытливо посматривая на военкома, проговорил Доватор.
Лев Михайлович чувствовал, что они с Шубиным хорошо поняли друг друга.
— Да что здесь говорить... — Михаил Павлович поднялся со скамьи и оправил китель. — Я не хочу сейчас говорить, кто прав и кто виноват. От нас родина требует напряжения всех сил. Нам Сталин приказал: не только отстоять Москву, но и разгромить врага. Задача трудная. Нам, старшему командному составу, это хорошо известно. Но мы ее выполним, потому что у большевиков невыполнимых задач не существует.
Михаил Петрович, качнув грузное туловище, заложил руки за спину, медленно прошелся из угла в угол.
— Я думаю, полковник Бойков не трус. Он опытный и волевой командир, не раз доказавший это на деле. Мне кажется, следует дать ему возможность загладить свою вину. Пусть докажет, что он настоящий русский офицер, военачальник сталинской школы. Над исправлением ошибок в первую очередь должны трудиться мы, начальники, — веско заключил он.
Атланов кивнул головой и облегченно вздохнул. Бригадный комиссар все подытожил с неумолимой правдивостью. Доватор с торжествующей улыбкой посмотрел на Жаворонкова, явно гордясь своим комиссаром. Он мужественно заявлял не только о чужих ошибках, но и о своих собственных.
Панфилов, подойдя к Шубину, крепко пожал ему руку и, изменив своему правилу говорить коротко, сказал с шутливым многословием, ни к кому не обращаясь:
— Это называется, сначала попотеть, а затем попеть... Хорошее правило. Умереть и вновь воскреснуть!..
Подойдя к растерянному Бойкову, он с присущей ему откровенной простотой добавил:
— Не обижайся, полковник. Моральное взыскание для честного человека страшнее смерти. Пойми, друг, что генерал Доватор не пугал тебя, а пытал страшной пыткой. Думаешь, нам легко посылать полковников в солдаты?
— Знаю, Иван Васильевич! Мне доверяет командование, и мне больнее всего потерять это доверие. Страшна не смерть — страшен позор.
— Это верно, — подтвердил Панфилов.
Бойков, вытерев папахой влажный лоб, надел ее на голову и, подойдя к генералу Атланову, попросил разрешения немедленно выехать в полк. Атланов молча вывел его на кухню и, взяв за пряжку ремня, спросил:
— А почему не хочешь ужинать?
Комдив устало улыбнулся. В уголках его губ резко обозначились морщинки. Глаза смотрели мягко и добро.
— Тебе надо выпить стакан водки и отдохнуть. Так или нет?
— Так, Иосиф Александрович. Стакан водки выпью, но ужинать не могу, поверь...
— Верю. Однако на рассвете атака. С голодным желудком много не навоюешь. Предупреждаю, Виктор! Действовать надо без фокусов. Людей беречь и самого себя тоже. Иначе я тебе пропишу и валерьянку... Никаких обещаний мне не нужно. Я тебе доверяю попрежнему. За дружбу нашу кровь отдам!
— А ведь это, Иосиф Александрович, для меня самая лучшая ласка.
И, только выехав на коне из ворот, Бойков понял все значение последних слов командира дивизии. Конь пошел широкой, плавной рысью. В лицо полковнику ударил морозный воздух. Казалось, что он освежал не только Прокуренное горло, но и облегченно забившееся под полушубком сердце. Бойков дал коню свободный повод. Мелькали дремавшие под снежным покровом избы. На окраине, по лесной проселочной дороге, изломанным строем, гремя снаряжением и хрустя по свежему снегу, еще не растоптанному валенками, входила в село пехота.
— Какой части, товарищ? — придерживая повод, крикнул Бойков.
— Панфиловцы!..
Охваченный усилившимся чувством радости, Бойков, пригнувшись к шее коня, пустил его полным галопом.
Возвратившись из штаба дивизии, комиссар Абашев подготовил с начальником штаба боевой приказ о наступлении и в ожидании подхода артиллерии и батальона панфиловцев пошел отдыхать, приказав старшему лейтенанту Шевчуку:
— Разбуди в шесть. Два часа надо поспать, а то в голове туман, и барабанщики стучат.
Выходя из землянки, он добавил от порога:
— Батальон подойдет, расположи его. Пусть люди немножко вздремнут. Если что-нибудь будет от Осипова, буди немедля...
Проводив комиссара, Кондрат Шевчук вернулся в блиндаж. Расстелив на столе карту, он, посапывая трубкой, стал наносить обстановку. В углу на растрепанных снопах ржаной соломы, укрывшись буркой, спал коновод Гриша Симаков. Широкая, просторная землянка, служившая колхозникам бомбоубежищем, была теперь приспособлена под командный пункт. На столе рядом с полевым телефоном чадно дымил в консервной банке круто насоленный бензин. Мелкие хлопья сажи, порхая в воздухе, падали на листы карты и от малейшего прикосновения жирно размазывались. Свирепо посмотрев на такое освещение, Шевчук зажег обрывок газеты и концом карандаша хотел было убавить фитиль, но неловким движением погасил его. Клочок бумаги, догорев, обжег ему пальцы и тоже погас. Шаря в темноте рукой по столу, он чуть было не опрокинул банку и громко позвал:
— Симаков!
— Сейчас, товарищ старший лейтенант. А почему темно? — шурша в углу соломой, спросил Симаков.
— Потому, что у тебя «светило», як у худого слесаря форсунки. Шипит, чадит, трещит и гаснет. Иди до мене и неси спички. Зажигай. Да, смотри, не повали мне эту чортову машину, тут на столе карты. Чуешь?
— Чую, — хрипло откашливаясь спросонья, ответил Симаков. — Зараз все будет в порядке. — Он чиркнул спичкой. Но едва пламя спички коснулось фитиля, как бензин, фыркнув скопившимися в консервной банке газами, со взрывом отбросил банку в угол. Землянка снова погрузилась в темноту.
— Что же ты наделал? — задыхаясь от запаха перегоревшего бензина, крикнул Шевчук. — Да я тебе за карту, знаешь, що сделаю?!
Свою боевую карту Шевчук содержал в идеальном порядке. Он никому не позволял к ней притронуться, и вдруг такое несчастье.
Но разразиться вспыхнувшим гневом Шевчуку не удалось. За дверью послышался разговор, вошел дежурный.
— Где же огонек? — проговорил он из темноты.
— А, с его огнем! Взорвался, як фугас. Ты с кем тут? В чем дело? — беспокойно спросил Шевчук.
— Пушки прибыли, — ответил дежурный.
— Командир батареи капитан Мхеидзе, — раздался от порога голос с сильным кавказским акцентом.
Вспыхнувший свет карманного фонаря скользнул по бурке Шевчука, а потом по его нахмуренному, закопченному лицу и, мгновенно перепрыгнув на стол, осветил залитую бензином и испачканную сажей карту. Шевчук, подавляя гнев, заметил, как густые черные усы капитана шевельнулись в сдержанной улыбке. Рядом с вошедшим стояла рослая молодая девушка в белой сибирской кухлянке.
— Командир эскадрона старший лейтенант Шевчук, — сухо отрекомендовался Кондрат. — Располагайтесь...
— Мне нужно видеть командира полка. — Капитан, прижимая руку с фонариком к груди, освещал землянку. Симаков, вынырнув к свету, торопливо налаживал освещение. Дежурный, пообещав добыть лампу, вышел.
— Командира полка здесь нет. Командует комиссар. Он отдыхает. Сколько у вас пушек?
— Две. Нельзя ли все-таки разбудить командира полка?
— Зачем его будить? Он только что прилег. Подумаешь событие: две пушки! Человек не спал...
— Да, это событие. Настаиваю на том, чтобы доложили комиссару, — требовательно проговорил капитан. — Я прибыл в ваше распоряжение всего на сорок пять минут.
— На сорок пять минут? — Шевчук удивленно поднял глаза. — Вы что это, серьезно говорите?
— Вполне серьезно.
— Что же можно сделать за это время?
— Что нужно, то и сделаем, товарищ, — уверенно ответил капитан. — Мы только напрасно теряем время, — порывшись в полевой сумке, он достал какую-то бумажку и протянул Шевчуку. — Прочтите.
— Симаков! Мы что, до утра будем в темноте кукарекать? — принимая от капитана бумагу, спросил Шевчук.
— Все готово, товарищ старший лейтенант, — ставя зажженную коптилку, Симаков с отчаянием поглядел на стол, где взрыв наделал страшный беспорядок.
Шевчук, прочитав бумагу, быстро вскочил, окинув глазами улыбающегося капитана. Он перевел взгляд снова на бумажку, а потом на ординарца и изменившимся от волнения голосом крикнул:
— Гриша, а ну, скоро, до комиссара, буди его. Хотя нет, я сам. Вы меня извините, товарищ капитан, я зараз. А ты, Гриша, открой нам консервы и давай на стол, що там — вино, закуску. Это же, браток, праздник!
Надвинув на глаза кубанку и размахивая широкими полами бурки, Шевчук исчез в темноте.
Войдя в комнату, где, не раздеваясь, на кровати спал Абашев, Шевчук осторожно тронул его за плечо и, склонившись к его уху, тихо сказал:
— Товарищ комиссар, вставайте: «катюши» прибыли...
Комсорг полка Сергей Бодров полз к широкой просеке. Временами, словно купаясь в снегу, он переворачивался на бок и оглядывался назад. За ним, в нескольких шагах, с фельдшерской сумкой на спине белым комочком перекатывалась через кочки Нина Селезнева. Сзади нее, пыхтя и отдуваясь, полз Яша Воробьев, а вслед за ним радист Савелий Голенищев и связной Вася Громов.
Ночная попытка пробраться к Осипову не удалась. Всюду они натыкались на заслоны противника и подвергались обстрелу.
Под утро комсомольцы вынуждены были вернуться обратно. Вторично вызвав комсорга Бодрова, Абашев приказал взять с собой Голенищева с рацией и связного Громова и пробиваться всем вместе. Рацию надо было доставить во что бы то ни стало.
— Антону Петровичу скажи, что план операции разработан. Сегодня непременно будем атаковать. Наступлением руководит сам Доватор. Как только соединитесь, немедленно радируйте. Схему с моими пометками береги. В случае чего, уничтожь. Все, что я тебе говорю, запомни и передай в точности.
Вспоминая наказ комиссара, Сергей остановился. Вот она, просека. Предутреннюю морозную тишь разрывают длинные пулеметные очереди. Немцы почти беспрерывно стреляют вдоль просеки трассирующими пулями. Изредка бьют пушки. Самое главное — проскочить стометровую просеку. Место почти открытое. Мелкая поросль осинника — чудесное место для красноголовых грибов... Сергей разгребает рукавицей снег и, укрепив локти, кладет перед собой автомат.
Приближается рассвет. По верхушкам деревьев шаловливо пробегает ветер, с веток летят пушистые хлопья снега. На просеке тонкими белыми ручейками бежит поземка. Сергей накручивает на руку ремень автомата и сильным движением посылает тело вперед. Его примеру следуют и остальные.
Впереди пулеметная очередь подняла снежный вихрь. Сергей ныряет головой в снег. Он слышит, как над головой с шипящим звоном проносятся снаряды и с оглушительным треском рвутся между деревьями. Ползущие сзади окунаются лицами в снег и недвижимо замирают на месте. Сергей, первым подняв голову, оборачивается назад. Из-под упавшего на лоб спутанного чуба поблескивают черные, навыкате глаза. На тонком, с красивой горбинкой носу подтаивают снежные крупинки. Смахнув их рукавицей, он поправляет на плече автомат и ощупывает противогазную сумку, наполненную дополнительными зарядами для мин.
Абашев приказал доставить их Осипову еще утром, но связь с ним прервалась. Если Сергей не взлетит с этими штучками на воздух, то они крепко пригодятся.
Убедившись, что у двигавшихся сзади товарищей все в порядке, Сергей ползет дальше. Остается преодолеть совсем небольшое расстояние. Впереди, на краю просеки, ровный густой рядок молодых кудрявых елочек, таких пушистых, хоть вешай игрушки и зажигай свечи... А вот что там, за этими прелестными елочками? Может, засада немецких автоматчиков? Подумав о возможности такой встречи, Сергей останавливается и манит к себе Нину.
— Слушай, сестричка... — говорит Сергей, отводя взгляд куда-то в сторону. — Пока я не дойду до елок, вам лежать на месте и ждать моего сигнала — подниму автомат дулом вверх.
— А почему бы не всем вместе? — спрашивает Нина, поправляя на голове беличью, с длинными ушами кухлянку — подарок сибирских охотников фронтовикам. В этом уборе ее молодое раскрасневшееся лицо с характерным изгибом бровей по-детски мило и выразительно.
— Так надо, — улыбнувшись, твердо говорит Сергей и, слизнув языком комочек снега, ползет дальше. Он весь тонет в снегу, видна только колыхающаяся на спине противогазная сумка.
По просеке ветер сильнее крутит поземку. Чуть выше спины Сергея проносится очередь трассирующих пуль. Пока ползли все вместе, Нина не испытывала отвратительного чувства страха, но как только над Бодровым просвистели пули, Нина вздрогнула. Иногда ей казалось, что она уже привыкла видеть смерть, но как только приходилось приблизиться к ней вплотную, начинало сжиматься сердце.
Отгоняя вспыхнувшие в голове тревожные мысли, Нина неотступно следила за ползущим Сергеем. Вот он, упорно бороздя головой снег, выполз на край просеки, нырнул в канаву и скрылся. Нина облегченно вздохнула.
Тяжело посапывая носом, подполз Яша Воробьев и, тронув Нину за носок валенка, шопотом спросил:
— Ну как, Ниночка Петровна?
За это шутливое прозвище Яше не раз попадало от Нины, но отучить его не было никакой возможности. Зато сейчас эти слова прозвучали как-то особенно тепло и дружески.
— Переполз... — прошептала Нина. — Как автомат поднимет дулом кверху, поползем и мы.
— Ага, — понимающе кивнул Яша и, счищая приставший к карабину снег, добавил: — Смелый парень. Правильно делает.
— Не шевелись, — зашипела на него Нина, продолжая вглядываться в кусты, за которыми исчез комсорг.
Но кудрявые елочки стояли неподвижно. Казалось, они манили к себе не только своим веселым видом, но и относительной безопасностью. Однако сигнала не было. Несколько минут показались Нине бесконечностью. Колючая поземка подула сильнее.
Нине остро захотелось встать и зашагать во весь рост, как она часто делала, подбирая на поле боя раненых. Но сейчас она не одна и не имеет права не только встать, но и пошевелиться. На короткое мгновение глаза Нины застилает туманное облачко. Она вспоминает, что где-то за этой просекой, стиснутые немцами со всех сторон, насмерть дерутся эскадроны. Кровью истекают раненые бойцы. Кажется, что кто-то укоряющими, зовущими глазами заглядывает ей в самую душу. От этого еще больше хочется рвануться вперед, туда, где ждут ее истомленные жестоким боем люди.
Прошло еще полчаса. Нина начинала шевелить застывшими пальцами. Яша посапывает, у него насморк. Савелий трет прихваченное морозом ухо. Вася Громов жует что-то посиневшими губами. Занесенный поземкой, он выглядывает из сугроба, точно сурок из норки.
Наконец впереди между вздрогнувшими елочками показалась коренастая фигура Сергея Бодрова с поднятым вверх дулом автомата.
— Вперед! — скомандовала Нина, оттолкнулась локтями и сильными, юркими движениями поползла черев просеку.
Достигнув ее края, Нина белым комом скатилась под елочки в канаву. За ней следом, один за другим, кувыркнулись на дно канавы и остальные.
Бодров встретил их предупреждающим знаком.
— Дальше нельзя двигаться, — тихо проговорил он, сдвигая на затылок серую ушанку. — Впереди еще одна просека. Там сейчас немецкие саперы снимают мины.
— И много их? — спросил долговязый телефонист Савка. Он был знаменит на всю дивизию тем, что в любое время дня и ночи, в любую погоду каким-то одному ему известным чутьем мог отыскать самое незаметное повреждение, исправить его, связать, как он говорил, «веревочку». А провода он умел так прятать, что их сами связисты не могли обнаружить, не только разведчики противника. Разговаривал он только «кодовым» языком, изобретенным им самим и вызывавшим у товарищей неописуемое изумление и хохот. Свой «код» он пересыпал такими словечками, от которых, как говорил Яша Воробьев, даже лошади начинают пофыркивать.
— Значит, одиннадцать колбасников с пулеметом и лягушка, то-есть танк, вперед попрыгали? — повторил Савка ответ Сергея.
— Да, и лягушка, — подтвердил Бодров, хмуря черные, вразлет, ушедшие к вискам брови.
— Грустно, и весьма, — отозвался Савка.
Остальные, посматривая на задумавшегося Сергея, притихли.
В лесу, нарастая и усиливаясь, закипал бой. Вася Громов, белокурый паренек маленького роста, переступая с ноги на ногу, потирал застывшие руки. Нина, сняв привязанные на шнурках рукавицы, что-то искала в фельдшерской сумке. Яша отряхивал от снега свой полушубок.
— Что, Громов, озяб? — покуривая в рукав, спросил Сергей.
— Угу! — промычал Вася посиневшими губами.
— Папироску хочешь? — предложил Бодров.
На двадцать третьем году жизни, после двухлетней службы в армии Сергею казалось, что он имеет зрелый жизненный опыт. Ему сейчас хотелось приласкать, ободрить этого закоченевшего голубоглазого восемнадцатилетнего паренька.
— Я не курю. Спасибо, — кутаясь в серый казачий башлык, смущенно ответил Вася, точно стыдясь, что он, этакий геройский вояка, связной командира полка, и вдруг не курит...
— Тогда ешь сухарь, на! — Савка вытащил из-за пазухи сухарь и протянул Громову. Тот взял.
— Слушай, Громов! — мягко сказал Бодров. — Ты хорошо помнишь, в каком месте шел вчера с донесением?
— Помню, товарищ старший сержант!
— А где ты обходил минное поле?
— Не здесь, а правее, там! — Громов показал на восток и, кивнув на Савелия, добавил: — Мы с ним было пошли туда, но нас обстреляли.
— Точно! — отгрызая крепкими зубами сухарь, подтвердил Савелий. — Сначала рассыпали на головы автоматный горох, а потом плюнули из самоварной трубы. Весьма было грустно покидать местечко, на котором обычно все спокойные люди сидят.
От Савкиных слов стало как будто теплей и даже немножко весело. Яша, пряча усмешку, покачал головой. Улыбнулись и остальные. Смешно было смотреть на этого неуклюжего, в коротком полушубке верзилу с его катушками, карабином и огромными серыми, вдрызг растоптанными валенками.
— Где вы, Савелий, работали до войны? — спросила Нина.
— Гм-м... Видите ли, товарищ сестричка, я сам деревенский интеллигент...
Вася Громов прыснул в рукавицу.
— Это что, должность такая? — улыбнулась Нина.
— Как вам сказать... Мы, Голенищевы, со времен «оказии» гоняли почту. Мой дед и папаша были почтальонами. По их стопам пошел и я. А раньше, как вам известно, в царской деревне интеллигентами были учитель и почтарь. Вот, значит, я принадлежу к этому высокочтимому сословию. В наши дни по своему беспокойному характеру, а рожден я в самое неспокойное время, в семнадцатом году, я по совместительству был в колхозном драмкружке артистом, режиссером, постановщиком, гримером, художником, музыкантом. Если посмотреть на театральную афишу, то мне будут принадлежать все нижние подписи. Таланты меня распирали, как мерзлую бочку лед...
— Замолчи ты, дьявол! — Яша заткнул рукавицей рот и корчился от смеха.
— Вот, Нина Петровна, что значит невежественные люди, — серьезно и укоряюще проговорил Савелий, засовывая в рот остаток сухаря и кивая на Яшу. — Культурного словца не могут выслушать. Все аханьки да хаханьки...
Нина тоненько прыснула в кухлянку. Савелий, отряхнув с полушубка хлебные крошки, снял с плеча карабин и, пряча в глазах бесовскую лукавую улыбку, почтительно спросил, обращаясь к Сергею:
— Будем назад держать свои стопы, товарищ старший сержант?
— А как вы думаете, товарищ деревенский интеллигент?
Бодров почувствовал, как у него начинало подниматься в душе необыкновенное доверие к этому чудаковатому парню. От него веяло той крепкой русской силой, которая раскрывается неожиданно, точно широкий, мощный взмах гигантских крыльев.
— Ведомо мне, что от конца вот этой медной веревочки, — протяжно, с расстановкой заговорил Савелий, показывая на телефонный провод, — зависят многие жизни наших товарищей. Поэтому мы должны во что бы то ни стало протянуть ее туда. Вот что я думаю.
— Попробуем, — твердо и решительно сказал Сергей и, крякнув, словно пробуя поднять большую тяжесть, добавил: — Двум придется остаться на этой стороне просеки и отвлечь немцев. Остальные должны быстро проскочить.
— А как же эти двое? — запинаясь, спросила Нина.
— Там видно будет... — Бодров, покусывая губы, быстро вскочил и, повесив на сук сумку с взрывателями, продолжал: — Мы с Яшей сейчас выдвинемся вперед и откроем огонь. Вы будете перебегать правее — вот по этому моему следу, чтобы не угодить на мину. Первым Савелий, за ним Нина, Громов прикрывает сзади. Ясно, товарищи?
Все молча кивнули.
— Ничего, ребята, там встретимся, — ободрил их Сергей. — Вы только смелей! Савелий, возьми мою сумку.
Подоткнув рукавицы под поясной ремень и перехватив автомат голыми руками, он глухо добавил.
— И не беспокойтесь. Мы все сделаем, как надо. Ну, идем, Яшенька.
— Идем, Сережа. — Яша, словно стараясь прикрыть вдруг заблестевшие глаза, нахлобучил ушанку на самый лоб и нырнул под ветви вслед за Бодровым.
Когда отошли метров на двести, Сергей неожиданно остановился, присел на снег и, подозвав к себе Яшу, тихо сказал:
— Здесь! Совсем близко! Прислушивайся.
За кустами слышались звуки немецкой речи. Иногда раздавался резкий металлический стук. Отзвук его далеко разносился по лесу.
— Вот тут неподалеку есть сваленное дерево, — тихо говорил Сергей. — Видишь следы? Это я лазил! Сейчас поползем туда. Только осторожно. Если обнаружим себя, тогда все. Я буду бить по пулеметчику первым.
Свернув с тропки, медленно, с величайшей предосторожностью поползли налево. Как только шум на поляне прекращался, оба мгновенно замирали, словно подстерегали токующих глухарей. По верхушкам деревьев свистел ветер. Иногда, тревожа на ветках седые морозные кружева, падала шишка. Впереди путь преграждался огромной сваленной елью.
Подползли вплотную и укрылись под вывороченным бомбой корневищем. Просунув ствол автомата между сучьями, Бодров глазами показал Яше место рядом с собой. Там была неглубокая ямка, и открывался удобный сектор обстрела.
Группа немецких саперов в касках и желтого цвета, комбинезонах топталась на просеке шагах в пятидесяти. По ту сторону просеки, в кустах, замаскированный еловыми ветками, стоял вездеход с работающим на малых оборотах мотором. Из кузова торчал ствол пулемета и виднелась каска солдата. Саперы неторопливо раскапывали снег и вытаскивали наши противотанковые мины.
Сергей с застывшей на посеревшем лице улыбкой медленно, почти не дыша, оттянул затвор автомата. Он не чувствовал страха, а только слышал учащенное биение сердца. Яша, слегка посапывая носом, с присущей ему методичностью сибирского охотника, выбрал высокого, плечистого немца, присевшего на корточки, и прицелился в висевшую на его поясе гранату.
Резкая длинная очередь автомата Бодрова хлестнула Яше в левое ухо. В лицо, обдирая щеку, брызнули вылетевшие из магазина гильзы.
Яша, потеряв точку прицеливания, выстрелил наугад. В какие-то доли секунды последовали один за другим два оглушительных взрыва. Над верхушками деревьев взвихрился черный огненный смерч, сильно встряхнув и подбросив Яшу, вырвал из его рук карабин. Ошеломленный, Яша поднял голову и оглянулся по сторонам. Между деревьями плавал едкий, вонючий дым, застилая поляну. Оттуда доносились пронзительные крики и стоны.
— Вот чорт, а! — приглушенно выговорил зашевелившийся рядом Сергей.
— Ты ранен?
Яша, подхватывая карабин, рванулся к Бодрову.
Сергей отрицательно качнул голевой и, не оборачиваясь, вяло спросил:
— Ты куда, Яша, стрелял?
— В того, который на корточках, с гранатой на пузе, да только...
— Ты в мину попал. Она и ахнула... и граната. Здорово! М-молодец, Яшка!
Он помолчал.
— Меня немного оглушило, тошнит... А так ничего!
Сергей повернулся и изумленно открыл рот. Вся щека Яши была залита кровью.
— Эх, как тебя! Подожди, я сейчас достану бинт, — Сергей полез в карман за санитарным пакетом, но Яша остановил его.
— Чепуха, это царапины. След твоих гильз из автомата...
Яша тыльной стороной ладони смахнул со щеки кровь. Там действительно были царапины, но основательные. Однако перевязать щеку Яша не успел.
Ветер быстро разогнал дым. На почерневшем от взрыва снегу лежало семь изуродованных гитлеровцев. Оставшиеся невредимыми, истошно крича и бранясь, тащили раненых. С вездехода вдоль просеки яростно бил пулемет.
Бодров короткой очередью убил еще одного немца, Яша свалил второго. Пулемет замолк.
Понаблюдав несколько минут, Бодров решил, что немцы ушли, и высунул из укрытия голову. Тотчас он был обстрелян шквальным пулеметным огнем. Пули, шлепаясь, о мерзлую землю, о корневище, пронзительно взвизгивали.
— Заметил, гад! Теперь голову не даст поднять. — Яша потихоньку ругнулся.
Пулемет, не переставая, вел огонь.
— Разреши мне подползти с другой стороны. Я его нащупаю.
Но Яша не успел договорить. За просекой неожиданно защелкали частые выстрелы. Несколько раз прострочил пулемет, и сразу все стихло.
Над лесом дымчатой каемкой проплыли низкие облака. Где-то в небе прогудел самолет.
Яша настороженно поднял голову. Неподалеку от вездехода с кустов посыпался снег, затем во весь рост появилась с карабином в руках неуклюжая, высокая фигура Савелия.
— Савушка... — прошептал Яша с нежностью. С его щеки падали на снег капельки крови.
— Он, он, миляга! Ну и дылда...
На обветренном скуластом лице Сергея разлилась улыбка.
Выскочив из укрытия и отряхиваясь на ходу, Сергей с Яшей побежали к нему навстречу.
— Кар-ртина! — завидев товарищей, крикнул Савелий, широко распахнув длинные, могучие руки. Короткий кавалерийский карабин казался в них детской игрушкой. Сзади него шли Нина и Вася. Последний тащил на плече немецкий пулемет.
Подбежав к Савелию, Бодров обнял его и расцеловал.
— Спасибо, друг! Сказать тебе, что ты молодец, мало. Ты просто герой, Савка!
— А сами-то что натворили, — смущенно говорит Савелий. — Да ты брось меня тискать, я там этот автоматический трайтайтам завел. На нем ехать можно.
Все поспешили к бронетранспортеру.
Голенищев сел за руль и дал газ. Вездеход дрогнул, заскрежетал гусеницами и тронулся. Однако отъехать пришлось недалеко. Немцы, опомнившись, выскочили на просеку и отрезали дорогу. Сидя в кабине, Бодров увидел, как серые фигурки вражеских солдат, согнувшись, перебегали через просеку и тащили на руках минометы; сбоку и сзади загрохотали пулеметные очереди.
— Голенищев, тормози! — крикнул Сергей.
Но Савелий и сам понял, что ехать было некуда. Убрав газ, он уже отстегивал от пояса ручные гранаты. Выскочивших впереди бронетранспортера немцев Громов срезал пулеметной очередью. Яша короткими очередями бил из автомата.
— Вылезайте быстро! — Бодров выскочил из машины, бросил две гранаты. Немцы немного отхлынули.
— Занимаем круговую оборону! — крикнул Бодров, прихрамывая, бросился в кусты и лег под дерево. Он был ранен в ногу. К нему с пулеметом в руках подполз Громов. Нина с Яшей изготовились в неглубокой канавке. Савелия Голенищева около них не оказалось.
Немцы, громко крича, пошли в атаку.
На рассвете в блиндаж подполковника Осипова пришел командир разведчиков старший лейтенант Кушнарев. Ночью он с группой разведчиков пытался прорваться на Сычи, но безуспешно. Немцы сжали эскадроны Осипова плотным кольцом и усиливали напор со всех сторон. Артиллерийский обстрел шел с утра до вечера. Несмотря на плохую видимость, лес систематически подвергался бомбардировке с воздуха.
Днем атаки пехоты повторялись через каждый час. Но кавалеристы, зарывшись в снег, встречали фашистов шквальным огнем. Только ночью утих бой и наступила передышка.
— Где ты хотел пройти? — склонившись над картой, спрашивал Осипов.
— В нескольких местах пытался, — Кушнарев показал маршруты и устало присел на чурбак. От неудачи он был страшно зол и до боли жмурил глаза.
— Н-да... — постукивая по карте карандашом, протянул Антон Петрович. — Патронов маловато. Я бы им устроил кордебалет... Все равно пробиваться надо любым путем. Хоть координаты дать, чтобы самолет боеприпасов сбросил. Без патронов пропадем.
Наступила небольшая пауза.
— Ну, что ж... — задумчиво продолжал Осипов. — Если такой опытный разведчик, как ты, не мог проскочить, значит плохи наши дела... или твои разведчики никуда не годятся. Кликну добровольцев. У меня найдутся хлопцы. Подвел ты меня, старший лейтенант. Надеялся я на тебя крепко...
— У меня разведчики замечательные, товарищ подполковник. Подходили вплотную. Но что делать: куда ни сунемся, не спят. В одном месте можно было бы, да...
— Ну и что же? — раздраженно перебил Осипов.
— «Языка» решили прихватить. Ну, взяли, а он заорал, как резаный. Шум такой поднялся, пришлось вернуться.
— Где же пленный?
— Лейтенант Головятенко допрашивает. Только ничего от него не добьешься. По-русски ни одного слова.
— Почему сюда не привел? И молчал, голова садовая!
Осипов, поднявшись из-за стола, подошел к завешенной плащ-палаткой двери и приказал ординарцу позвать Головятенко. Лейтенант сейчас возглавлял его штаб.
— Да пусть немца сюда приведет, — добавил Антон-Петрович.
Минуты две спустя Осипов оглядывал высокую плотную фигуру гитлеровского солдата. Взял со стола фонарь и поднес к его лицу. Немец отшатнулся.
— Ну, что он? — спросил Осипов у Головятенко, подавляя нарастающее волнение.
— Не знает по-русски. Бормочет чорт знает что... Подтверждает всякую чепуху. — Головятенко безнадежно махнул рукой, кляня себя в душе за то, что отлынивал в школе от уроков немецкого языка. — Плохо без переводчика!
Осипов начал допрос с немногочисленных известных ему слов, но дело подвигалось туго. Это сразу понял пришедший комиссар батареи Ковалев.
— Товарищ подполковник! — спросил он. — Разрешите пригласить переводчика?
— Какого переводчика? — нахмурившись, спросил Осипов.
— У меня есть! — Ковалев, нахлобучив на лоб кубанку, быстро ушел.
— Откуда у Ковалева переводчик? — Антон Петрович знал не только в лицо всех батарейцев, но и помнил их биографии. Это были его самые любимые солдаты и собеседники. В часы отдыха он приходил на батарею и разговаривал с каждым в отдельности.
Когда Зина вошла в блиндаж, Осипов, твердо сжав губы, удивленно кашлянул.
— Так вот какой у тебя переводчик... — проговорил он смягченным голосом. — Прошу, прошу. Поговорите с этим разбойником! Смотрите, увидел хорошенькую девушку и глаза косит, улыбается, а дай ему автомат, он так улыбнется...
Зина пристально смотрела на немца. Это был первый, настоящий фашист, свирепый враг, которого ей приходилось видеть. Немца усадили против Зины. Слащаво улыбаясь, он подобострастно глядел ей в лицо и отвечал на все вопросы.
— Он говорит, что полк, в котором он служит, — волнуясь переводила Зина, — входит в состав армейского корпуса генерала Гютнера. Им приказано быть в Москве первыми. Но он опасается, что их опередят танкисты...
— Скажите ему, чтоб он о Москве забыл и не упоминал это слово, иначе будет сегодня же расстрелян. Пусть точно называет номера частей и количество танков, — проговорил Осипов.
Услышав переведенные Зиной слова, фашист недоумевающе раскрыл рот и испуганно заморгал глазами. Далее пленный сообщил, что в районе Морозове сосредоточено около восьмидесяти танков и два полка пехоты. Им приказано уничтожить кавалерийские части Доватора.
Уточнив схему расположения частей противника, Осипов выяснил, что немцы в первую очередь будут стремиться покончить с его окруженной группой, а затем всей массой навалятся на Медникова и могут прорваться к Волоколамскому шоссе. Сейчас, как никогда, надо было связаться со штабом дивизии, сообщить эти ценнейшие данные и разгромить скопление немецкой пехоты сильным артиллерийским обстрелом или же массированным налетом авиации. Располагая пушками и минометами, Осипов почти совсем не имел снарядов. В лесу нашлось большое количество мин, но не было дополнительных зарядов к ним.
Переписав начисто оперативную сводку для штаба дивизии, Головятенко с унылой улыбкой сказал:
— Все готово, только отправлять придется голубиной почтой.
— Ну, что ж, поймай в лесу дикого голубя и пошли... — мрачно ответил Осипов.
— Разрешите мне, товарищ подполковник, доставить это донесение, — неожиданно сказала Зина. Разговаривая с немцем, она поняла, что сведения, которые он дал, являются важными, и сообщить о них командованию надо немедленно.
— Как вы это сделаете? — круто повернувшись к ней, спросил удивленный Осипов.
— Я знаю этот лес вдоль и поперек. Под деревней Шишково есть болото, там нет немцев. Через него хоть и трудно, но пройти можно.
Антон Петрович, развернув карту, отыскал синие штрихи болота и задумался. Непроходимая низина узким Дефиле уходила от Шишкова на север, а потом острым клином поворачивала на юго-восток и тянулась почти до самых Сычей.
— Так, так... — проговорил он медленно. — Хорошо, я дам вам провожатых. Доставьте в штаб дивизии донесение и пленного немца.
Землянку неожиданно тряхнул недалекий сильный взрыв, затем началась яростная пулеметная стрельба. Все настороженно притихли.
— Начальник штаба, быстро узнать, в чем дело! — крикнул Осипов, свертывая карту.
Кушнарев, схватив автомат, выбежал вслед за Головятенко. Стрельба то утихала, то вновь гулко усиливалась. Прислушиваясь к шуму боя, Антон Петрович взглянул на Зину. Лицо ее с крепко сжатыми губами было спокойно, только черные ресницы слегка вздрагивали.
— Если вы мне доставите это донесение... — сказал Антон Петрович и секунду помолчал, не отводя упорного взгляда от Зины, — я представлю вас к ордену Красного Знамени, даже свой сниму и привинчу вам. Это мое честное партийное слово. Наденьте маскировочный халат. Возьмите оружие. Вы понимаете, как это важно и как опасен ваш маршрут?..
Зина молча кивнула головой. Кушнарев вместе со своими разведчиками и группой бойцов во главе с лейтенантом Головятенко двинулись в направлении выстрелов. Впереди шли Торба, Буслов и Борщев. Приближался морозный ноябрьский рассвет. Между деревьями, отсвечивая потухающими искрами, догорали замаскированные ветками ночные костры. Два казака несли на палке закопченный, наполненный дымящимся варевом молочный бидон.
Стрельба стихала. На переднем крае, где эскадрон Рогозина занимал круговую оборону, пока все было спокойно. Командир эскадрона и политрук стояли около блиндажа, кого-то поджидая и тревожно посматривая в сторону немцев.
— Что, опять лезли? — спросил Головятенко у Рогозина.
— Вчера, после нашей встречи, больше не лезли, — ответил Рогозин.
— А что это за стрельба была и взрыв?
— Видно, кто-то потревожил немцев с той стороны, — сказал политрук Молостов. — Мы с комэска послали разведку, ждем. Слышна была работа мотора, а теперь все затихло.
Однако разведчиков они так и не дождались. За передним краем в районе расположения немцев с прежней силой возобновилась стрельба.
— Ну, конечно, наши пробиваются, — поправляя на голове каску, возбужденно проговорил Кушнарев. — Я пошел. Вперед, разведчики! — Кушнарев, пригибаясь, направился навстречу гремевшим выстрелам.
Головятенко приказал Рогозину выбросить прикрытие и пошел со своими людьми вслед за разведчиками.
...Бой шел на самом краю просеки. Окружив группу Сергея Бодрова, немцы решили взять советских бойцов живыми. Лежа за кустами, они кричали, что сохранят им жизнь, и предлагали сдаваться. В ответ на это Сергей давал из трофейного пулемета очередь, а Вася с Яшей били из автоматов. Нина с пистолетом в руках бдительно смотрела по сторонам и одиночными выстрелами давала знать о приближении немцев. Савелий Голенищев, позже всех выскочивший из вездехода, захватил с собой крупнокалиберный пулемет, но не знал, как с ним обращаться.
Пулемет молчал, словно заколдованный. Положение оборонявшихся с каждой минутой становилось все безнадежней. Патроны кончались. Оставались в резерве только три гранаты, но Сергей придерживал их на крайний случай. Немцы наступали с трех сторон. Тылом для горсточки храбрецов была та просека, где саперы противника только что обезвреживали мины и были атакованы Бодровым. Пока имелись патроны, Сергей, несмотря на ранение, переползал с места на место и отбивал атаки короткими очередями. Сейчас немцы приблизились метров на сто пятьдесят и, беспрерывно ведя обстрел, лежа на снегу, криком и гамом демонстрировали атаку.
Подозвав к себе Голенищева, Сергей сказал:
— Патроны кончаются. Что будем делать, Савелий?
Голенищев подвигал заострившимися скулами и ответил не сразу.
— Подпустим на самое близкое расстояние — и в атаку. Была не была! Только одному... Одному придется остаться у пулемета. Прикрыть, так сказать...
Глухо кашлянув, он добавил:
— Я остаюсь. Может, пулемет налажу.
— Нельзя тебе. С тобой рация, — твердо проговорил Сергей и, превозмогая острую боль в ноге, продолжал: — Мне все равно быстро двигаться нельзя. Я и прикрою.
— Выходит, мы тебя раненого оставим? Ну, это ты брось! Тогда будем все вместе...
Помолчали. Голенищев, облизывая обветренные, почерневшие губы, сурово нахмурился.
— Я старший, — сказал Бодров, — и даю такой приказ, понял?
Бодров, повернувшись к Савелию, увидел, как тот, будто не слыша последних слов товарища, напряженно вглядывался вперед.
За кустами, метрах в пятидесяти, в желтом маскировочном халате мелькнула фигура немецкого солдата. Голенищев, тщательно прицелившись, выстрелил. Солдат, ткнувшись в снег лицом, замер на месте.
Немцы, галдя и выкрикивая ругательства, открыли минометный огонь. Ломая запорошенный снегом молодой ельник, кругом рвались мины...
...Немецкие минометы стояли на небольшой открытой поляне. Высокий офицер с черным, болтавшимся на груди биноклем взмахом руки отдал приказ прекратить огонь. Потом из землянки вышел другой офицер. Сложив ладони трубкой, он крикнул:
— Рус, слушай!
На минуту все смолкло. Вдруг раннее сумрачное утро огласилось мелодией кафешантанного танго. Затем голос на ломаном русском языке вместе с хриплым шипением патефонной пластинки известил «о доблестных победах германской армии», далее следовало сообщение об окружении Москвы, о падении Ленинграда и «прелестях» немецкого плена.
Лежавший в кустах рядом с Павлюком Торба, ткнув его локтем в бок, тихо сказал.
— Веселятся... Погодите, гадюки, зараз мы вам покажем Москву. Ползи быстро до командира. Пулемет сюда. Я буду наблюдать. Скажи ему, що атаковать самый раз.
Павлюк, разгребая руками снег, торопливо пополз назад. Торба остался на месте. Немцы снова завели пластинку. Захар, сжимая в руках автомат, следил за противником, как охотник, выслеживающий зверя. Над головой Торбы, шелестя желтыми от мороза листьями, высился коренастый молодой дубок. Из-под серой, висевшей лоскутами, пощербленной пулями коры выглядывало его бурое крепкое тело.
Прислонившись к твердому шершавому стволу плечом, Торба ощутил в себе волнующий азарт предстоящего боя и зрелую непоборимую силу. Подползший к нему старший лейтенант Кушнарев, тяжело дыша, лег рядом. Сзади лежали остальные разведчики. Кушнарев, откинув со лба чуб и вглядываясь в галдевших немцев, коротко произнес:
— Начнем! — И, оттянув затвор автомата, отрывисто добавил: — Бить прицельно, короткими очередями, а потом по моему сигналу — в атаку.
Укрепив локти, Кушнарев поднял ствол автомата. Буслов подмигнул Захару и вцепился в приклад ручного пулемета.
— За мной! — Кушнарев, выскочив из-под дубка и разбрасывая сапогами снег, побежал вперед. Вслед за ним бросились остальные разведчики. Справа по лесу прокатилось несколько артиллерийских выстрелов. За ними прогремело «ура»...
...Через полчаса группа Бодрова уже находилась в штабе полка Осипова.
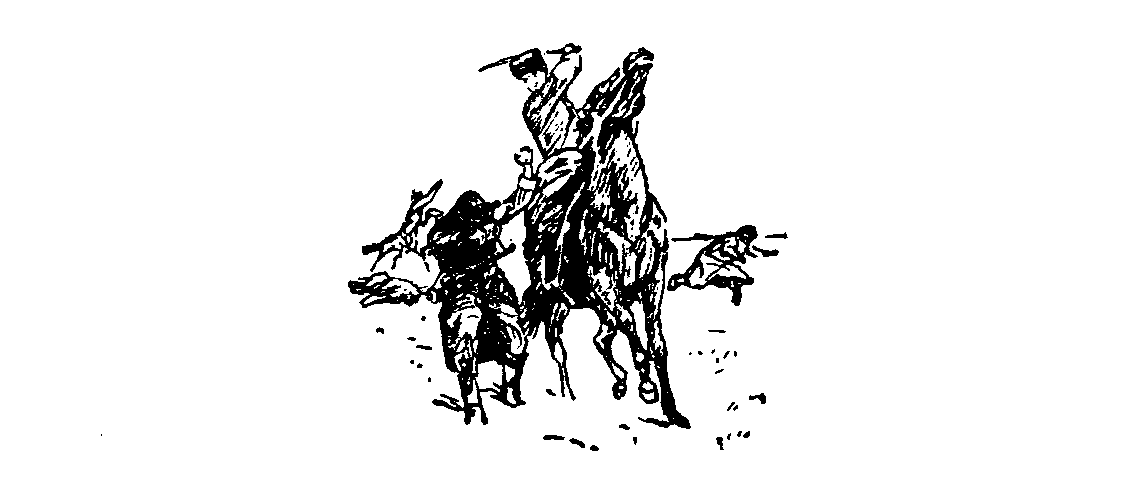 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |