"Генерал Доватор" - читать интересную книгу автора (Федоров Павел Ильич)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
 |
На командном пункте эскадрона Шевчука комиссар Абашев и капитан Мхеидзе, склонившись над картой, уточняли данные о противнике. Прибывшие в распоряжение эскадрона первые по тому времени «катюши» Абашев решил использовать с наибольшим эффектом.
— Вы мне точно покажите площадь самого большого скопления пехоты противника, а остальное — мое дело, — говорил Мхеидзе.
— Значит, вы можете бить только по площади? — спросил Абашев.
— Повторяю, товарищ батальонный комиссар. Где больше фашистов, туда и ударю!
— Но ведь вы мне говорите, что ваши пушки способны накрыть большую площадь. Значит, вы можете угодить по боевым порядкам наших окруженных эскадронов? — возразил Абашев.
— Надо исключить такую возможность, а для этого укажите точно границы переднего края, — невозмутимо отвечал капитан.
Он требовал как раз того, чего Абашев не мог дать. Связи с Осиповым не было. В каких границах оборонялись его эскадроны, он не знал, а ему в первую очередь и надо было помочь Осипову. Абашев не видел выхода из затруднительного положения.
— Я могу указать вам только границы своего переднего края, — после минутного размышления ответил он.
— Можно ударить по Данилкову. Туда вошли немецкие танки, — посоветовал молчавший до сих пор Шевчук.
— По Данилкову нельзя бить, — категорически возразил Абашев. — Из-за четырех танков поднимать на воздух целую деревню — не резон, к тому же там не успело эвакуироваться наше население.
— Это ужасно! — тихо промолвила незаметно сидевшая в углу девушка.
Командиры оглянулись. Закинув на плечи полушубка длинные пушистые уши сибирской кухлянки, она смотрела на Абашева настороженными глазами.
— Извините, товарищ батальонный комиссар. Я не успел вас познакомить, — поднимаясь, сказал Мхеидзе. — Это представитель завода. Она прикомандирована к нашей батарее для контроля за приборами в применении их на практике. Привезла это оружие в подарок фронту от комсомольской бригады уральских рабочих.
— Спасибо за такой подарок!
Абашев, подойдя к девушке, крепко пожал ей руку.
— Старались, товарищ батальонный комиссар, всем коллективом. Как будут работать, увидите сами... — смущенно ответила девушка.
Только вчера она выгрузилась со своими пушками под Москвой, а сегодня уже очутилась на переднем крае. Все было, как во сне. Она сидела в землянке и с замирающим сердцем слушала, как гудит от артиллерийских выстрелов земля, словно на их заводском полигоне, но ощущение здесь, на фронте, было совсем иное.
— Пушки-то хорошие привезли, а мы, видно, плохие начальники, если не знаем, куда стрельнуть... — невесело пошутил комиссар. — Ничего! Найдем, куда послать ваши подарки.
В землянку вошел майор Почибут и, показывая Абашеву вдвое свернутый лист бумаги, с радостной возбужденностью сказал:
— Радиограмма. От Антона Петровича!
— Есть связь? — рванувшись к Почибуту, спросил Абашев.
— Получена радиограмма. Группа Бодрова пробилась, но сам он ранен.
— Тяжело?
Начальник штаба пожал плечами.
— Не сообщает об этом. В районе Морозово — Шитково противник сосредоточил до двух полков пехоты с танками. Командир полка просит авиацию, — докладывал майор Почибут.
— Вот мы их и накроем нашими минами! — обрадованно произнес Мхеидзе, отыскивая на карте только что названные деревни.
— Совершенно правильно, — подтвердил Почибут.
— Наконец-то для вас нашлась работа, — улыбаясь, заметил Абашев капитану Мхеидзе.
Собрав командиров подразделений и зачитав приказ командира дивизии, Михаил Абашев сказал:
— У нас сегодня, товарищи, необыкновенный день. Наша партия и правительство, рабочий класс и весь советский народ прислали нам грозное, невиданное в мире оружие — реактивные минометы. Враг сосредоточил под Москвой огромные силы. Он стремится во что бы то ни стало захватить нашу столицу. Но не бывать этому! Фашисты окружили в лесу наших товарищей и пытаются их уничтожить. Но это им не удастся. Сейчас мы получили радиограмму. Наши боевые товарищи во главе с командиром полка отбили все атаки противника. Они принимают на себя удары трех немецких полков. Через несколько минут мы идем в наступление. Поможем им разгромить фашистские полки и достойно встретим наш всенародный праздник Великой Октябрьской революции!
Узкая лесная тропинка уводит в глухую, мрачную тишину леса. Под ногами предательски хрустит снег и заставляет вздрагивать. Зина, часто поглядывая на светящийся циферблат компаса, идет впереди. За ней шагает пленный гитлеровец. Зине кажется, что немец нарочно громко скрипит подкованными ботинками. Ей хочется обернуться, ткнуть ему дулом пистолета в зубы.
Идущие следом Вася Громов и Стакопа тоже возмущаются. Наконец Стакопа, опытный пограничник-разведчик, не выдерживает и дает знак остановиться. Подойдя к Зине, он тихо говорит:
— Скажите ему, чтоб он не ступал ногами, як слон... Иначе я его тюкну прикладом по шее.
— Осторожно шагайте, — подходя к пленному вплотную, говорит Зина по-немецки. В темноте она не видит его лица, но чувствует блеск устремленных на нее глаз.
— Благодарю. Я чувствую себя прекрасно. Вы очень любезны. Мои ноги в полном порядке.
Немец бормочет еще какой-то вздор о признательности.
Зина с досадой сжимает в кулак озябшие пальцы.
— Я не о ваших ногах забочусь, — говорит она резко, — а предупреждаю, чтобы вы соблюдали тишину. Осторожней ставьте ноги и не скрипите.
— Я понимаю... извините... Но это невозможно, мадам... Моя обувь...
— Я вам не мадам, а боец Красной Армии. Выполняйте то, что я говорю, — сердито перебивает Зина, с трудом подыскивая нужные слова.
Цепочка людей в белых маскировочных халатах движется по лесной тропинке. Где-то неподалеку хлестко бьют автоматы, вспыхивают яркозеленые ракеты. Когда они гаснут, мрак еще больше сгущается.
Очертания деревьев принимают фантастические формы. Зине кажется, что это не ее родной лес, а глухая, незнакомая тайга. Ныряя под нависшие над тропинкой ветки, она упрямо двинулась вперед, настороженно прислушиваясь к каждому лесному шороху. Но все опасения оказались напрасными. Через полчаса они вышли к домику лесника.
Заметив впереди огонек, Зина остановилась и, немного постояв, свернула в кусты. Подозвав Стакопу и Громова, тихо проговорила:
— Вот здесь недалеко проходит зимняя тропа. Когда болото замерзает, по ней напрямик колхозники возят хворост. Пойдемте здесь. Только надо узнать, есть ли в хате немцы. Вы тут подождите, а я схожу.
— Вам нельзя, не приказано. Я сам пойду, — возразил Стакопа.
— Как это — не приказано? — точно не зная, в чем дело, спросила Зина, хотя сама отлично понимала, откуда могла исходить такая команда.
— Комиссар Ковалев приказал.
— Комиссар Ковалев может приказывать у себя в батарее, а здесь как старшая приказываю я, — резко перебила Зина, но трогательная забота Валентина не только не огорчила, а, наоборот, придала ей больше отваги и смелости.
Однако осмотреть дом лесника не пришлось. Зина услышала, как скрипнула дверь, затем раздался кашель и ругань на немецком языке. Она судорожно сжала рукоятку пистолета, вытащила его из кармана и, обернувшись к пленному, вполушопот сказала:
— Молчать, а то смерть!
Хлестнул одинокий выстрел. Над деревьями взвилась осветительная ракета. Пленный, увидев наведенное на него оружие, отшатнулся и кивнул головой. Снова послышался скрип двери, затем все стихло.
Зина, осторожно ступая, вышла на дорогу и повела группу в обратную сторону. Теперь она уже твердо знала, в какую сторону нужно итти. Пройдя несколько шагов, она свернула на едва заметную тропинку и, пригибаясь, юркнула в кусты. За ней двинулись остальные. Через несколько минут они уже были на краю широкой поляны. Перед ними лежало поросшее мелким кустарником и занесенное снегом болото.
Зина первая шагнула в болото и тотчас же почувствовала, как нога, провалившись в снег, свободно уходит в мягкую, податливую жижу. Пройдя шагов тридцать, она услышала сзади себя тяжелое дыхание пленного и хлюпанье воды. Грузный немец шел напрямик, увязая выше колен. Вытаскивая из грязи ноги, он производил, как ей казалось, ужасный шум. Зина, предупредив его по-немецки, снова показала пистолет. Немец пыхтел и тяжело отдувался.
Неожиданно яростный лай овчарки заставил всех прижаться к земле. Над болотом вспыхнули ракеты. Предутреннюю тишину нарушили ожесточенные пулеметные очереди. Пули с тонким свистом вспарывали мохнатые болотные кочки. Было ясно, что их заметили.
Где-то глухо ударили минометы. С пронзительным визгом мины пролетали над головами и, не разрываясь, шлепались в болото. Немцы, бросая ракеты, выскочили было на край болота, но Стакопа автоматными очередями загнал их в кусты.
Обернувшись к товарищам, он крикнул:
— Уходите быстрей!
Немцы залегли и продолжали обстрел из пулеметов. Стакопа, не давая им подняться, хлестко бил короткими очередями.
Зина и Вася, непрерывно меняя направление и подталкивая пленного, вязли в болотной грязи, но упорно продвигались вперед.
Через несколько часов, измученных, продрогших, в замерзших валенках и одежде, их встретил конный разъезд и доставил в штаб полка,
Громов был ранен. Стакопа остался в болоте.
О прибытии группы немедленно было сообщено Доватору.
Когда Лев Михайлович приехал в дом Русаковой, Зина, укрывшись буркой, сидела на печи и пила чай. Глаза ее слипались. Приятная согревающая теплота клонила ко сну.
— Где тут знаменитая разведчица? Дайте на нее посмотреть, — входя в избу, шутливо проговорил Доватор.
— Я здесь, товарищ генерал, отогреваюсь, — дрогнувшим голосом отозвалась Зина.
Воспоминание о Стакопе сдавило ей сердце. Она только сейчас почувствовала, как дорог ей этот славный, замечательный парень.
— Так это вы? — словно не доверяя своим глазам, тихо спросил Лев Михайлович.
Сняв папаху, он присел на лавку около стола. Неторопливо расстегнул планшетку и, достав блокнот, что-то записал.
Зина заметила, как лицо генерала на секунду осветилось скрытой улыбкой и вновь приняло задумчиво-строгое выражение. Внезапно вскочив, Доватор быстрыми шагами подошел к печке и, ухватившись рукой за приступок, мягко, с глубокой задушевной проникновенностью сказал:
— Знаете, милая девушка, я никогда не удивлялся подвигам наших советских людей, а только радовался. Вот и сейчас я искренно радуюсь вашему смелому поступку. И благодарю вас от всего сердца. Вы даже сами не знаете, какой подвиг вы совершили.
— Да что вы, товарищ генерал. Разве я одна это сделала?.. Там остался командир отделения... Стакопа. Вы знаете?
— Мне все известно, — кивком головы остановил ее Доватор. — Не нужно рассказывать. Я говорил с Громовым. Молодцы! Немца допросил. Сведения, которые вы принесли, дадут нам возможность сохранить сотни жизней.
Взглянув на девушку, Лев Михайлович вдруг замолчал.
Зина сидела над остывшей чашкой чаю, склонив голову, с закрытыми глазами.
— Вы очень устали? — негромко спросил Доватор. Густые брови Льва Михайловича сошлись у переносицы.
Зина не слышала его вопроса. Невнятно что-то проговорив, она прислонила голову к печной трубе, улыбнулась, по-детски всхлипнула и заснула. Из упавшей набок чашки по черному ворсу бурки бежала струйка малинового чая.
Лев Михайлович осторожно взял чашку и поставил ее на стол. Он отлично понимал, что дело здесь было не только в усталости. Он сам не спал уже третьи сутки. Однако для военного человека это было обычно. А здесь он видел другое: сильное душевное напряжение Зины сменилось неодолимой слабостью, похожей на забытье.
В сопровождении адъютанта вошел генерал Атланов. Увидев Доватора, он громко сказал.
— Лев Михайлович, все готово! Осталось только перекусить.
— Тише, — Доватор предупредительно махнул рукой и показал глазами на печь.
Зина, шевеля губами, спала, как ребенок.
— Все равно сейчас придется разбудить, — проговорил комдив. — Скоро начнется артподготовка, а пока надо покормить ее. Ведь ей придется вести людей на то место, где остался Стакопа. Может, он еще жив. Она отлично знает дорогу. Шевчуку поставлена задача — сбить заслон и прорваться в тыл. Там противник не ожидает удара.
— Пусть хоть десять минут поспит, — взглянув на часы, тихо проговорил Доватор.
— Да я, товарищ генерал, не сплю, — неожиданно раздался голос Зины.
Путаясь в неуклюжей широкополой бурке, она спрыгнула на пол и, повернувшись к Доватору, сказала:
— Я и не спала, так немножко только задремала. Извините меня... Очень озябла. Я все слышала.
— Вот и отлично, раз слышали! — сказал Доватор. — Вы только покажите дорогу. Я знаю, что вы устали, измучены, но понимаете, как это необходимо. Там человек... его надо выручить.
— Я все понимаю, товарищ генерал! — горячо проговорила Зина. — Это такой замечательный парень!
Она неожиданно смолкла и посмотрела на генералов. Потом, превозмогая душевную боль, добавила:
— Я только сейчас поняла, как благородно он поступил.
— Да, он поступил, как настоящий воин! — лицо Доватора стало суровым и задумчивым. Взгляд его потемневших глаз таил в себе глубокую печаль. Этот человек умел ценить людей и понимал, что значит настоящий геройский поступок.
— Ну, что ж, на войне, как на войне, — сказал Лев Михайлович, ни к кому не обращаясь. — А сейчас начнем новый день,
На улице брезжил рассвет, и в окна, чуть пламенея от далекой зари, входило новое утро.
Перед началом артиллерийской подготовки Доватор послал Шаповаленко за командиром батареи, капитаном Мхеидзе. Одновременно он приказал зайти к офицерам связи и передать лейтенанту Поворотиеву, чтобы он срочно явился в штаб.
Филипп Афанасьевич теперь находился в личной охране Доватора, всюду его сопровождал, часто выполняя обязанности связного, посыльного и ординарца.
В комнате, где должен был находиться комбат, Шаповаленко застал только девушку и пожилую женщину — хозяйку дома. В расстегнутом полушубке девушка сидела за столом и аппетитно грызла армейский сухарь, запивая его молоком.
— Здесь находится капитан Михеидзев? — молодцевато придерживая рукой шашку, спросил Шаповаленко.
— Да, здесь. Но его сейчас нет. Он на наблюдательном пункте, скоро должен быть, — обернувшись, бойко ответила девушка, с любопытством рассматривая седоусого бородатого казака в крутоплечей бурке.
Взглянув на девушку, Филипп Афанасьевич широко открыл глаза. Перед ним сидела Феня Ястребова, он узнал ее по фотографии, которую бережно хранил вместе с письмами.
— Что это вы так смотрите на меня?
Феня смущенно отодвинула недопитый стакан молока.
— Да потому, что не доверяю своим очам. Чи это вы, чи в мои очи чорт песку кинул!
— А откуда вы меня знаете?
— Ось, як знаю! — Филипп Афанасьевич поднял кверху большой палец. — Да кто же вас не знает? Вся дивизия знает. Потому что вы прислали подарок и карточку. А достались они одному хлопчику... Ничего хлопчик, бравый... Он то карточку всякому поперечному показывал. Он вам письма пишет. Фамилия ему Шаповаленко. Есть у нас такий ловкач...
— Правильно! А вы его знаете? — Феня вскочила со скамьи и шагнула к Шаповаленко. — Знаете?
— Да як же не знаю! — Филипп Афанасьевич широко развел руками. — Як же не знаю! Вместе живем.
— А лейтенанта Поворотиева тоже знаете? У вас ведь одинаковый номер полевой почты.
— Поворотиев? — настороженно спросил Шаповаленко. — Он вам тоже пишет?
— Все время. Даже фотографию прислал. Очень славный парень. А Салазкина вы не знаете? Он тоже часто пишет.
— Ну, той, звестно, писарь. У него и должность писарская.
— А Шаповаленко чудной, наверное, да?
— Як это чудной? — опешил Филипп Афанасьевич.
— Да знаете... — Феня весело рассмеялась. — Очень забавные и странные письма присылал. В любви объяснился, предлагает приехать на фронт и пожениться. Правда, одно письмо прислал очень хорошее. За подарок поблагодарил, а второе такое глупое...
— Ну, це брехня... — возразил Филипп Афанасьевич, багровея.
Он уже начинал понимать, что во всем этом кроется чей-то подвох, но ему и в голову не приходило, что с ним могли сыграть такую злую шутку.
— Не может того быть! — заявил он категорически.
— Честное слово! — подтвердила Феня. — Я даже хотела отослать его обратно или направить командиру части. Пусть бы он такое дурацкое письмо прочитал вслух его товарищам, чтоб посмеялись над ним хорошенько. А потом раздумала. Не хотелось обижать фронтовика... Я когда прочитала подружкам, так они чуть со смеху не умерли.
— Да это же знаете, знаете... — Шаповаленко от возмущения даже не находил слов.
— Конечно, нехорошо писать такие письма, — согласилась Феня. — Вы, значит, хорошо знаете Шаповаленко? Так передайте ему это письмо. — Феня достала из кармана гимнастерки конверт и передала Шаповаленко.
Вошел капитан Мхеидзе. Передав ему записку Доватора, Филипп Афанасьевич, смяв в кулаке письмо Фени, выскочил из хаты, точно ошпаренный.
Придя в штаб и быстро доложив генералу о выполнении приказания, он ушел на конюшню и, присев около своего Чалого на кормушку, достал из конверта смятое письмо. Разгладив его на коленке, он приступил к чтению.
С первых же строк по обороту речи, замысловатым выражениям и ловко подделанному почерку Филипп Афанасьевич понял, что письмо — дело рук писаря Салазкина. Письмо начиналось так:
«Разлюбезная моя лапочка, синеглазая лесная птичка Фенечка! Примите от мине мое фронтовое кохание, от чистого сердца и храбрейшей души, як мой конь Чалый принимает от мине торбу с ядреным овсом...»
Прочитав такое излияние, Шаповаленко крякнул и зажмурился. Если бы сейчас попался ему писарь Салазкин, то он, наверное, не только бы вывел его за воротник из палатки, как это сделал, будучи три дня на должности каптенармуса, но надавал бы еще по шее.
— В глотку тоби горсть сухой половы, бумажная твоя душа!..
«Дорогая моя пышечка, сибирочка. Ваши губки так же, наверное, сладки и вкусны, як сибирские пельмешечки, — закипая гневом, продолжал читать Филипп Афанасьевич, — чует ли ваше серденько, як ожидает вашего на фронт приезду любезный вашим глазкам краснознаменный герой, гроза фашистов и всей ихней империи, а может, и более, — Филипп Шаповаленко? Як вы только приедете, он назовет вас своей охвициальной подругой жизни до спокон веков и второго происшествия иль открытия второго фронта.
Низко кланяюсь, целую вас. Ваш будущий нареченный супруг для щастливого кохания.
Филя».
— Щоб тоби, писарий сын, який мабуть бык покохал рогами в бок! Вот, Чалый, послухай... — Филипп Афанасьевич погладил коня по загривку, — послухай, як поросячья душа, Салазкин, прописал нас вместе с тобою. Ну ж, подожди, халява проклятая, я ж тоби пропишу пельмешки з перчиком! А писульку эту мы побережем. Пригодится...
Лейтенанта Поворотиева адъютант командира дивизии задержал на кухне.
— Подождите немного, завтракают, — сказал адъютант.
— Меня вызвал генерал Доватор. Может быть, срочно, доложите, что я прибыл, — настойчиво проговорил Поворотиев.
Доватор услышал разговор, приоткрыл дверь и позвал лейтенанта в горницу. Там, кроме генерала Атланова, за столом сидели капитан Мхеидзе и Феня Ястребова.
Узнав девушку, Поворотиев резко остановился. Не замечая протянутой руки Доватора, он широко, по-детски улыбнулся.
— Здравствуйте! — наконец громко проговорил Лев Михайлович.
— Да, да, извините! Здравствуйте, товарищ генерал. Чувствуя всю нелепость своей выходки, Поворотиев вспыхнул и замолчал.
— Вы не с похмелья ли, милейший?
Доватор легонько отвел руку лейтенанта от козырька и, не выпуская ее из своей, пытливо посмотрел растерянному лейтенанту прямо в глаза.
— Нет, на самом деле, Иосиф Александрович? — обернувшись к Атланову, спрашивал Лев Михайлович. — Может, он запивает?
— Не замечал.
И комдив, не удержавшись, громко рассмеялся.
— Но почему у него такая меланхолия? Я ему руку подаю, а он...
— На девушку засмотрелся, — лукаво объяснил Атланов.
— Здравствуйте, товарищ Поворотиев... — поднимаясь из-за стола, неожиданно проговорила Феня и, протянув руку, шагнула навстречу лейтенанту. — Вот мы и встретились!
Лицо Фени горело жаром яркого румянца. Она сразу поняла, в чем дело, и пошла на выручку лейтенанту.
— Вот оно что!.. — улыбаясь, протянул Доватор. — Когда же вы успели познакомиться?
— А мы, товарищ генерал, давно знакомы. Учились вместе, — быстро ответила Феня, решив маленькой неправдой сразу же покончить с неловким положением.
— Да, товарищ генерал, давно знакомы. Какая неожиданная встреча... — бормотал Поворотиев, пожимая руку девушки.
— Ну, так бы и сказали сразу, — перебил его Доватор — А то стоит, улыбается... Ну, что ж, добре. Не забывайте этих встреч. После войны припомните, будет еще радостнее, еще веселее... А сейчас...
Лев Михайлович оглядел ловко сидевшую на лейтенанте кавалерийскую венгерку, тронул его за локоть и спросил:
— Знаки различия имеешь?
— Имею, товарищ генерал, полностью. Четыре на воротнике, четыре в «НЗ».
— Это хорошо, что в запасе имеешь. Командующий войсками Западного фронта присвоил тебе звание старшего лейтенанта. Привинти еще два кубика. Да быстренько к полковнику Бойкову. С наблюдательного пункта будешь следить за атакой. В боевые порядки итти запрещаю. Сфотографируй момент атаки. Донесение со связным немедленно. Оно должно быть коротким, толковым и с выводами. Оттуда на высоту 147 к Абашеву. Вместе с эскадроном Шевчука прорвешься на соединение с Осиповым. Задача: немедленно эвакуировать всех раненых. Командир полка утомлен. Ему надо помочь. Когда будешь на месте, составишь донесение. Со связным пришлешь его сюда. После этого мы срочно направим машины. Ну, а сейчас, — посматривая на притихшую Феню, сказал Лев Михайлович, — позавтракай с нами и поговори с землячкой. Ты, наверное знаешь, какие подарки она привезла. Ординарец у тебя есть?
— Нет, товарищ генерал. Был, да ранили.
Доватор задумался. Он знал, что сейчас каждый человек дорог. Людей не хватало.
— Ладно, возьмешь моего Шаповаленко.
«Шаповаленко!» — чуть не вырвалось из уст Фени, но она во-время сдержалась.
Наблюдательный пункт Абашева находился на высоте 147. Густое мелколесье осинника приглаживал резкий напористый ветер, а за отдаленной кромкой темного леса начинало ярко пламенеть восходящее солнце. Было холодно.
Абашев стоял с начальником штаба под высокой густой елью, вздымавшейся над молодой порослью. Старший лейтенант Шевчук, слушавший распоряжение комиссара, отмечал на карте ориентиры и уточнял маршруты движения.
— Я, товарищ батальонный комиссар, не вижу на карте дома лесника, — проговорил Шевчук, стуча карандашом по планшетке.
— Если бы он там был, то мы не давали бы тебе проводника, — ответил Абашев. — Эта карта выпущена в тридцать девятом году, а дом, очевидно, построен позднее, поэтому и не угодил сюда.
— Откуда проводник? — спросил Шевчук.
— Женщина из соседнего колхоза, — ответил Почибут.
Заметив на лице командира эскадрона презрительную гримасу, начштаба усмехнулся.
— Мужчин нема, чи що? Затрусится баба, що з нею буду робыть?
— Не баба, а девушка. Смотри, влюбишься, — лукаво подмигнул Абашев, с нетерпением поглядывая на часы.
— Не шуткуйте, товарищ комиссар. У меня незадача, а вы мне якусь дивчину... Коли вона злякается — в карман я ее запихну, чи що?
Резкий переход на чисто украинский язык служил признаком того, что Шевчук раздражен.
Незаметно подошедшая Зина, услышав последние слова, настороженно остановилась.
— Можешь быть спокоен. Не испугается, — возразил Абашев и, увидев Зину, пошел ей навстречу. — Здравствуйте, товарищ Ковалева.
— Здравствуйте, товарищ комиссар. — Зина неловко пожала протянутую руку, искоса поглядывая на высокого, в кавалерийской венгерке командира.
— Это вы будете Шевчук? — в упор спросила она.
— Вы не ошиблись. Именно так прозываюсь с детства, — ответил Кондрат, оглядев Зину с головы до ног. «Полушубок чистенький, сапожки новенькие. Форсишь, дивчина, хоть бы валенки надела, замерзнешь, як на бережку рыбка», — думал он, забыв о том, что только два дня тому назад сменил щегольские со шпорами сапоги на белые огромных размеров валенки.
Зина, заметив их и вспомнив предстоящий поход через болото, молча усмехнулась. Абашев отозвал ее в сторону и примирительно сказал:
— Не обращайте внимания, что он так покосился на вас. Товарищ резковат, с женщинами ладить не умеет. Но командир опытный, а главное — смелый. Только вы с ним поменьше спорьте.
— Ничего, товарищ комиссар, поладим. Разрешите двигаться?
— Ну, что ж, пора...
Обернувшись к Шевчуку, Абашев спросил:
— У вас все готово, товарищ старший лейтенант?
— Так точно, товарищ батальонный комиссар.
— Так вот... — заговорил строгим голосом Абашев, — действовать быстро, напористо, но осторожно и умно. В остальном, как написано в приказе, понятно?
— Понятно, товарищ батальонный комиссар.
А в приказе было написано коротко: «Четвертому эскадрону наступать в направлении на северо-запад. В 6.00 выйти болотом к дому лесника, сбить противника и в 9.00 сосредоточиться в районе отметки 196, установив связь с командиром полка».
— Дорогу хорошо знаете? — обращаясь к Зине, спросил Шевчук.
— Хорошо знаю, — ответила Зина резко. Ее начинал раздражать недоверчивый, полупрезрительный тон этого заносчивого верзилы. Хотелось наговорить дерзостей. «Как он смеет после такого похода не доверять мне», — возмущенно думала Зина.
— Вот так и надо отвечать, — не оборачиваясь, заметил Шевчук.
О ночном подвиге он знал. Но о том, что его совершила эта самая девушка, ему и в голову не приходило.
— Если я была на том месте час тому назад, то, наверное, помню его и найду, — все более раздражаясь, проговорила Зина.
— Вы были там час тому назад?
Шевчук остановился, круто повернувшись к девушке.
— А вы что, с неба упали? — резко ответила Зина, давая знать, что больше не хочет говорить на эту тему.
Еще до рассвета эскадроны Шевчука и Биктяшева сосредоточились на высоте 147. Эту заросшую густым кустарником высотку противник несколько раз пытался захватить и установить на ней пушки для обстрела Волоколамского шоссе, но был отбит. Теперь он полукольцом охватывал ее с двух сторон, намереваясь войти в стык между дивизиями Панфилова и Атланова, не подозревая, что в центре его наступательной группы к контратаке готовились эскадроны Шевчука и Биктяшева. Правее, в направлении Шитково, должен был нанести удар батальон панфиловцев и полк Бойкова. В наступлении принял участие резервный полк Жмякина.
Всей операцией руководил генерал Атланов. Атака должна была начаться после залпа гвардейских реактивных минометов.
Весть о прибытии каких-то необыкновенных и страшных по своей силе пушек мгновенно облетела все подразделения. Политрук Рябинин, обходя расположившиеся вдоль лесной проселочной дороги взводные колонны, слышал самые разноречивые толки.
— Бьет эта самая штуковина без всякого грохота и шума, — говорил черночубый кубанец Мишка Сидоренко. — Ты сидишь и ничего, стало быть, не чуешь, вдруг на голову тоби чемодан, раз — и все растерзало... Ни кишочков, ни потрошочков...
— А ты откуда знаешь? — спросил кто-то с сомнением в голосе.
— От батарейцев слыхал. Им, браток, все известно. Народ ученый.
— Неправда. Мне рассказывали не так, — возразил пулеметчик Криворотько. — Сделана эта пушка, и даже не пушка, а прибор, самым простым манером — вроде обыкновенной железной бороны «зиг-заг» с ребрами. Кладется на эти ребра снаряд, похожий на гриб. Ну, конечно, само собой, все работается электричеством. Включается рубильник, и снаряд летит в воздух. В снаряде, стало быть, имеется стабилизатор и небольшой, с пропеллером, моторчик, который начинает работать и везет снаряд, куда положено. Прилетает этот гостинчик до определенного места, снижается, и трах — все вдребезги...
— Тю! От же брехня! — Мишка Сидоренко смачно сплюнул и отвернулся.
— Брехня не брехня, но почище будет твоего чемоданчика...
Рябинин улыбнулся и удовлетворенно заметил, что настроение у людей бодрое. Увидев политрука, бойцы притихли.
Начинало светать. По верхушкам деревьев пробежал ветерок и швырнул с веток на каски бойцов и за воротники полушубков рассыпчатые хлопья снега.
Привязанные кони, почуяв приближение утра, встряхивая седельными вьюками, беспокойно переступали с ноги на ногу. Рябинин присел около станкового пулемета.
— Долго еще ждать-то, товарищ политрук? — спросил Криворотько.
— Еще немного, — посмотрев на часы, ответил Рябинин.
— Разрешите, товарищ политрук, обратиться. Говорят, будто бы товарищ Сталин прислал нам какие-то необыкновенные пушки, и разят они фашистов под чох. Правда это или нет? — приглушенно, давясь махорочным дымом, спросил Сидоренко.
— Так точно, товарищи, эти новейшие пушки здесь. Они будут поддерживать нашу атаку.
Политрук оторвал от газеты четвертушку бумаги, свернул цыгарку и закурил.
— Что же это за пушки? Как они бьют? — продолжал расспрашивать Сидоренко.
— А вот сегодня увидим, как они будут стрелять.
Рябинину самому не терпелось посмотреть на работу «катюши». Вдвоем с Шевчуком они пытались подойти к закрытым брезентом машинам, но часовой строго окрикнул их и скомандовал «кругом». Сейчас Рябинин чувствовал некоторую неловкость перед бойцами, потому что не знал, как на самом деле действуют новые орудия.
— Пушки эти строжайше засекречены, — сказал он внушительно, — и немцы скоро узнают силу сталинской артиллерии.
Но договорить он не успел. Предутреннее лесное затишье разорвал страшной силы гром. Над лесом с визгом пронеслись ослепительные молнии. Стоявшие под деревьями кони, точно от непомерной тяжести, склонили головы, а некоторые присели на колени; даже назойливый ветер, словно чему-то удивившись, перестал качать верхушки деревьев.
Бойцы, ничего не понимая, оторопело смотрели друг на друга.
— Это что же такое, братки, делается? — зябко пожимая плечами, спросил Сидоренко.
— Новые пушки бьют... без шуму и буму... как ты рассказывал, — приподнимаясь, ответил Рябинин и, отряхнув с полушубка снег, с радостной возбужденностью добавил: — Приготовиться к движению!
Два последовавших один за другим оглушительных залпа резкими толчками встряхнули землю, и ослепительные молнии с яростным визгом пронеслись над лесом. Казалось, что и земля и небо разрываются на части.
Прилегший было отдохнуть Осипов подскочил и, крякнув, бросился к телефону. Он долго не мог вызвать командный пункт батареи Ченцова. Дежуривший на командном пункте сержант Алексеев почувствовал, как ползет земля и трещит накат. Он едва извлек телефонный аппарат, как блиндаж обвалился. Снаряды рвались в трехстах метрах от блиндажа.
— Ченцов, — кричал Осипов в трубку, — Ченцов!
Но телефон молчал. Схватив другую трубку, Антон Петрович быстро соединился с эскадроном Рогозина. Там никто не спал.
— Вы слышите? — хрипло кричал Осипов Рогозину. — Чуете?
— Слышим, товарищ подполковник, — отвечает Рогозин. — Что это? Землетрясение? Ничего не понимаем! Немцы галдеж подняли, как будто у них под ногами вулкан извергается.
— Это товарищ Сталин поздравляет нас с добрым утром. Будь, милый, наготове: скоро начнем. Почему молчит ваша батарея? Пошли людей узнать, в чем там дело.
Антон Петрович, положив трубку и потирая озябшие руки, крикнул адъютанта, приказав разбудить лейтенанта Головятенко.
Осипов бодрствовал, и усталое сердце его вновь забилось облегченно и радостно. Оно пело, и весь он загорелся той необыкновенной решимостью и отвагой, которые творят чудеса.
Наступало утро новой битвы.
Анализируя после допроса пленного создавшуюся обстановку, Доватор понял, что немецкое командование сейчас поставлено в критическое положение. Передвигаться на узком участке прорыва, имея у себя в тылу активно действующие эскадроны Осипова, для противника было опасно. Действующая против кавалерийских полков генерала Атланова дивизия полковника Готцендорфа понесла значительные потери и имела слабо обеспеченные фланги и тыл. Ее левому флангу угрожали части генерала Панфилова, на правом устойчиво оборонялась кавалерийская дивизия генерала Медникова.
Пленный немецкий офицер показал, что его командование вынуждено срочно изменить весь оперативно-тактический план. Корпус генерала Гютнера имеет задачу развернуть активные действия на флангах дивизии Готцендорфа против дивизий Панфилова и Медникова. Туда сейчас подтягиваются свежие резервы. Для обеспечения генерального наступления немецкое командование намерено закрепиться на Язвищенских высотах и захватить господствующее положение над Волоколамской магистралью. Для того чтобы сорвать этот замысел немцев, Доватор предложил штабу армии свой план.
По этому плану в момент наступления его полков одна из резервных танковых бригад должна произвести демонстративный маневр в районе расположения тылов корпуса и этим самым заставить немцев начать новую перегруппировку. Командование приняло план Доватора.
В начале ноября наши танки, парадно пройдя по Волоколамскому шоссе, сосредоточились в районе Гряды — Чисмено... Днем их «засек» немецкий самолет-разведчик и сфотографировал, а ночью они ушли. Тем временем немцы начали срочную перегруппировку и приостановили атаки. Все имеющиеся в резерве подвижные группы стянули в направлении Шитьково — Морозово и Иванцово.
Нанося частые, одновременно в разных местах, контрудары, Доватор вводил немецкое командование в заблуждение, вынуждая гитлеровцев делать ненужные передвижения, сковывал крупные силы, давая возможность своему командованию накоплять армейские резервы. Упорное сопротивление Красной Армии под Москвой вызвало в среде германского командования серьезные колебания и разногласия.
Несмотря на громогласное заявление Гитлера о скором взятии Москвы, влияние сторонников молниеносной войны падало. Но немцы еще верили, что с падением Москвы они получат удобные зимние квартиры, отдохнут, пограбят, попьянствуют, как в Париже, а там, глядишь, и война кончится.
Для успешного завершения начавшейся два дня тому назад операции на командный пункт немецкой дивизии, осуществившей прорыв в районе Петропавловское, прибыли начальник штаба Штрумфа генерал Эрнст Рихарт и командир пехотного корпуса генерал Гютнер.
— Если мы до сего времени не овладели высотой 147, то захват ее в дальнейшем будет еще более затруднительным, — слушая доклад командира дивизии, проговорил Рихарт.
Высокий, длиннолицый, гладко выбритый полковник Готцендорф утвердительно кивнул головой и; взглянув своими кабаньими глазами на молчавшего генерала Гютнера, продолжал:
— Части моей дивизии в данный момент занимаются ликвидацией окруженной в лесу группировки красных. Сплошной лес и заболоченная местность не позволяют развернуться и активно действовать танковым подразделениям. Пользуясь преимуществом маскировки, противник упорно сопротивляется. Нужна основательная обработка с воздуха...
— Бомбардировка огромного лесного массива не всегда дает положительные результаты, — сухо заметил Гютнер. Он был недоволен ходом всей операции и нервничал.
Дивизия Гютнера при поддержке танков вначале имела успех, но дальнейшее продвижение затормозилось. Окруженные эскадроны сильными контратаками нанесли дивизии значительные потери и срывали весь ход планомерно задуманной операции. Выдвинувшемуся к Волоколамскому шоссе клину угрожала фланговая контратака дивизии Панфилова. Вводить в бой резервы корпусной командир не решался, имея в виду, что со стороны Красной Армии может последовать мощный оборонительный контрудар. Но генерал Рихарт не соглашался с его доводами.
— Это не может изменить положения, — возразил он. — Русские не замышляют большого контрнаступления в настоящий момент. Или, лучше сказать, они к нему сейчас недостаточно подготовлены. Имея в наличии подвижные части, как танки и кавалерия, отлично зная природные условия подмосковных лесных массивов, они обладают способностью быстрого маневра. Поэтому могут успешно отражать все наши частичные атаки. У меня создается впечатление, что мы совершаем крупную стратегическую ошибку. Мы позволяем русской армии залечивать раны и даем возможность перегруппироваться. Сейчас необходимо лишить русских этой возможности, то-есть быстро нанести удар на более широком фронте, например от Орла до Волоколамска.
Большой военный опыт научил генерала Рихарта угадывать создавшуюся обстановку не только по оперативным и разведывательным сводкам, но и по внешним признакам хода военных действий. Чем дальше фашистские армии продвигались в глубь России, тем отчетливей генерал Рихарт понимал и чувствовал непрочность тыла на оккупированных территориях. Непрерывно растущее партизанское движение создавало неумолимо страшную угрозу коммуникационным линиям на протяжении тысяч километров.
Партизаны, а также попавшие в окружение бойцы и командиры, не только истребляли гитлеровцев тысячами, но и срывали их важнейшие экономические и стратегические мероприятия. Партизаны уничтожали продовольственные базы, разрушали железнодорожные магистрали, отвлекали на себя огромную массу войск, более всего необходимых на растянутом фронте. Вот и сейчас небольшая группа окруженных в лесу кавалеристов сорвала важнейшую, хитро задуманную операцию, осуществление которой ставило под удар весь центр русской армии. Провал этой операции ставил начальника штаба в затруднительное положение. Он вызвал неоправданные потери и сводил на нет все достигнутые на этом участке успехи.
Но генерал Рихарт в трудный момент не боялся размышления. Он продиктовал категорический приказ: Петропавловское и Морозове во что бы то ни стало удержать, высоту 147 немедленно атаковать, подкрепив дивизию Готцендорфа резервными батальонами с сорока танками, а окруженную в лесу кавалерийскую часть непрерывно обстреливать и бомбардировать с воздуха, лишив ее возможности каких бы то ни было активных, действий.
Подписав приказание, генерал Рихарт выехал на рекогносцировку местности в район расположения наблюдательного пункта дивизии Готцендорфа. Через час он уже видел, как небольшой лесной массив юго-западней Морозова стал наполняться колоннами солдат. Батальоны сосредоточивались на исходном положении.
Разведчики старшего лейтенанта Кушнарева Захар Торба и Павлюк, забравшись на елку, наблюдали, как в лес вместе с войсками, скрежеща гусеницами, втягивались перекрашенные в бледносерый цвет тупорылые громады танков. Пересчитывая их, Захар аккуратно записывал данные в блокнот и продолжал смотреть в бинокль.
В редком сосновом лесу между деревьями вспыхивали костры. Вокруг них в желтых маскировочных халатах, ежась от холода, подпрыгивали немецкие автоматчики, крича и размахивая руками. Вдоль опушки леса толстоногие куцехвостые битюги тащили орудия и высокие фуры с боеприпасами. Урча моторами и подпрыгивая на кочках, артиллеристов обгоняли мотоциклисты.
Вдруг странные, пронзительно визжащие молнии ослепили Захара. Завывающий, непомерной силы вихрь придавил его к стволу дерева и едва не сбросил на землю. На мгновение он ощутил странную пляску ствола, словно под его корнями заработал мощный мотор. Огромная старая ель, на которой сидели разведчики, дрожала, как в лихорадке. Каска тяжело давила на виски и, казалось, вот-вот расплющит голову. Захар приоткрыл глаза. Павлюк, оседлав ногами толстый сук, держался за ствол и глядел на Торбу широко открытыми, ничего не понимающими глазами.
Он хотел что-то сказать, но не успел... Сумасшедшие вихри и грохочущие молнии летали одна за другой через короткие промежутки. Теперь они проходили дальше, стороной.
Когда Захар немного опомнился и, приподняв со лба каску, посмотрел в район скопления немецких батальонов, он увидел, что там клокотал сплошной огненный водоворот. Разрывы, точно ураганы, поднимали на воздух разбитые в щепы деревья. Темные каскады земли взвивались выше леса. Над вздыбленными танками поднимались ворохи черного дыма. Ошеломленные гитлеровцы в ужасе, в паническом исступлении падали навзничь и зарывались в потемневший от копоти снег.
... — Что это значит? — стоя на наблюдательном пункте, спросил генерал Рихарт у полковника Готцендорфа.
Побледневший седой полковник, отвернув теплый воротник бекеши, только пожал плечами.
... — Что это значит? — дергая Захара Торбу за ногу, спросил Павлюк.
— А это значит... — с волнением подбирая слова, отвечал Захар, — это значит — обыкновенное явление, русские пушки. Коллективно работают... Штук тыща, а может, и поболее.
— Добре сработали, — тихо отозвался Павлюк: — у меня даже каска набок съехала.
— У тебя набок съехала, а у гитлеровцев они слетели вместе с головами.
В блиндаже подполковника Осипова радист Савка Голенищев, склонившись над передатчиком, передавал радиограмму:
«Координат 46/90 отлично. Полное истребление батальона пехоты противника. Координат 48/96 движение запад. Прошу несколько залпов. Координат 44/88 мое сосредоточение, иду охват Петропавловское. Меняю командный пункт. Передачу временно прекращаю».
— Все?
— Нет еще, товарищ подполковник, не все, — повернув голову к Осипову, проговорил Савка. — У аппарата генерал Доватор, он спрашивает: где будем завтракать?
— Где будем завтракать? — на лице Антона Петровича теплилась радостная и веселая улыбка. — Передай генералу, что завтракать будем в Петропавловском.
— Генерал спрашивает: а где будем обедать? — передавал Голенищев.
— Если генерал хочет, — отвечал Осипов, — можно пообедать в Немирове или Козлове.
— Генерал согласен пообедать в Козлове и спрашивает, что будет на закуску.
Савка, лукаво подмигнув Осипову, напряженно ждал.
— Передай, что на закуску обещаю Шитьково. А если будет тот же повар, который утром заварил всю эту кашу, то ужинать будем еще дальше.
Ординарец старшего лейтенанта Виктора Поворотиева вывел из калитки коня и подвел к крыльцу. Виктор стоял на нижней ступеньке и обматывал шею серым с голубыми клетками башлыком. Феня внимательно следила за всеми его движениями.
— Обождите, дайте я!
Стянув с рук беличьи рукавички, она зажала их под подбородком и, расправив концы башлыка, аккуратно завязала их на шее Виктора. Виктор всем существом своим чувствовал ее дыхание и теплоту пальцев.
Затянув концы башлыка, она отпустила их и несколько раз повторила одно и то же движение. Оба они молчат. Феня, прищурив глаза, размышляет, какой бы еще придумать узелок и завязать его пооригинальнее.
Виктору становится жарко. Он чувствует блуждающий в крови огонек, который зажгла два месяца тому назад эта известная ему только по фотографии девушка. Теперь она стоит рядом и с нежной заботливостью неторопливо поправляет концы его башлыка.
— Так лучше и красивее, — говорит она, любуясь на свою работу.
— Да, да, так лучше... благодарю... — соглашается Виктор, не видя и не зная, как там заправлено.
— Так это ваш конь? Ты всегда на нем ездишь?
Виктор смотрит на нее и прислушивается, правильно ли он расслышал это простое, ласковое и сближающее «ты».
— Да. Это мой конь. Его зовут Лысянкой, потому что, видите, у него весь лоб белый.
Конь нетерпеливо переступает ногами. Его рыжую шерсть взъерошил мороз. Ординарец выезжает уже верхом.
— Мне пора, — коротко замечает Виктор. — Мы еще увидимся?
— Да, конечно... — невпопад отвечает Феня. — Впрочем, не знаю, мы ведь на одном месте никогда не стоим.
— Ну, что ж, до свидания. — Виктор, откинув полу бурки, протягивает руку. Он хотел еще что-то сказать, но не сказал, а только с улыбкой пошевелил губами. От кухлянки Фени пахнет чем-то домашним, милым, забытым теплом и уютом.
— Там очень страшно, куда ты едешь? — спросила она тихо.
— Немного страшней, чем здесь. Но теперь мне будет не страшно, — говорит он, пожимая ее мягкую, горячую руку.
Торопливо разобрав поводья, Виктор вскочил в седло. Отъехав немного, он снова вернулся. Успокаивая коня, сказал:
— Мне не страшно, потому что я вижу тебя. Только не забывай, пиши. Если бы ты знала, что это такое... что такое получать на фронте письма!
— Я знаю, Виктор... — Феня с трудом перевела дыхание. Брови ее дрогнули.
Виктор, отпустив поводья, дал коню волю. Рыжий дончак, разбрасывая ошметки снега, помчал его вдоль переулка.
Уже светлело утро. Подходил холодный ноябрьский день. Скоро за краем леса ослепительно брызнет солнце и зажжет снег серебряными искрами.
Феня не подозревала, как мучительна может быть короткая радость встречи. Любовь, слышимая только сердцем, начинает до боли тревожить всю.
Удары «катюши» застали Поворотиева на проселочной дороге. Что-то ахнуло, ошеломительно, гулко, буйно, и пошло гудеть, перекатываться по лесу. Лес трещал, словно от налетавшего урагана. Конь стал спотыкаться и склонять голову к земле.
Когда Поворотиев прибыл в полк Бойкова, спешенные кавалеристы, подтянув подбородники касок, напряженно ожидали сигнала атаки. Над головами бойцов густо поблескивали привинченные к самозарядным винтовкам ножи штыков. По лесу шумно передвигались резервные эскадроны конницы, приданные Бойкову на случай конной атаки. Полковник, сбросив бурку, задирая разгоряченному коню голову, мчался от эскадрона к эскадрону. Штабные командиры едва успевают записывать его распоряжения.
«Батарею передвинуть на высоту 112, — диктует Бойков усатому, остроскулому, в мохнатой папахе капитану. — Как только очистим Морозово, немедленно туда старшин с кухнями и водой. Автомашины для раненых на просеку. Вывозить в санэскадрон в Покровское. Командирам эскадронов повторное, требовательное напутствие: передвигаться как можно быстрее, короткими бросками, не задерживаться долго».
Полковник вскидывает большие черные глаза и смотрит в упор на собеседника. Белки его глаз от напряжения и бессонницы покраснели, а в самих зрачках упорная, твердая решимость. Она подхлестывается перекатным гулом гвардейских минометов, возбужденными голосами людей, готовых по первому сигналу ринуться в бой.
Неожиданно артиллерийский гул замирает. Сознание давит непривычная тишина, напряженная, налитая суровой угрозой.
— Ракету! — коротко бросает Бойков усатому капитану. В воздухе с треском лопаются сигнальные ракеты. Над лесом взвиваются яркокрасные вспышки, и хриплый протяжный голос рвет напряженную тишину:
— Первый эскадрон! Вперед!
— Второй эскадрон!..
Старший лейтенант Поворотиев стоит на наблюдательном пункте рядом с полковником Бойковым и, не отрываясь, смотрит в бинокль.
По полю с громким криком «ура» густо растекаются цепи наступающих. Темные на снегу фигуры бойцов скатываются с бугорка в низкорослые, изодранные снарядами кусты ольшаника, к небольшой речушке. За нею на изволоке виднеется немецкая оборона.
Лихорадочно-торопливые пулеметные очереди то вспыхивают, то замолкают, то вновь разгораются с бешеной силой. Справа от атакующих эскадронов, из леса, в белых маскировочных халатах, волна за волной появляется панфиловская пехота.
— Панфиловцы пошли! — громко выкрикивает Бойков.
Он стоит в расстегнутом нараспашку полушубке, с раскрасневшимся лицом и наблюдает в бинокль.
— Хорошо идут, хорошо!
В окулярах бинокля мелькают серые группки немецких солдат. Они поспешно отходят к зеленеющим елям.
Полковник, оторвав от глаз бинокль, круто повернувшись к усатому капитану, приказывает:
— Эскадронам приготовиться к атаке!
Сунув бинокль в футляр, Бойков сбрасывает с плеч полушубок.
Полевые ремни ловко обтягивают его крупную, в темнозеленой телогрейке фигуру. Придерживая рукой шашку, он сходит с наблюдательного пункта и направляется к своему коню.
Офицер связи, старший лейтенант Поворотиев, опустившись на одно колено, пишет генералу Доватору немногословное донесение...
Артподготовка все еще продолжается.
Над болотом серая белесая мгла. В удушливых облаках тумана едва заметно чернеет редкий искривленный сосняк. Шевчук и Рябинин вышли вперед обследовать местность. Зина привела эскадрон Шевчука на то место, откуда они вышли ночью. В глубоких следах разворошенного снега и земли уже стеклянел молодой ледок. От болота веяло мертвой тишиной и затхлостью.
Шевчук попробовал встать валенком на мшистую кочку и тут же провалился по колено в воду.
— Тю-ю!
Кондрат, сплюнув, отошел в сторону и, присев на пень, начал перематывать портянку. Скосив глаза на добротные сапоги Зины, он кивнул головой и улыбнулся. Поманив к себе старшину, отдал какое-то приказание.
— Пока туман не разошелся, надо войти в болото и отыскать Стакопу. Может, он ранен... — говорила Зина Рябинину.
— Да, надо торопиться, — согласился Рябинин, всматриваясь в туманную муть.
Подошел Шевчук и, посасывая трубку, вынул из полевой сумки карту.
— Ну, как думаешь, Кондрат Христофорович? — спросил Рябинин.
— Пока ни як... — уклончиво пожал плечами Шевчук.
Решение у него созрело еще дорогой, но он, глядя на карту, продолжал что-то обдумывать. Зину возмущала эта медлительность.
— Быстрей нужно. Там же человек... — проговорила она отрывисто.
— Там один человек, а у меня сто. Вы не волнувайтеся, барышня. Все будет у порядке, — ответил Шевчук, сипя потухшей трубкой.
— Имеет сто человек и медлит. Мы, трое... — не унималась Зина.
На ее реплику комэска не обратил ни малейшего внимания.
— По-моему, надо разбить эскадрон на несколько групп, — предложил Рябинин.
— Совершенно верно. Я тоже так думаю, — подтвердил Шевчук. — Малую группу направим по этому следу. Три группы по десять человек пойдут вот здесь, — комэска показал на нарисованные красным карандашом стрелки. — Большая группа с пулеметами останется здесь для прикрытия, а зараз можно отдохнуть и перекусить.
Шевчук полез в карман за кисетом и начал спокойно набивать трубку.
— Да когда же мы пойдем? — с сердцем спросила Зина.
Ей казалось, что командир эскадрона нарочно тянет, чтобы вывести ее из терпения.
— Еще успеем... — нехотя отозвался Шевчук и, обернувшись к Рябинину, продолжал: — Тебе, Костя, придется остаться с пулеметами. Я пойду с первой группой.
— Зачем тебе итти с первой группой, можно послать командира взвода, — возразил Рябинин.
— Мне надо быть там самому, чтобы побыстрей ликвидировать этот домишко. Когда я это сделаю, дам сигнальную ракету. Ты поднимешь вторую половину и двинешься.
— А если у тебя не выйдет?
— Должно выйти. Они здесь не ждут нападения. Они полагают, что в болото никакой дурак не полезет.
— Полезли ночью да еще пленного провели, — заметила Зина.
— Це, барышня, другое дило. Когда из тыла идут, согласны в игольное ушко лезть, — немцы это знают.
Не дожидаясь окончания артподготовки, Шевчук, выделив группы, двинул их к дому лесника в четырех направлениях; одну из них он возглавил сам.
Зина только теперь поняла, как умно и осторожно действовал Шевчук. Пока он обдумывал решение, бойцы связали из ржаных снопов маты. Когда вошли в болота, их клали на топкое место и бесшумно переползали по ним.
Посреди болота нашли мертвого Стакопу; неподалеку лежала застреленная немецкая собака. Зина видела, как Шевчук, приблизившись к Стакопе, закрыл ему лицо вязаным подшлемником и, не оглядываясь, пополз дальше.
Первым достигнув края болота, он залег в кустах. Артиллерийская подготовка закончилась. Немецкий часовой, настороженно прислушиваясь к грохоту пулеметной стрельбы, медленно ходил вдоль стены. Здесь находилась специальная немецкая застава, охранявшая проложенный через заболоченную речушку мост в направлении Данилково, через который немецкое командование переправляло войска на Морозове.
Выстрелом из автомата Шевчук убил часового и поднял тревогу. Находившиеся в избе немцы стали выбегать во двор, но тут же были перебиты.
Быстро переправив через болото весь эскадрон, Шевчук овладел мостом и сжег его. Немцы, теснимые полком Бойкова и панфиловцами, были прижаты к речке и почти полностью уничтожены. Южнее Морозова и северо-западнее Петропавловского «катюши» накрыли до трех батальонов вражеской пехоты.
Полк Осипова контратаками с тыла нанес гитлеровцам страшные потери.
Немцы оставили на поле боя сотни убитых. К исходу дня положение на всем участке было восстановлено.
Бой кончился. Эскадрон Шевчука занял оборону по западной окраине села Петропавловское. Тут же батарейцы Ченцова расположили свои пушки. Криворотько, очистив старый окоп, установив свой пулемет, принимал гостей. По старой дружбе пришли Буслов и Павлюк. Явился и Савелий Голенищев, тянувший на артиллерийские позиции связь.
— Будущей гвардии километровый привет! — влезая в просторный, застеленный соломой окоп, проговорил Голенищев.
— Здорово, герой! — крикнул Буслов, освобождая место рядом с собой.
— Да какой же я герой!
— А кто бронетранспортер захватил?
— Пропади она пропадом, эта чортова коробка! — Савелий презрительно сплюнул. — Из-за нее чуть на тот свет не зашифровали. Пришлось бы родичам на мою физиономию черную каемку наводить. А все за глупость мою. Если батьке рассказать, он, наверное, меня выстегал бы.
— Что так? — хохоча, спрашивал Криворотько.
— Да понимаешь, уселся я в этот дурацкий вездеход, завладел этой машиной, думал, буду на ней телефонные катушки возить. Штука весьма удобная, А тут немцы — раз, и причесали. Если бы не разведчики вот с моим, землячком... — Савелий толкнул Буслова локтем в бок. — Если бы не землячок, быть бы мне на стенке в черной окаемочке... Слушайте, землячки, а из какого это вы грохала немца колошматили?
— .Да, да, в самом деле? — поддержал Буслов. — Летит какая-то огненная туча.
— Да не туча, — возбужденно продолжал Голенищев. — Мне показалось, будто черти всю адскую механику наизнанку вывернули. Пошел чинить повреждение, ка-ак загугулили!.. Я носом в землю. Головы не чую. Снесло, думаю, вместе с каской, шут дери...
— Слушайте, землячки, дружка моего, Васю Громова, не встречали?
— Встречали. Ранен Громов, — ответил Сидоренко.
— А Захар Торба? — спросил Криворотько.
— Захар жив. Чего ему делается! Десятка три гитлеровцев ухлопал.
— А Костя Уваров? А Стакопа?
— Убили Костю сегодня, а Стакопу вчера...
На минуту как будто солнце нырнуло за тучу. На лица бойцов легла хмурая тень. Это было короткое, но великое молчание, полное печали и гнева.
— Сухарика, хлопчики, нет ли у кого? — спросил Голенищев. — У меня есть бутылочка. Поминки справили бы.
— Нет ничего, — ответил Криворотько. — Я свой «НЗ» на патроны променял. Сухари выйдут, можно обойтись, а вот если патроны кончатся...
Вдруг кто-то, быстрый и ловкий, прыгнул в окоп, накрыв Буслова и Голенищева полами бурки.
— Вот леший! — ворчливо крикнул Савелий. — Что мы тебе, цыплаки, что ли?
— Не цыплаки, а орлы!
Голенищев поднял голову и ахнул: в окопе стоял Доватор.
— Смирно! — исступленно гаркнул Голенищев, вскакивая.
— Вольно, вольно! — усаживая его на место, проговорил Лев Михайлович. — Ну, где твоя бутылка? Давай чокнемся!
— На узле связи, товарищ генерал. Я мигом.
— Когда привезли? Порционная? — спросил Доватор.
— Никак нет. Трофейная, — смущенно ответил. Савелий.
— Трофейную гадость не пью и тебе не советую. Ну, как, ребята, — значит, кухни нет и горилки нет? Плохо дело! Дрались вы отлично, а вот старшины вас голодом морят. Это никуда не годится. Ну, да ничего, мы это дело поправим. Председатель колхоза Никита Дмитриевич Фролов жертвует нам корову. Закатим пир. А сейчас вот что, орлы, окопы надо превратить в надежные укрытия. Побольше навалить бревен, углубить ходы сообщений. Сегодня мы прогнали фашистов, завтра они снова полезут. Надо их по-настоящему встретить. Знаете кавалерийскую поговорку: пока не кончилось сражение, коней не расседлывают...
— Скажу я вам, землячки, от чистого сердца, — промолвил после ухода Доватора Савелий, — генерал у нас свойский.
— А ты что думал? — сказал Буслов, поднимаясь с земли. — Будем, хлопцы, крепкую оборону строить.
Через несколько минут застучали топоры, зазвенели пилы, на снег полетела белая смолистая щепа.
Заняв Петропавловское, подполковник Осипов остановился в доме Никиты Дмитриевича Фролова. Вскоре туда приехали Доватор и Абашев. Увидев шагнувшего через порог Доватора, Антон Петрович, соскочив с кровати, пошел к нему навстречу.
— Здоров? — с неожиданной мягкостью в голосе спросил Лев Михайлович.
На почерневшем, изнуренном лице Антона Петровича засияла радостная улыбка.
— Вполне здоров, товарищ генерал, — ответил он негромко.
— Это хорошо, Антон, хорошо, что дело сделал и себя сберег. Знаете, что мне сейчас хочется, товарищи? — обратился Доватор ко всем находившимся в горнице. — Сказать вам, что вы молодцы и отличные командиры. Нет, мало. Вы не только командиры; а настоящие люди. Мне хочется сегодня вас чем-нибудь особенным порадовать. Вы знаете, что товарищ Сталин приказал быть нам на московском параде? Радует вас это?
— Лев Михайлович, — тихо, с дрожью в голосе проговорил Осипов, — неужели правда?
— Точно. А ты рад?
— Как же иначе...
— Ну, раз так, готовьте сводный эскадрон.
Доватор взглянул на Абашева и с усмешкой сказал:
— А ты, комиссар, не забудь проследить, чтобы командир полка надел на парад сапоги, а то и в Москву ускачет в одних носках.
— Простите, товарищ генерал! Честное слово, опомниться не могу.
— Нет, голубчик, это непростительно! Внеочередной наряд за плохую встречу генерала, я тебе все-таки влеплю.
— Очень уж строго, Лев Михайлович, — с улыбкой заметил Абашев.
— Подумаешь, защитник нашелся! Все равно наряд получит.
— Заслужил, товарищ генерал, — надевая серые армейские пимы, согласился Осипов.
— Конечно, заслужил! На параде будешь командовать сводным кавалерийским полком.
— Принимаю, Лев Михайлович. Дисциплина прежде всего. Благодарю за доверие! — молодея от вспыхнувшей радости, сказал Антон Петрович.
— Ну, а теперь... — Доватор прошелся до двери, открыл ее и, посмотрев в другую комнату, спросил у Абашева: — Старшины еще не пришли?
— Скоро должны быть, товарищ генерал. Я приказание отдал.
— Добре! А теперь... будем браниться. Вы уже на самом деле не подумайте, что вы идеальные начальники и у вас нет никаких недостатков! Прежде всего остановлюсь на промахах. У бойцов отсутствует постоянный неприкосновенный запас продуктов питания и конского фуража. В результате эскадроны, оторвавшись от хозчасти, в первый же день остались, без пищи. А командир полка тотчас же потерял связь со штабом дивизии, так как телефонную линию немцы перерезали, а рацию подполковник Осипов захватить не удосужился. Правильно?
— Правильно. Моя ошибка, — покусывая губы, согласился Антон Петрович.
— С минометами все было в порядке, а взрыватели для мин остались... в штабе... Просеку, идущую от деревни Шишково, отлично заминировали, а противника прозевали и дали ему возможность сделать в ней проход. Значит, охранительная разведка никуда не годится.
Доватор взволнованно прошелся по горнице.
— Оборону по всей полосе строили спустя рукава, — продолжал он. — Без накатов и укрытий. Разве это не беспечность? Жалеть труд людей и не понимать, что этим вы их губите, несете неоправданные потери. Противник готовится к атаке, перегруппировывается, мы ведем разведку, и тем не менее он застает нас врасплох. Позор! Где инстинкт, где командирская прозорливость? Внушите себе раз навсегда, что командная должность обязывает контролировать не только личные приказы, но и свои собственные мысли. Выиграть бой — это задача трудная, но самая трудная битва не та, которую ты ведешь с врагом, а та, которую ты ведешь сам с собой. Именно в то время, когда добываешь и прикладываешь теорию к опыту, к практике. Иногда на войне сражение выигрывает и проигрывает случай — мелочной, незаметный факт, вроде скверно вычищенного оружия или плохо подкованного коня. Конь спотыкается, командир разбивает голову, и сражение летит к чорту...
Доватор остановил острый, проницательный взгляд на Осипове.
— На войне нет мелочей, запомните это, подполковник! Вот ваши люди два дня вели тяжелый, изнурительный бой, а старшины до сего времени не могут подвезти горячей пищи. Как это называется?
Абашев слушал и поражался осведомленности генерала, точно он неотлучно находился в полку и отмечал все до мельчайших подробностей.
С приходом старшин во главе с помощником командира полка капитаном Худяковым и начальником продфуражного снабжения лейтенантом Журбой разговор прервался.
Вошла Пелагея Дмитриевна. Видя скопление гостей, она выдвинула было на середину горницы стол и накрыла его белоснежной скатертью, намереваясь угостить прибывших свежей говядиной. Так, по крайней мере, понял это приготовление старшина батареи Алтухов, губастый, широкоплечий парень с крохотными хитрыми глазками, успевший шепнуть об этом старшине четвертого эскадрона — великану Старченко. А ему об этом намекнул Никита Дмитриевич Фролов, председатель колхоза, приготовивший для бойцов целую корову.
— Садитесь за стол, — коротко приказал ходивший из угла в угол Доватор.
Старшины, помявшись, гремя шашками и стуча сапогами, стали усаживаться.
— А вы, хозяйственное начальство, почему стоите? — кивнул Лев Михайлович Худякову. — Занимайте места.
— Да непривычно как-то, товарищ генерал. Всегда нам приходится угощать, а тут... — попробовал пошутить тучный Журба. Он был навеселе и потому был доволен собой.
— Сегодня я вас буду угощать, — предупреждающе заметил Доватор и многозначительно добавил: — Так же, как вы угостили сегодня бойцов...
Худяков, свирепо шевельнув лохматыми бровями, искоса глянул на глупо улыбающегося Журбу. В переводе это означало: «Спущу шкуру». Старшины настороженно притихли.
— У вас, лейтенант Журба, что было сегодня на завтрак? — остановившись, спросил Лев Михайлович.
— Готовили, товарищ генерал, мясные щи. Это, так сказать, на обед... А завтрак, понимаете, был ночью... А потом бой.
— Я вас спрашиваю, какой завтрак был у вас, лично вас. У бойцов я знаю, что было на обед и на завтрак: немецкая шрапнель да вонючий порох. А вот чем закусывали вы, мне неизвестно. Доложите.
— Обыкновенно... ну, это самое, — растерянно пожимая плечами, пробормотал Журба.
— Ну что, обыкновенно? Консервы, колбаса, водка? Так?
— Примерно так, товарищ генерал.
— А вас, капитан, чем кормил повар? — круто поворачиваясь к Худякову, спросил Доватор.
— Да мы с ним вместе завтракали, — услужливо поспешил ответить Журба.
Алтухов, наклонив голову, хмыкнул и, чтобы удержать смех, закусил зубами конец рукавицы. Абашев незаметно показал ему кулак.
— А ты что, Алтухов, хихикаешь? Вкусно позавтракал? Говори, только без вранья.
— Так точно, товарищ генерал, сало кушал... — вытянувшись, признался батареец.
— Хорош, что хоть один правду сказал, — удовлетворенно заметил Доватор.
— Мы, товарищ генерал, решили приготовить на месте, — оправдываясь, сказал Худяков. — Вот корову забили.
— Корову пожертвовал председатель колхоза. Вы тут ни при чем. Вы на готовое приехали, — заметил Доватор. — Ну, а если бы нам пришлось наступать еще дальше, — запомните: мы скоро двинемся, погоним фашистов на запад, — тогда как вы нас будете кормить, товарищи хозяйственники?
— Больше не подкачаем, товарищ генерал... Мы... — Худяков приподнялся, хотел было что-то сказать, но Доватор перебил его на полуслове:
— Хорошо! Там будет видно. А сейчас... Подполковник Осипов!
— Я вас слушаю, товарищ генерал. — Антон Петрович по выражению лица Доватора угадал, что он принял какое-то необычное решение.
— Для того чтобы наши снабженцы... — пряча в изломе губ улыбку, продолжал Доватор, — для того чтобы наши кормильцы научились отечески заботиться о людях, надо им помочь, дать возможность прочувствовать, что означает хороший походик километров на тридцать, что представляет собой система немецкой обороны, как надо ценить людей, которые умеют схватывать во-время толкового «языка».
Доватор несколько секунд помолчал.
— Надо вот этих молодцов, — Доватор кивнул на старшин, — послать в разведку. Пусть срисуют нам расположение противника и кстати притащат «языка». А в качестве специалиста по языкам назначить за старшего начальника продфуражного снабжения лейтенанта Журбу. Посылать каждую ночь до тех пор, пока не выполнят задания. Все! — решительно закончил Доватор.
— Я всегда готов, — грузно повернувшись на затрещавшем стуле, в полной растерянности пробормотал Журба.
— Добудем «языка», товарищ генерал! Офицера притащим, — задетый за живое, заявил старшина батареи Алтухов.
Журба, склонившись к Худякову, хорохорясь, доказывал, что может взять в плен даже самого немецкого генерала.
Осипов, глядя на воинственно настроенного начальника снабжения, сдержанно посмеивался.
Отпустив хозяйственников, Доватор уступил настойчивой просьбе Никиты Дмитриевича и остался ужинать. За стол сели было одни мужчины, но Лев Михайлович решительно запротестовал. Пришлось усадить всех женщин и даже Ефимку. Доватор посадил ее рядом с собой.
— Гордись, Ефимка, первый раз рядом с генералом сидишь, — добродушно посмеиваясь, говорил Никита Дмитриевич.
— Да я генерал-то молодой... — отшучивался Лев Михайлович.
— А что, молодой нешто не настоящий?
— Нет, настоящий, советский.
Никита Дмитриевич ухмыльнулся и, лукаво прищурив глаз, не без достоинства сказал:
— А ежели бы не советский, я б еще подумал садиться рядом-то...
Осипов, сидя напротив хозяина, поощрительно кивнул головой.
— А хорошо быть генералом, правда? — с искренней, чисто детской восторженностью спросила Ефимка. Она весь вечер пыталась заговорить с генералом, но на нее шикала мать и Доватором как-то сразу завладел отец.
— Правда, деточка. Генералом быть хорошо, но трудновато, милая, — погладив Ефимку по голове, задумчиво проговорил Доватор и, взглянув на Никиту Дмитриевича, спросил: — А если бы вас на самом деле пригласил немецкий генерал?
— Да он скорей меня на кол посадит, чем рядом с собой. Мне колхозницы рассказывали: были в соседней деревне два ихних генерала. Так прежде чем зайти в хату погреться, ребятишек на мороз выгнали. У колодцев часовых поставили. Боятся, чтобы колхозники отравы туда не кинули. Видно, имеют они понятие, как их встречают русские люди. Так-то, товарищ генерал! Вы меня извините, что я с вами по-простому разговариваю. От чистого сердца, как говорится...
— А я люблю, Никита Дмитриевич, простых, хороших людей.
— Это я вижу, Лев Михайлович, Да и дочь мне о вас много рассказывала. По-чудному так передавала: «Генерал, — говорит, — очень по характеру на тебя похож...»
— Что ж удивительного? Разве у нас с вами не может быть сходства?
— По душе это, пожалуй, верно. Мысли у нас одинаковые, потому что мы не о себе, а обо всей России думаем. В этом дочка моя права. Она людей нутром угадывает.
— Замечательная у вас дочь, Никита Дмитриевич. Но почему ее дома нет?
— Пошла раненых навестить да мужа проводить. На парад, что ли, собирается в Москву. А я, признаться, не стал об этом расспрашивать. Может, секрет...
— Никакого секрета нет. Седьмого ноября в Москве на Красной площади будет парад.
— А вот немцы тоже собирались устроить парад. Листовки бросали, да, видать, не вышло!
— И не выйдет никогда! — твердо, с глубокой душевной силой сказал Доватор.
В штабе Доватора, расположенном в селе Деньково, жизнь кипела, как в муравейнике. Кавалеристы готовились к параду. Со всех сторон подскакивали ординарцы, посыльные, офицеры связи, снабженцы. У кузницы всхрапывали в станках подвешенные на подпругах кони. Ковали, выдергивая изо рта гвозди, с таканьем вбивали их в копыта. Кони гулко били ногами, зло фыркали и повизгивали.
В особенности долго не давалась коваться Урса старшего лейтенанта Кушнарева, переименованная теперь в Ракету. Она взвивалась на дыбы, по-собачьи рыча, грызла стальные трензеля и, разбрызгивая пену, пыталась цапнуть зубами кузнеца. Смирилась Ракета только после ноздревой закрутки.
Пройдя весь курс кавалерийского обучения, эта степная красавица подчинилась только коноводу-киргизу Калибеку и хозяину. Косясь на посторонних умными фиолетовыми глазами, она предупреждающе храпела и круто поворачивала словно выточенное бедро, намереваясь хлестнуть насмерть копытом. Однажды Петя Кочетков, залюбовавшись Ракетой, подошел к коновязи и решил погладить красивую лошадь. Кобылица, изогнув тонкую шею, настороженно фыркнула, но Петя не обратил на это внимания. Ухаживая за своим смирненьким монголом, он лазил ему под брюхо, чистил щеткой. Да и другие кони относились к нему ласково. Петя подошел сзади и смело протянул руки. Дневальный от ужаса потерял дар речи. Но тут произошло нечто поразительное. Ракета, повернув голову, легонько отшвырнула мальчика задней ногой на середину прохода и, сунув морду в кормушку, спокойно продолжала жевать сено. Петя обалдело сидел против соседнего станка и осторожно щупал пальцами ушибленный нос.
— Ну что, Кочеток? — подскочил к нему дневальный. — Цел, а?
— Ничего. Ишь, пинается, окаянная. Озорует... — смущенно ответил Петя и, погрозив кулаком, добавил: — Все равно на тебе проедусь. Честное пионерское, проедусь! Подумаешь, брыкнула. Видали таких.
Петя, отряхнув полушубок, вышел из конюшни.
Сейчас Ракета, стремительно выскочив из станка и играя на поводу, пружинила тонкими ногами и, цокая по мерзлой земле стальными подковами, покорно бежала за Кушнаревым, словно собака.
— Как бы она, товарищ старший лейтенант, на параде нам строй не поломала, — заметил Захар Торба, идя рядом с Кушнаревым.
— Ничего. Мундштука дам. Не подведет! — успокоил его Кушнарев, окинув коня горделиво-влюбленным взглядом, и задумчиво добавил: — Знаешь, как проеду по Красной площади? Искры разбрызгаю! Душу, Захар, вложу и сердце.
— Правильно. Пусть товарищ Сталин посмотрит, как мы бережем и выхаживаем коней. Да на таких конях, как наши, можно и до Берлина дойти, — заражаясь горячей возбужденностью командира, проговорил Захар и вспомнил, как в конной атаке под Крюковом Ракета вынесла Кушнарева вперед и он первым ворвался в самую гущу немецкой пехоты.
Торба, зная дикий характер кобылицы, направлял своего обладавшего огромной скаковой силой кабардинца вслед, за Кушнаревым, намереваясь в случае опасности прикрыть его с тыла. Ракета неслась птицей. Над ее вытянувшейся спиной крылато нависала черная бурка командира. Узкая полоска кушнаревского клинка мелькала в воздухе свистящей молнией. Мгновенными взмахами он наносил ужасные по силе удары. После атаки некоторые слабонервные люди отворачивались и жмурили глаза. Да и сам он, проезжая мимо, никогда не оглядывался на свою работу.
Когда в занятой деревне кавалеристы спешились, Кушнарев отозвал Захара в сторону, до боли сдавив ему локоть, и, глядя в лицо черными, горящими от возбуждения глазами, тихо сказал:
— Спасибо, Захар! Я тебя чувствовал сзади, поэтому и шел смело. В атаке оглядываться некогда. Всегда так держись. А кто за тобой шел?
— За мной всегда Шаповаленко, Буслов, а за ними Павлюк. Он не рубит, из автомата с ходу бьет. Ловкий.
— Ах да, Буслов, Павлюк. Да, да... это настоящие, понимаешь, настоящие товарищи. А Шаповаленко! Нам у него следует учиться. Мы еще слепнем от ярости и теряем инстинкт самозащиты, а он в атаке все видит. Старик имеет опыт. Он давно обкурил свою люльку.
После той атаки Кушнарев дня два ходил сумрачный, похудевший, вяло ел, мало разговаривал и много курил.
Торба как-то зашел к командиру в хату. Кушнарев сидел, опустив голову на стол, как будто давил лбом крышку. Захар вообразил, что командир сильно выпил, но Кушнарев, повернув к нему побледневшее лицо, молча указал глазами на стул. Задав два-три незначащих вопроса, он снова замолчал. Только по выражению беспокойных глаз его было видно, что он жестоко борется с мучительно тяжелыми мыслями.
Догадавшись о причине раздумья своего командира и не умея кривить душой, Захар без обиняков спросил:
— О немцах думаете, товарищ старший лейтенант?
— Думаю, комвзвода. О немцах и о другом думаю, — шумно передохнув, согласился Кушнарев.
— А що ж о порубанных думать?
— О каких порубанных? — недоуменно пожимая плечами, спросил Кушнарев.
— Да о тех, що под Крюковом стоптали. Да що о них, товарищ старший лейтенант, думать. Фашистская падаль. Згинуть, да и все — туда им дорога. Только жалко — русскую землю поганят. А вы о них душу ломаете. — Торба разгневанно закусил мундштук папиросы и ожесточенно смахнул с бурки упавший на шерсть пепел.
— Я ломаю о них душу? О порубанных?
Перегнувшись через угол стола, Кушнарев приблизил лицо ближе к Захару. Оно было хмурое, утомленное и неузнаваемо страшное. Но Торбу, обладавшего железными нервами, смутить было трудно.
— Да есть такие хлипкие: побывал в бою, и начинает его сумность одолевать. А вы разве хлипкий? На войне батек да мамок нема.
— Вздор ты говоришь, Захар Торба!
Кушнарев резко положил руку на стол и, облегченно вздохнув, продолжал:
— Я бы не только батальон, а всю эту проклять гитлеровскую сжег и пепел по ветру пустил. У меня не то, браток, на душе. Пойдем погуляем, я тебе расскажу.
И увел Кушнарев Захара Торбу в лес. Сели под тень молодого размашистого дубка.
— Ты напомнил мне о батьке, о мамке. А я как раз о них и думал. Были у меня и батька, и мама, и девушка Настя, и братишки маленькие, глупенькие... На берегу Азовского моря голяком бегали, крабов за клешни вытаскивали, батьке моему рыбацкие сети путали. А когда я приезжал в отпуск, верхом на меня садились и фуражку мою пограничную примеривали. На войну со мной просились. А вот пришла война, батька ушел с партизанами. Явились гитлеровцы, мать повесили, над девушкой Настей надругались и в море со скалы бросили, а за ней и братишек. Вот о чем я думаю, младший лейтенант Захар Торба. Старик мне пишет: «Осиротели, сынок. Ты, — говорит, не забудь, что нам с тобой надо долго отплачиваться, а фашизму расплачиваться». Вот, комвзвода, мы и отплачиваем. Да разве есть в мире такая цена, чтобы смыть детскую да материнскую кровь? Скажи мне, Захар, есть такая цена, за которую бы вернули тебе любимую девушку?
— Нету такой цены, товарищ старший лейтенант! — глухо отозвался Торба. — Вы меня извините, что я плохо о вас подумал. Зараз вы мне такое рассказали, у меня внутри все жгутом крутится. К клинку тянет, рубав бы еще страшней, чем рубали вы под Крюковом. Зараз мне хочется вас за брата считать. Давайте, Илья Петрович, побратаемся. У нас такой, у казаков, обычай есть: поменяемся шашками, вы возьмите мою, а я вашу, и будет у нас кровное побратимство, нерушимое до самой смерти.
Встали два советских воина друг против друга, торжественно поцеловали клинки и передали друг другу.
После этого Захар стал относиться к Кушнареву не только как к своему командиру, но и как к старшему брату, — с глубоким уважением и чуткой заботливостью. Он по-хозяйски следил за его двумя конями, тренировал Ракету, бранил коноводов за всякую нерадивость. Приглядываясь к умному и требовательному командиру, он перенимал и быстро осваивал военный опыт кадровика и переносил его на своих людей. Взвод, которым он командовал, стал лучшим в эскадроне по дисциплине и боевой готовности. В бою, если предстояло выполнение сложной задачи, Захар охотно шел первым. Если Кушнарев подготовлялся проводить разведку лично, Торба тотчас же собирался вместе с ним
— Нет, ты останешься, — пробовал возражать Кушнарев.
— Почему я должен оставаться?
— Потому, что ты со мной на-днях ходил, а командир второго взвода отдыхал.
— Тю! — Торба презрительно морщился. — Не отдыхал. Або мы сюда на курорт приехали?
— Но людям-то отдых должен быть?
— Это Павлюку-то с Бусловым? Подите и скажите, чтоб они оставались. Подите!.. — угрожающе кивал Торба через плечо. — Они же сидят, ждут, колысь вы придете и бай-бай их уложите. Если не возьмете, тогда они меня загрызут. Я один раз так зробил. Ушел со вторым отделением в разведку. Да и работенка-то попалась так себе: грузоподъемность мостов проверял и броды через реку Ламу. Ушел, а их не побудил. Прихожу, а они мне бойкот устроили — не разговаривают, официальный рапорт подали — в отставку, значит. В другой взвод решили перейти. А если, говорят, просьбу нашу не уважат, пойдем к генералу Доватору и попросимся к Осипову в полковую разведку. Мы, говорят, без дела сидеть не привыкли и работу везде найдем. Вот ведь какой народ! Но, конечно, я умею варить с ними кашу... Иногда и солененького подсыплю, но зря ни-ни.
За короткое время пребывания в подразделении разведчиков Кушнарев крепко полюбил в своем побратиме «е только смелую кавалерийскую удаль, но и сумел понять все своеобразие его расчетливых повадок командира-самородка. Торба, как и сам Кушнарев, был прост, доступен в личных отношениях, но требователен и неумолим по службе. Сейчас, в минуту мучительных переживаний, Кушнареву особенно был необходим чуткий и задушевный товарищ. Он помогал ему втянуться в суровый и тяжелый труд разведчика, отдавая без остатка все силы, чувства и знания.
— Я понимаю, Илья, как лихо может окутать человека. Вот до тебя у нас командир был Алексей Гордиенков. Погиб он. Да ты, наверно, слыхал. А у него жена, Нина, военфельдшером работала. Из нашей она станицы. Я бывало, як ее побачу, так у меня сердце припекать начинает. Зараз она в полку. Немного легче стало. Дивчина такая... Если бы вы знали...
— Если она тебе по душе... зачем же ты ее отпустил? — зорко приглядываясь к Захару, спросил Кушнарев.
— Да вы меня не так поняли. Я говорю, что мы лейтенанта так любили, и ее вместе с ним. У них была такая дружба. А про меня вы плохо не думайте. Я для своей Аннушки зараз готов себе вырвать сердце, потому що был до войны великий дурень. Я вам все начистоту выложу.
И поделился Захар со своим побратимом всеми житейскими радостями и тревогами и расказал, что он уважает Оксану, которая его лечила в партизанском отряде.
— А вот Нину действительно отпустили напрасно. Тут ей конечно, было бы легче. Да вот як-нибудь поедем в полк, я вас познакомлю. Эх и дивчина, щоб вы знали! Не будет же она вечно горевать.
Захар, как бы ненароком, забросил в душу Ильи Кушнарева зернышко надежды. Кушнарев без лишних и ненужных слов понимал, что Захар сильно и страстно любит Аннушку, маленького сына и не стыдится своего молодого счастья. Когда человек счастлив, он должен того желать и другим.
Отведя Ракету на конюшню, Кушнарев и Торба направились к себе в хату. Квартировали они вместе. В большой, празднично убранной комнате за столом, перед нераспечатанной бутылкой вина сидел слегка подвыпивший Шаповаленко. Он держал за руку Буслова и говорил:
— Почему ты не хочешь со мной трохи горилки выпить? С праздником меня поздравить? У меня такой праздничек, хоть волос рви на своей плешивой голове.
— Нехорошо, Филипп Афанасьевич, — урезонивал его Буслов, — ты самый у генерала первейший человек. Он тебе жизнь охранять доверяет, а ты опять что-то такое сотворил.
— Это бог Адама с Евой сотворил да штабных писарей, щоб им пусто было! Но все равно я тому письменному стрикулисту такое лихо зроблю, щоб у него в глазах буквы гопак затанцовали! — бушевал Шаповаленко.
— Что случилось, Филипп Афанасьевич? — войдя в комнату, спросил Кушнарев.
— А случилась такая история, що зараз я самый що ни на есть подлец, недисциплинированный человече. Побоявси отрубать голову одному злыдню.
— Кому же это?
— Писарю Салазкину, — покручивая ус, мрачно ответил Шаповаленко.
— За што же?
— За то, що вин мени осрамил перед всем рабочим классом и трудящейся республикой.
На дальнейшие расспросы Шаповаленко отвечать отказался.
Выпив рюмку вина, он попрощался и ушел.
А произошло вот что: вернувшись вместе с Доватором с передовых позиций и расседлав коня, Шаповаленко, угостившись стопкой горилки, пошел отыскивать Салазкина. Нашел он его в одной из хат. Писарь стоял у зеркала, расчесывая пышную шевелюру, и напевал какую-то чувствительную, сочиненную им самим песенку.
— Товарищ Салазкин, — официально начал Шаповаленко, — вам придется написать одну бумаженцию.
— Какую, Филипп Афанасьевич, бумаженцию? — посматривая на сумрачное лицо Шаповаленко, встревоженно спросил Салазкин.
— Ты пиши, а я продиктую. Це треба для самого генерала.
Писарь, зная, что Шаповаленко исполняет обязанности ординарца, перечить не стал и, взяв лист бумаги, уселся за стол.
— Пиши так, — начиная играть убийственного вида плетью, диктовал Филипп Афанасьевич: — «Генералу Доватору от писаря Салазкина рапорт».
— Ты мне не морочь голову. Только скажи, что тебе нужно? — возмутился Салазкин.
— Я тоби скажу. Ты слухай и пиши: «Я, писарь Салазкин, подлец. Написал одной девушке фальшивое письмо с разными такими глупостями и подписал фамилией своего товарища. Прошу за мой недостойный поступок наложить на меня взыскание».
— Да я же, Филипп Афанасьевич, шутейно! Ну, понимаете, подшутил, — оправдывался растерявшийся Салазкин, удивляясь, каким образом узнал о его проделке Шаповаленко.
— Я старый партизан, а не шут! Вместе с Котовским белых гадов рубав! Пиши! — багровея от гнева, рявкнул Шаповаленко. — А не то... — продолжал он хрипло, обрывая на шашке кисточки темляка, — не то зараз пойду до генерала, покажу ему твою цыдульку. Вот она! — Филипп Афанасьевич, чтобы достать письмо, резко отбросил эфес клинка и сунул руку в карман. Салазкину показалось, что разъяренный Шаповаленко хватается за шашку. Не долго думая, он стремительно бросился к двери. Выскочивший вслед Шаповаленко нагнал его около сеней и, поймав за подол гимнастерки, слегка придержал за пышно расчесанную шевелюру. Писарь не выдержал и громко крикнул:
— Пусти!
Проходивший мимо Доватор, услышав крик, завернул во двор.
— Это что такое? — сдерживая усмешку, спросил Лев
Михайлович.
— Да шуткуем, товарищ генерал, играем, — ответил Шаповаленко, изображая на покрасневшем лице добродушную улыбку.
— Пошутили малость по-дружески, товарищ генерал, — подтвердил Салазкин, приглаживая растрепавшиеся волосы
Но Льва Михайловича обмануть было трудно.
По их возбужденным лицам он видел, что здесь не просто «шалость». Попытка генерала узнать истинную причину ссоры успеха не имела. «Друзья» упорно отмалчивались. Рассердившись, Доватор наградил каждого по внеочередному наряду, а Филиппа Афанасьевича вдобавок лишил поездки в Москву.
— Это безобразие, товарищ Шаповаленко. Вы, почетный старый служака, лучший кавалерист, таскаете мальчишку-писаря за чуб! Никуда не годится. А если бы увидели люди? Ну, скажут, и войско у генерала Доватора. За чуприны друг друга треплют. Позор!
— Да вин же, товарищ генерал... — начал было оправдываться Филипп, но тут же, вспомнив о письме, умолк.
— Ну, что он тебе? — допытывался Доватор.
— Да ничего такого, товарищ генерал. Шутковали трохи.
— Вот за такое «шуткование» в Москву на парад не возьму!
— За такое, товарищ генерал, дело следует мне, старому дурню, усы повыдергать, — глубоко вздохнув, сказал Филипп Афанасьевич.
На квартире Доватора поджидал бригадный комиссар Шубин. Он только что вернулся из дивизии Медникова, где поверял состояние обороны и следил за подготовкой сводных эскадронов к участию в московском параде. Все детали предстоящего выступления Михаилом Павловичем были продуманы и взвешены совместно с командирами полков и комиссарами, обсуждены на партийно-комсомольском собрании. Во всех подразделениях уже проведены митинги. Участники парада должны показать советскому пароду, что Красная Армия не только отстоит Москву, но и разгромит фашистских захватчиков наголову.
— Вот так, Лев Михайлович. Все подготовлено. Можно выступать.
— Очень хорошо, Михаил Павлович. Спасибо!
В глазах Доватора весело затеплились огоньки. Он был рад предстоящей поездке и не мог скрыть этого чувства.
— Меня-то за что благодаришь? Ты скажи спасибо товарищу Сталину. Это он тебя вызывает, — радостно улыбаясь, сказал Шубин. На его крупные мужественные черты лица набежала суровая торжественность. — Ты знаешь, этот парад войдет в историю. Из поколения в поколение, из уст в уста будет передаваться, как партия большевиков в тяжкие для родины дни уверенно и непоколебимо показала всему миру, что своих великих завоеваний она никому и никогда не уступит. Гордись, генерал Доватор, что ты участник этих великих событий!
— Горжусь, Михаил Павлович, горжусь нашей партией, горжусь тем, что мне выпало счастье защищать родину под командованием величайшего полководца Иосифа Виссарионовича Сталина. Всем советским народом горжусь!
Как клятву, как присягу произнес эти слова Доватор. Его невысокая, в новом кителе с генеральскими звездочками стройная фигура была мужественна и энергична. Светлые, остро поблескивающие глаза и движения густых широких бровей выражали радость и в то же время озабоченность.
Шубин подметил это, незаметно приблизившись к Доватору, взял его за пуговицу кителя.
— Ты о чем сейчас думаешь, Лев Михайлович?
— Я думаю о той ответственности, которую возлагает на нас участие в этом параде. Мы обязаны еще глубже продумать свое отношение к делу, которое сейчас совершаем, не с точки зрения долга и чести, — это мы выполняем как граждане своей родины, — а с точки зрения наших полководческих способностей.
— Разве ты не уверен в своих способностях?
— Не в этом дело, Михаил Павлович. Если бы я не был уверен, я бы не надел генеральский мундир. Звание советского полководца для меня священно. Я должен оправдать его перед народом, перед партией. Разве это не ответственность? Про меня говорят, что Доватор берет храбростью. А что такое храбрость? Храбрость — это до конца осознанная ответственность. Я до революции, когда мальчишкой был, босой ходил по узенькой полоске за деревянной сошкой и заставлял ее родить жито, ибо знал, что иначе семья моя умрет с голоду. В двадцатом году вступил в комсомол, стал секретарем ячейки и понял, что сошку надо в печь, а заводить железный плуг. В двадцать седьмом был уже членом партии и твердо осознал, что плуг — это мало, надо трактор, и надо еще перепахать узенькие полоски, превратить их в широкое общественное поле. Пошел я в армию рядовым бойцом, потом стал командиром отделения, химинструктором, командиром взвода, политруком эскадрона, комиссаром дивизиона, начальником штаба кавалерийского полка, бригады, потом окончил военную академию...
Доватор закурил.
— Много лет партия большевиков прививала мне чувство ответственности за все мои поступки. Теперь я в генеральском мундире. За мной шагают вверенные мне кавалерийские полки! Послезавтра на параде будет сам Сталин, и, наверное, он подумает: как же Доватор распоряжается этими полками? Подумает, Михаил Павлович!
— Подумает, обязательно подумает.
Шубин слушал его напряженно и понимал даже то, что не было досказано. Все мысли Доватора были поглощены чувством ответственности перед родиной.
— И товарищ Сталин подумает и весь народ, — продолжал Михаил Павлович. — Весь советский народ взялся за оружие. Ты смотри-ка, уральские рабочие прислали нам гвардейские минометы, кубанские колхозники везут в наше соединение тридцать вагонов подарков. Только что получили телеграмму из штаба фронта. Шлют, понимаешь, персональные подарки кавалеристам генерала Доватора. Завтра сами будут здесь.
— Да ну! Надо же встречу организовать. Выходит, гости приедут, и самые дорогие, а хозяев дома нет. Неловко получается. Как же быть-то, Михаил Павлович, а? — с искренним огорчением проговорил Лев Михайлович
— Ничего. Причина уважительная. Мы встретим их, как полагается, — успокоил его Шубин.
— Это все хорошо, но ведь они тебя сейчас же спросят, где генерал Доватор? Покажи! Неладно получается.
— Ну, что ж поделаешь. Я им все объясню. Извинюсь.
— Правильно, обязательно извинись и непременно задержи их до моего приезда. Как только парад кончится, я быстренько прикачу. Нельзя, нельзя не встретиться. Люди за тысячи километров ехали
Вечером, выйдя из избы, чтобы ехать в Москву, Доватор заметил стоявшего на посту Шаповаленко. Филипп Афанасьевич, четко пристукнув каблуками, отдал положенное по уставу приветствие. Доватор, козырнув, молча прошел мимо и сел в машину. Закрывая дверцу, Лев Михайлович почувствовал на себе пристальный взгляд казака и на секунду смутился. Оттого, что он лишил этого бесконечно преданного ему человека праздничной поездки, Льву Михайловичу стало как-то неловко. Мгновенная вспышка человеческой жалости переросла в чувство досады. Уезжая, он как будто оставлял за собой неприятный, огорчающий кого-то след. Машина, фыркнув мотором, уже двинулась, когда Доватор, тронув шофера за рукав, приказал остановиться. Открыв дверь, о« подозвал Шаповаленко.
— Вот что, Филипп Афанасьевич. Завтра к нам приезжают твои земляки, кубанские колхозники. Надо встретить их, как полагается. Ты тут помоги бригадному комиссару, понятно?
— Понятно, товарищ генерал.
— Насчет помещения позаботься. Гармонистов пригласи. Повару передай, чтоб обед хороший приготовил. Песни сыграйте, да так, чтобы немцы в Волоколамске слышали, как поют кубанцы. Вот так. До свидания.
— До свидания, товарищ генерал!
Горло Филиппа Афанасьевича сжала непреодолимая спазма. «Землячки с Кубани... помочь бригадному комиссару... гармонисты». Все спуталось, смешалось в голове бывалого казака. Колючий ус, щекоча губы, лез в рот. А ветерок ноябрьского вечера трепал бороду и что-то напевал на ухо.
Шаповаленко не слышал, как подошел гарнизонный патруль. Одним из патрульных был Салазкин.
— Ты подожди, мне надо дружку словцо сказать, — шепнул Салазкин своему напарнику и подошел к Шаповаленко. — Филипп Афанасьевич!
— Ну!
— Филипп Афанасьевич! Ты, батька, на меня не серчай. Извини. Я рапорт написал. Вот он, возьми. Я все здесь изложил. Не серчай, батька, понимаешь...
Салазкин, сунув растерянному Филиппу Афанасьевичу лист бумаги, поскрипывая по снегу валенками, побежал догонять товарища.
Шаповаленко недоуменно вертел рапорт в руках, не зная, куда его девать, потом порвал на части. Через минуту порывистый ветер вырвал из его рук бумажные клочья, зашвырнул их под коновязь и смешал с сыпучим снегом.
По Ленинградскому шоссе со стороны Волоколамска двигалась кавалерия. Это были кавалеристы генерала Доватора. Прямо с передовых позиций ехали они на парад.
Рослые сухоголовые кони, закудрявленные инеем, казались седыми. Они настороженно косились на серые, затемненные громады зданий. Всадники в длинных, свисающих до стремян шинелях не имели обычного щегольского кавалерийского вида.
Несмотря на утомительный переход, кавалеристы были веселы. У одного из командиров, ехавшего впереди эскадрона, широкие полы бурки закрывали круп лошади до самого хвоста. Высокий красавец-конь, откидывая назад голову и горячась, цокал подковами, рассыпая по мостовой искры, словно красуясь перед собравшимся на панели народом круто выгнутой шеей и тонкими, сухими ногами.
— Фронтовики едут! Фронтовики! — раздались голоса в толпе. — Да неужели пустят немцев в Москву?!
— Не пустим, товарищи! Не пустим! — ответил командир в бурке и, обернувшись к колонне, протяжно крикнул: — Бус-лов!
Всадники, скрипя седельной кожей, подтянулись. Звонкий тенор, перекрывая дробный цокот подков, дружно подхваченный сотнями молодых голосов, взвился над мостовой, разносясь по улицам и переулкам Москвы. Могучая песня врывалась в зияющие темнотой двери, проникала сквозь оконные стекла, рвалась ввысь.
Стоявший на панели высокий седой старик в каракулевой шапке протирал очки, часто покашливал и кряхтел, его поддерживала под руку молодая девушка.
— Вот вспомни потом и оцени мои слова, — говорил старик взволнованным голосом. — Могут ли эти люди-богатыри пустить врага в нашу Москву? Не могут. Этого никогда не случится. А сегодня, возвращаясь из университета, я видел танки. Тысячи танков. Да!
— Их, папа, была не тысяча, а меньше, — возразила девушка.
— Это не имеет значения. У нас есть тысячи. Надо всегда основательно мыслить. Я видел пушки. Огромные пушки, величиной с двухэтажный дом. Есть орудия, выпускающие в минуту больше сотни снарядов и...
— Таких пушек не бывает, — перебила девушка, — Ты, папа, преувеличиваешь.
— Ты разговариваешь со мной, как с мальчишкой.
— Ты, папа, иногда поступаешь, как мальчик.
— Например?
— Например, ты послал на фронт в подарок свой голубой шарф. Его нельзя носить, потому что это демаскирует. Может заметить снайпер.
— Вздор! Его можно надевать под шинель, — решительно заявил старик. — Ты, милочка, трусиха!
— Нет, папа, это неправда.
— Как же неправда? Если бы я тебя послушал, то мы были бы в Средней Азии. А я вот остался в Москве и желаю строить баррикады.
Спор отца и дочери заглушил тревожный вой сирены. Сотрясая здания, загрохотали зенитные батареи. Над затемненной Москвой бороздили небо огненные мечи прожекторов. Собравшийся на панели народ без всякой суеты и торопливости расходился по домам. Кавалерия свернула в ближайший переулок и исчезла в темноте ноябрьской ночи.
Поздней ночью на Фрунзенском плацу патрули встретили медленно идущего военного, одетого в широкополую кавказскую бурку. Это был генерал Доватор.
Разместив прибывших на парад кавалеристов, Лев Михайлович зашел к себе домой. В квартире все было на месте. На диване лежала румяная кукла, забытая дочкой. Казалось, что сейчас из спальни выскочит Рита и, вскрикнув от радости, обнимет теплыми ручонками отца за шею. Но в комнате было тихо. В окна заглядывала холодная чернота ночи. За стенами гремела танковыми гусеницами и гудела сиренами предпраздничная военная Москва сорок первого года.
Лев Михайлович подержал в руках улыбающуюся куклу, пригладил ей взъерошенные волосы и посадил в уголок дивана между валиком и стенкой. Подойдя столу, он написал на листе бумаги:
«Был дома 6 ноября 1941 года».
— Откуда так поздно, Лев Михайлович? — спросил подполковник Осипов неожиданно зашедшего к нему Доватора.
— Да, понимаешь, домой заходил... — задумчиво ответил генерал, снимая с плеч бурку.
Осипов догадался, что Доватор никого дома не застал и захлопотал было с приготовлением ужина, но Лев Михайлович отказался. Присев на кровать, он устало улыбнулся. В строгих глазах Доватора дрожали светлые искорки. Смотря на командира полка внимательным, спрашивающим взглядом, он заговорил:
— Уехали. Знал, что их нет, а все-таки пошел... Куклу на диване забыли. Дочурка оставила... Огорчилась в дороге, наверное, может быть, и всплакнула. Мне тоже захотелось заплакать, да ничего не вышло. Давно не плакал, разучился, что ли...
Лев Михайлович покачал головой, точно сожалея о том, что ему не удалось заплакать.
— Знаешь, Антон Петрович, я в жизни никогда так не волновался, как сегодня. К Москве подъезжал с таким чувством, словно не был в ней десяток лет. Откровенно признаюсь: хотелось мне выпрыгнуть из машины, подбежать к людям, обнять их. Оглядываюсь кругом, ищу следы бомбежек, не вижу. Все стоит на месте. Трамваи гудят, троллейбусы, машины и народ кругом... И вдруг воздушная тревога. Зенитки бьют, а люди спокойны. Вот это люди, это москвичи!
— Герои! — проговорил Осипов. — Когда мы подъезжали к Москве, встретились около Покровского-Стрешнева с добровольцами. Укрепления строят. Девушки, парни, женщины, старики, подростки. Все кричат: «Ура фронтовикам! Бейте насмерть фашистов!»
Ранним утром седьмого ноября столичные мостовые засыпал мягкий снежок. Прибывшие на парад кавалерийские части вместе с другими войсками выстроились на Красной площади. Справа от мавзолея перед рядами своих кавалеристов на породистом коне сидел генерал Доватор. Он не спускал глаз с трибуны.
На мавзолее, у микрофона, в слегка запорошенной снегом шинели стоял Сталин.
«Товарищи! — говорил он. — В тяжёлых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции».
Он поднял голову и обвел глазами выстроившиеся войска. На его фуражку и воротник шинели пушистыми звездами падал снег.
Слова вождя доходили до самого сердца, — такие обыкновенные и простые, как дыхание, слова.
«Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков?»
Доватору хотелось запомнить каждый жест, каждое движение вождя.
Вот Сталин, слегка качнув плечами, твердо переступил с ноги на ногу, продолжая спокойно и медленно говорить с простой, глубокой сдержанностью, которая дается только великой силой и непоколебимой убежденностью в своей правоте.
Лицо Доватора под тенью барашковой папахи горело возбужденным румянцем. Он не чувствовал онемевших на эфесе клинка пальцев и не замечал падавшего за ворот шинели снега. В груди поднималось острое чувство радости и гордости.
Буслов находился в переднем ряду на правом фланге. Слушая речь Сталина, он видел его лицо и с замирающей в сердце радостью ловил каждое слово. Однако ему казалось, что каска слишком давит ухо и мешает слушать. Концом лежащего на плече клинка он слегка приподнял каску и затаил дыхание.
«Бывали дни, когда наша страна находилась в ещё более тяжёлом положении, — говорил товарищ Сталин. — Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции. Три четверти нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов...
Теперь положение нашей страны куда лучше, чем 23 года назад... Наши людские резервы неисчерпаемы. Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну так же, как 23 года назад».
Мощное раскатистое «ура» заставило Буслова вздрогнуть. Его конь, взмахнув головой, переступил с ноги на ногу. Буслов крепко придержал повод и с радостным вдохновением громко крикнул: «Ура!», не замечая, что он опоздал и своим опозданием нарушил стройность приветствия. Этого никто не заметил, кроме Доватора.
Лев Михайлович понимал, какое чувство обуревает Буслова и всех присутствующих на параде людей. Тысячи бойцов и командиров проходили мимо стен древнего Кремля, и все, как один, в строгом равнении повернув голову, искали глазами человека с приветственно поднятой рукой, под водительством которого им выпало счастье защищать советскую родину.
Проезжая по улицам Москвы, Буслов все еще слышал слова товарища Сталина и ничего не замечал вокруг. Он не слышал даже окрика знаменосцев, на которых он наехал своим конем.
— Не ломай строй, — оглянувшись, сказал ему Торба, — объезжай слева.
— Зачем объезжать? — не понимая, спросил Буслов.
— Генерал вперед вызывает, сколько раз тебе говорить?
Буслов дал коню шпоры и в несколько резвых скоков подъехал к генералу.
— Буслов, почему «ура» один кричал, а после команды «смирно» клинком за ухом чесал? — весело глядя на опешившего разведчика, спросил Доватор.
Посмотрев на генерала, Буслов ответил не сразу. Слегка наклонив голову, черенком нагайки он счищал с конской спины снег. Обычно, когда он говорил или пел, по движению его бровей и улыбке, по блеску голубых глаз можно было читать его истинные мысли и чувства. Сейчас по его лицу скользила радостная и застенчивая улыбка. Квадратный, с мелкими морщинами лоб хмурился. Казалось, что этот богатырский детина собирается заплакать...
— Слова, — поджав губы, отрывисто проговорил Буслов.
— Что слова? — настойчиво спросил Доватор.
— Понятные слова говорил товарищ Сталин. Особенные слова. Я теперь могу все что угодно сделать. Не сробею.
— По-моему, ты никогда не робел, — поощрительно улыбаясь, сказал Доватор.
— Нет, маленько бывало. Только очень стыдно после таких слов об этом думать. Теперь этого не будет!
Вскинув на Доватора влажно поблескивающие глаза, с проникновенной убежденностью он добавил:
— Сроду не будет, товарищ генерал. Сами увидите, говорю вам просто...
«Да, это на самом деле сказано просто», — подумал Лев Михайлович. Он знал силу такой простоты! Просто говорить, просто вести себя, просто улыбаться, уважать себя и людей. В этом «просто» содержится самое драгоценное, что есть в сердце человека.
— Правильно говоришь, Буслов, очень правильно!
Доватор кивнул головой и, опустив загоревшиеся глаза, думал о том, чего Буслов не смог передать своими словами. Это были мысли всего советского народа. Их выразил Сталин.
— Буслов, у тебя в Москве есть родственники или знакомые? — спросил вдруг Доватор.
— Есть, товарищ генерал, профессор один...
— Профессор? Родственник?
— Нет, знакомый. И даже не знакомый. Подарок я от него на фронте получил. Теперь переписку имеем.
Буслов назвал фамилию профессора и адрес.
— А ты сходи к нему. Обязательно сходи и поблагодари.
Доватор подробно объяснил ему, как разыскать по адресу профессора, и разрешил отпуск на целый день. При этом спросил, есть ли у него деньги.
Буслов поблагодарил генерала, но от денег отказался.
По приезде в казармы, убрав коня, Буслов начал собираться в гости.
Ординарец Доватора предложил ему свою щегольскую кавалерийскую венгерку, но с непременным условием надеть профессорский шарф. Буслов категорически отказался: подарок имел уж очень яркий цвет.
— Понимаешь, дружочек мой, какая это вещица? Это ж подарок! — говорил Сергей. — Красота! Художественная работа. Я бы сам не отказался иметь такой.
— Нельзя надевать. Нарушение формы. До первого патруля, — упорствовал Буслов.
— Кавалерийская форма, чудак! Верх на твоей кубанке синий, а вместо башлыка голубой шарф! Бесподобно! Усы закрутишь, красота! А не хочешь, снимай венгерку. Ничего ты не понимаешь, скромник.
Буслов вынужден был согласиться. Посмотрев в зеркало, он убедился, что шарф действительно идет к нему. Большой любитель всякого оружия, Сергей прицепил ему шашку и пистолет.
На площади Свердлова, у витрины кинотеатра, толпился народ. Подошел и Буслов. Увидев как-то по-особому одетого кавалериста, люди почтительно расступились. Буслов смущенно подвинулся к витрине, но тут же с изумлением остановился. За стеклом крупными буквами было написано:
«Атака кавалеристов генерала Доватора».
Внизу на увеличенной фотографии был изображен момент атаки. Под одним из всадников Буслов сначала узнал коня Захары Торбы, немного позади скакал он сам. «Вот, смотрите», — хотелось сказать ему, но он сдержался, почувствовав, как по всему телу пробежала пульсирующая дрожь и, словно электрический ток, начала отдаваться в концах пальцев. Он вспомнил атаку на Рибшево, гибель, любимого командира и крепко сжал кулаки.
— А вы там не участвовали случайно, товарищ кавалерист? — спросил кто-то из толпы.
К щекам Буслова прилила кровь, и дрожь прекратилась в сжатых пальцах, но говорить он не мог.
Внимание прохожих отвлекло радио. Началась трансляция записанной на пленку речи товарища Сталина, Народ отхлынул от витрины и стал скапливаться у висевшего на углу дома репродуктора. Подошел и Буслов. Увлеченный звуками знакомого голоса, он тотчас забыл об атаке и снова выслушал всю речь до конца.
— Что вы, уважаемая, на это скажете, хотел бы я знать? — проговорил высокий старик в каракулевой шапке и погрозил стоящей перед ним девушке суковатой палкой. — Что вы на это скажете, сударыня?
— Я скажу, что вы, сударь, правы.
Девушка, не замечая пристального взгляда Буслова, задорно подмигнула старику, как своему задушевному товарищу.
— Озорная девчонка! Когда ты станешь серьезной?
Старик огляделся по сторонам, и взгляд его остановился на Буслове. Старик, словно поперхнувшись, клюнул носом и поверх очков стал пристально вглядываться в высокого щегольски одетого кавалериста. Склонившись к девушке, он тихо сказал:
— Васса, смотри!
— Что, папка? — близоруко щуря глаза, спросила девушка.
— Погляди, что у него на шее.
— Вижу, шарф. Очень похож...
— Не только похож, а это он. Работу, работу нашей милейшей Анны Никифоровны я узнаю из тысячи. Я сейчас...
Старик шагнул к Буслову.
— Извините великодушно. Вы не с фронта?
— Так точно, — Буслов почтительно и четко звякнул шпорами.
— Разрешите узнать, откуда у вас этот шарф?
— Фронтовой подарок. От профессора Ивана Владимировича Сопрыкина.
— Совершенно верно! — Старик протянул руку и, пожимая руку Буслова, внушительно добавил: — Благодарю за письмо. Очень рад, очень рад. Вы, наверное, догадываетесь, что я и есть Иван Владимирович. А это моя дочь Васса, а проще Васенка. Вы, значит, тот самый разведчик Буслов. Мы про вас в газетах читали.
Обрадованный профессор говорил возбужденно и громко.
— Значит, трудно на войне?
И, не дожидаясь ответа, продолжал:
— Разумеется, я так и предполагал. А вот она этого не понимает. Двадцать три года, а все прыгает, скачет, как девчонка. Вот в Азию от бомбежки скакать хотела. Я отговорил. На фронт хотела ехать, не взяли. «У нас, — говорят, — без вас близоруких много». Теперь ни с того, ни с сего пошла окопы рыть. Парадоксальная девица!
На такую характеристику «парадоксальная» девица и бровью не повела. С лукавой усмешкой посматривала она на отца и со смелым любопытством на Буслова. Близорукие глаза ее пытливо, по-девичьи щурились и, казалось, говорили: «Не обращайте внимания на старика. Он ворчун и придира, но, в сущности, человек самый добрейший».
Подхватив Буслова под руку и заглядывая ему в лицо, девушка засыпала его вопросами:
— Вам нравится шарф? А шоколад получили? Это очень питательно. Страшно на войне? Шашка у вас очень острая? Сколько немцев зарубили?
— Вздорных вопросов, сударыня, не задавать, — перебил ее Иван Владимирович. — Прошу, любезнейший, в это парадное. Мы уже дома.
Едва успевая отвечать на вопросы, Буслов очутился в квартире профессора на улице Горького.
Васса отцепила у Буслова шашку и куда-то унесла. Иван Владимирович снял с него шарф и крикнул Анну Никифоровну.
Из соседней комнаты торопливо вышла черноволосая невысокая женщина. Буслов угадал, что это мать девушки.
— Ты видишь?
Профессор, держа шарф обеими руками, поднес его к лицу жены.
— Вот кому попал!
— Здравствуйте, мой дорогой. Мы от всей души собирали фронтовикам подарки. Хотелось положить самое лучшее, — проговорила Анна Никифоровна.
Буслову она напоминала сельскую учительницу, у которой он когда-то учился. Такая же спокойная, мягкая и строговатая.
— Садитесь, дорогой товарищ Буслов, — пригласила она.
Иван Владимирович бережно накинул шарф Буслову на шею и, расправляя его, повесил бахромы голубых кистей на плечо так, чтобы не закрывать два ордена Красного Знамени. Обняв растерявшегося разведчика, он повел его к столу.
Сначала Буслов чувствовал себя неловко, но радушное и дружеское отношение этих людей быстро устранило замешательство и неловкость. Этому способствовал Иван Владимирович. Он расспрашивал Буслова о войне. Но сам говорил больше всех.
— Значит, вы говорите, побывали в тылу у немцев? Приказ выполнили и обратно вышли? Хорошо! Каждый день сводка Информбюро сообщает: «Кавалеристы генерала Доватора отбивают атаки гитлеровцев». Молодцы! А мы с Вассой, признаться, в октябре тут...
— Уж говори прямо, — перебила жена.
Анна Никифоровна рассказала, как Васса обивала пороги военкоматов и просилась рта фронт, но ей всюду отказывали из-за близорукости. Ей удалось записаться в строительный батальон. Когда узнал об этом Иван Владимирович, он, несмотря на свои шестьдесят пять лет, тоже загорелся. Обманув Анну Никифоровну, они украдкой исчезли из дому и несколько дней копали противотанковые рвы.
— Я боялась с ума сойти, — продолжала Анна Никифоровна: — один ученый, а другая аспирантка. Вечно крик, спор. Не квартира, а дискуссионный клуб.
— Мы спорим принципиально. Два зоолога никогда не уживутся мирно, — усмехнувшись, сказал Иван Владимирович.
— А окопы — это тоже зоология? — спросила Анна Никифоровна.
— Нет, не зоология. Это называется полевая фортификация. Ну ладно, милочка, ты меня перебила. Так, роем мы окопы. Ополченческий добровольческий батальон. Работаем, батенька мой, по-стахановски. Васса моя лопатой орудует. Мы с одним инженером профили высчитываем, вымеряем и тому подобное. Дело это мне немного знакомое. В один прекрасный день катит из Москвы грузовая машина. Останавливается около нас этакий субъект с дамочкой и говорит: «Бросайте копать, немцы в Можайске». — «А это мы и без вас знаем», — отвечает инженер, хоть человек совсем не военный, но основательный. «А вы, собственно, кто такой будете? — спрашивает он субъекта. — Почему панику поднимаете?» Тот достал в палец толщиной папиросу и, форменно обидевшись, говорит: «Я ответственный работник торговой сети и требую надлежащего обращения!» А мы без лишних формальностей потребовали от него документы, на каком основании он на грузовой машине эвакуируется. Таких документов, разумеется, не оказалось. «Почему, — спрашиваем, — вы так неорганизованно уезжаете?» — «Я, — говорит, — занимаю определенное положение». — «Значит, — говорим, — по этому самому положению вы имеете право положить в кузов рояль и шифоньерку?» Подружка его начала носик пудрить и вступилась за мужа. «Сегодня, — говорит, — к вечеру немцы в Москве будут».
— Они никогда здесь не будут, — с глубокой внутренней убежденностью тихо проговорил Буслов.
— Совершенно верно! — подхватил профессор. — Так и народ сказал, который оборону строил. Да, да, так и сказал: никогда им здесь не быть! Вот дочь моя — свидетель!
— А мы вам верим, Иван Владимирович, верим. Сегодня и товарищ Сталин так же сказал, — подтвердил Буслов.
Распрощался с ними Буслов под вечер.
Над затемненной Москвой в облачном небе мирно покачивались аэростаты воздушного заграждения. Гудели тяжело нагруженные автомобили, звенели трамваи. По Волоколамскому шоссе на фронт шли войска.
Длинный состав тяжело груженного товарного поезда, громыхая на стыках рельсов, мчался в направлении Волоколамска. В отдельном купе единственного пассажирского вагона сидели пожилой человек в полувоенной форме, с орденом Ленина и депутатским значком Верховного Совета Союза ССР, и две женщины. Одна из них была пожилая, дородная, с полным и красивым лицом, с сильными, по-мужски развитыми руками и с заметной в волосах проседью. Одета она была в темносиний костюм, на ногах новые юфтевые сапоги.
Другая была молодая женщина в белом кавказском платке, ярко оттеняющем ее черные, ушедшие к вискам брови и темносиние глаза. Она была хороша не только своей молодостью, чистыми линиями лица, но и умным выражением больших строгих глаз, статной, крутоплечей фигурой и ласковой звучностью певучего голоса.
— Сколько машин! Вы только ж гляньте, Полина Марковна! Сколько пушек? Вы только ж посмотрите, Константин Сергеевич!
— Да я бачу, Аннушка, всю громаду бачу, — густым протяжным голосом отвечала Полина Марковна.
Вдоль линии железной дороги по Волоколамскому шоссе на предельной скорости катился непрерывный поток автомашин. Брезент, ящики, бочки, пушки на прицепах, штыки над круглыми касками, серые шапки-ушанки над белыми маскхалатами, пулеметы с торчащими вверх дулами... А по обочинам с тяжелой неторопливостью, как бы уверенные в своей силе, гусеничные тракторы тянули длинноствольные орудия.
У Полины Марковны немеют колени и в горле застревает воздух. У Аннушки восторженно расширяются глаза, на лице появляется гордая, уверенная улыбка.
— Силища-то прет, силища!
А они, простые русские женщины, вместе с членом правительства — депутатом Верховного Совета Союза Смеловым везут советским воинам тридцать вагонов подарков от кубанских колхозников и наказ жителей Кубани отстоять столицу Москву — сердце социалистической родины. Тысячи бурок, полушубков, папах, валенок, рукавиц, перчаток, заботливо сработанных советскими патриотами. Тысячи килограммов сала, окороков, колбас, сухих фруктов. Тысячи литров вина с обильных колхозных виноградников. Вот что везут фронтовикам представители Северокавказского края.
— Скоро, наверное, фронт, да, Константин Сергеевич? — нетерпеливо спрашивает Аннушка.
— Скоро, Анна Дмитриевна, скоро.
Константин Сергеевич, расправив широкие плечи, подходит к окну.
— Смотрите-ка, конница, казаки. Может, своих признаем.
Навстречу бесконечному потоку машин, покачиваясь в седлах в такт размеренной поступи, движутся стройные колонны всадников. Они едут к Москве. На лошадиных крупах крылато стелются широкоплечие бурки.
— Да це ж наши, наши! Родимые!
Полина Марковна хватает Аннушку за руку.
— Бачь, ось твой Захар! Бачь, Аннушка!
Стройный могучий казачина в круглой кубанке, задирая разгоряченному коню голову, словно прирос к седлу, как будто в нем и родился. Аннушка узнает знакомую гордую посадку головы, властный взмах поднятой руки.
Купе вагона неожиданно застилает серый полумрак. За окном бежит раздробленная стена горной выемки. Поезд мчится вперед, в город Истру!
Не то сон, не то мучительная явь, не то взбудораженная приближением фронта фантазия рвут сердце Аннушки бурной радостью и в то же время неизмеримой печалью. Радость — от встречи, печаль — от томительной неизвестности
— Захар! Ось и побачили Захарку. А моего нема, — захлебываясь слезами, говорит Полина Марковна.
— Да, может, это не Захар. Ну что вы, тетя!
Но Аннушка знает, что проехал именно Захар, она не только увидела, но и почувствовала это всем своим существом.
— Вы, голубушки мои, сейчас в каждом кавалеристе будете угадывать Захара, Филиппа, Михаила. Надо успокоиться. Все будет хорошо, — ласково уговаривал женщин Константин Сергеевич.
— Да як же не Захар? Ну, що вы мне кажете! — горячо протестовала Полина Марковна. — Да я ж его бачила, колысь он ось такий вот, без штанив собак гонял и с баштанов кавуны скатывал. Сама не раз крапивой стегала. Да я ж знаю, як вин на коне держится. Що був маленький, батька возьми его на коня, вин за гриву — цап. А вы мне кажете, не он. А Филиппа нема. Если бы вин був туточки, я б его сердцем почуяла. Ну де ж вин, чертяга, сховавси? Неужели, старый дурень, германцу голову подставил? Я ж его тогда! Ховай, боже... А куда ж зараз наши казачки поихалы? Мы туды, воны сюды... Вы, может, знаете, Константин Сергеевич?
— В Москву поехали, Полина Марковна.
И опять за окном по Волоколамской магистрали текут к фронту потоки машин. И в холодный метельный полдень, и в звездную морозную ночь, и в румяное раннее утро не замирает гул на полях и в лесах Подмосковья.
В Истру поезд прибыл под вечер. Аннушка вышла из вагона первая. Кругом было много военных. Своих земляков, выгружавших из вагона прессованное сено, она узнала по их серым с зелеными окаемками башлыкам, по крупным кубанкам и узким наборным поясным ремням. У Аннушки тревожно сжалось сердце...
— Это наши, тетя Полина, — прижимаясь к своей спутнице локтем, проговорила она тихо.
— Зараз, Аннушка, тут все наши, — строго ответила Полина Марковна, вглядываясь в подходивших военных.
Впереди в широкой кавказской бурке быстро шел Михаил Павлович Шубин и кого-то искал глазами. Поровнявшись с Шубиным, Константин Сергеевич назвал свою фамилию. Михаил Павлович, остановившись, посмотрел на него вспыхнувшими глазами и, не говоря ни слова, обнял и трижды поцеловал в губы. Остальные сопровождавшие Шубина командиры и казаки, окружив женщин плотным кольцом, крепко жали им руки. После короткого приветственного митинга гостей посадили в автомашины и повезли в штаб кавгруппы.
Вечером в празднично убранной комнате, где квартировали уехавшие на парад Кушнарев и Торба, сидя между Полиной Марковной и Аннушкой, Шаповаленко сортировал привезенные из станицы письма, одни откладывал влево, другие вправо...
— Стакопа. Гм! Петр Стакопа...
Филипп Афанасьевич повертел письмо в руках и отложил влево.
— Ему же посылку жинка прислала, — проговорила Аннушка. — Надо завтра отдать...
— Некому отдавать посылку. Погиб Стакопа, — хмуро проговорил Шаповаленко. — Недавно, яких-мабуть три дня тому назад, убили вороги Петра Стакопу.
Аннушка, придвинув к себе стопку писем, которые Филипп Афанасьевич откладывал влево, впилась в адреса.
— А Потапенко? — спросила она побелевшими губами.
— И Потапенко...
— Да у его ж хлопчик тилько що народився! — широко открыв еще невысохшие от слез глаза, сказала Полина Марковна.
— Да ты и Клименко тут положил!
Аннушка с ужасом вспомнила, как она получила письмо, в котором ей сообщили, что Захар пропал без вести. Тогда она купала сына в корыте и так растерялась, что едва не бросила его в воду. Пришла жена Клименко, сидела до утра и все успокаивала, что Захар найдется.
И действительно, Захар нашелся. А вот Клименко не найдется. Теперь уже самой ей придется утешать его жену, чернобровую веселую Настю. А чем она может ее утешить?
Аннушка сидела за столом смутная, потерянная.
Собрались казаки, выпили вина. После многочисленных расспросов о доме запели родимые песни. Аннушка, положив руки на уставленный закусками стол, слушала.
Шаповаленко пододвинул ей стакан красного цимлянского. Песня ширилась, становилась все полнозвучнее и властно захватывала Аннушку. Что-то гордое, непоборимое слышалось в густых, мощных голосах, сильное, утверждающее жизнь. Она сидела не шевелясь. Потом запела и она. Сначала подтягивала тихо, а потом ее звучный голос поднялся выше и слился в общем могучем хоре.
Филипп Афанасьевич, посматривая на нее, заметил, как, захватив рукой стакан, она держала его у подбородка. По ее красивому лицу текли крупные слезы, скатываясь по щекам, падали в стакан, в искрящееся вино.
На другой день, срочно вызванные по телефону, возвратились Торба и Кушнарев. Вместе с ними вернулась Оксана, ездившая в Москву за получением ордена. Когда за окном протопали кони, Шаповаленко с Аннушкой выскочили на крыльцо. Узнав Захара, Аннушка почувствовала, что радость заслонила в ней все другие мысли.
Кушнарев услышал сначала тихий крик, потом мелькнул кто-то в белом с крыльца. Женщина, закутанная в кавказский платок, уже была в сильных руках Захара. Не отрывая глаз от ее лица, он почти бегом внес ее в хату.
Поздно ночью, проводив последних гостей, Захар и Анна остались вдвоем. Взглянув на мужа, она улыбнулась мягкой, ласковой улыбкой, взяла веник и начала подметать пол. Захар топтался рядом, засыпал ее вопросами и все время мешал.
— А скажи, почему ты тогда не сказала, що у нас сын?
— Да потому, що дюже была сердита на тебя. Проститься не заехал.
— Да я ж был! Замок висел, да Полкан меня облаял...
— Колы б я знала...
Аннушка, стыдливо пряча розовеющие щеки в белый платок, низко склонила высокую статную фигуру и гнала табунок окурков к порогу.
— Заканчивай быстрей, погутарим спокойно, Аннушка, родная!
— Погоди трошки, Захарушка. Я хочу зараз, щоб все кругом чисто было, щоб ни одна соринка больше не встрела в нашу жизнь. Все щоб было на доброе здоровье. Вымету и далеко, далеко кину, щоб николы назад не верталось.
— Верно, Аннушка. Пусть никогда не возвращается. Потом Аннушка, полулежа на кровати, глядя Захару в лицо, рассказывала, что ей пришлось за последнее время пережить. Торба перебирал ее мягкие струящиеся косы и слушал, покусывая горячие губы, и все никак не мог припомнить ощущение той далекой ночи, сопоставляя ее с настоящим неожиданно возникшим счастьем. Неужели его принесла война?
— Аннушка, ягодиночка моя!
Захар крепко обнимает ее и чувствует у своего лица ее счастливое дыхание.
— Ты знаешь, Захарушка, я кушать хочу. Сколько было гостей, всех мы угощали, а сами только друг на друга смотрели и ничегошенько не ели. У меня есть яблоки, що мама положила, и холодный поросенок. Сробим так, як будто наша настоящая свадьба.
— Тайная? — тихо спросил Захар.
— Тайная. — Анна почувствовала его улыбку, засмеялась.
Ее смех прозвучал в тишине ночи молодо, желанно. Это был счастливый смех любящей и любимой женщины.
Они сидели за столом. Захар разрезал желтоватое яблоко на две половины, одну подал жене, другую положил около наполненного вином стакана.
— Ты, Захар, ничего не рассказал мне о Москве. Наш эшелон прошел по якой-то окружной дороге, и мы ничего не побачили. Темнота кругом. Константин Сергеевич сказал, будем ехать обратно...
Аннушка надкусила яблоко и умолкла.
— А немцы, Захар, отсюда далеко? — неожиданно спросила она.
— Километров пятнадцать.
Торба выпил вино и закусил яблоком. Он видел в блестевших глазах жены скрытое напряжение, тревогу.
— А сюда они не могут?..
Аннушка поперхнулась и силилась улыбнуться.
— Нет, Анюта, не могут, — стараясь придать голосу обычную твердость, ответил Захар. — Там фронт. Передовая.
— И вы их не пустите в Москву?
— Никогда не пустим.
— Ну как же! Смотри, сколько они городов забрали! Почему же вы их сюда пустили? Что же будет дальше?.. Они же, подлые, и на Кубань придут. В Ростов уже пришли. Что же будет дальше?.. Захарушка! Як же я приеду домой, меня колхозники спросят...
Вопрос жены был настойчивый, требовательный. В каждом селе тогда задавали такие вопросы.
Захар молча встал. Он подошел к стене и снял с гвоздя полевую сумку. Отстегнув пряжку, достал аккуратно свернутую газету. Развернув лист, он положил его перед женой, обнял ее и строго проговорил:
— Вот здесь товарищ Сталин точно сказал, что будет дальше. Я вчера был на Красной площади и сам слышал. Его слова не забуду до тех пор, пока жив. Вот слушай: «вся наша страна организовалась в единый боевой лагерь, чтобы вместе с нашей армией и нашим флотом осуществить разгром немецких захватчиков». Разве это не так? Вы привезли от кубанских колхозников подарки фронтовикам. А сибирские рабочие шлют десятками эшелонов танки, самолеты, пушки, едут сотни тысяч добровольцев! Сколько движется на фронт людей, техники, разве ты не видела?
— Видела, Захар. Ой, много я видела силищи!
Анна поднялась, положила руку на плечо мужа и взволнованно, умоляюще проговорила:
— Захар, ты знаешь що, милый? Я тоже останусь здесь! Що я, не могу на коне? Що я, не знаю, як стрелять? Ты сам учил нас в военном кружке...
— Подожди, Аня!
Захар осторожно снял ее руку с плеча и усадил на стул. Что-то магически сильное было в этой гордой кубанской женщине. Оно притягивало упорно, непреодолимо. «Ведь воюют же Оксана, Нина», — на мгновенье вспыхнула в голове Торбы мысль, но он тотчас же отогнал ее.
Анна чувствовала происходившую в нем борьбу и напряженно молчала. Захар понял ее мысли. Едва не вырвавшееся из его уст согласие он посчитал как проявление слабости, желание постоянно иметь около себя самого близкого и дорогого человека. Присев рядом, решительным движением руки подхватил нож и разрезал второе яблоко. Подавая ей половину, ласково сказал:
— За то, что ты хотела бы остаться здесь, я для тебя ничего в жизни не пожалею. Но у нас, Аня, тут есть кому стрелять. Зараз, если все жинки приедут на фронт, некому будет землю пахать, пацанов нянчить. Зараз тебя народ послал. Ты приедешь и расскажешь, якими ты нас видела. Прочитаешь колхозникам вот эту газету и объяснишь им, що, мол, так будет, як сказал товарищ Сталин.
За окном послышался конский топот. Анна вздрогнула и тревожно прижалась к Захару. Бережно отстранив жену, Торба вышел в сени.
Через минуту он вернулся. На короткое мгновение за стеной цокнул подковами конь. Анна, удерживая зябкую дрожь, встревоженно посмотрела на Захара.
— Ехать треба, Аня, — ответил он коротко и, сняв висевшую на спинке стула гимнастерку, быстро надел ее.
Ни о чем не расспрашивая, Аннушка подала ему сначала полушубок, потом полевые ремни, шашку. Он быстро и ловко надел все это и уже завязывал на груди ремешок бурки.
— Можно мне проводить тебя, Захар? — смущенно и грустно спрашивает Анна.
— Не можно, Аня. Там кони готовы. Да и холодно, и пропуска ты не знаешь. Побереги сына, Аня, — обернувшись от порога, медленно выговорил он последние слова и скрылся за дверью.
Все было похоже на тяжелый сон.
Аннушка расслабленно присела на скамью. Вяло протянув руку, взяла оставшуюся половину яблока и, поднеся ее к губам, вдруг уронила голову на стол и тихо заплакала.
На улице стояла морозная светлая ночь. Точно во сне Анна слышала протяжную команду:
— Справа рядами, ма-а-арш!!!
Потом от конского топота долго вздрагивали стены хаты. На дворе горланил петух и так же, как на Кубани, лаяли собаки. Были слышны одиночные выстрелы, шум моторов, скрип санных полозьев и приближающийся гул артиллерийской стрельбы.
В комнате было уютно и тихо. На столе ярко горела лампа, и свет ее, ровный, немеркнущий, звал к жизни и счастью.
Разведчики уже выводили из колхозной конюшни лошадей, когда подошел Торба. У широко открытых дверей он встретил Кушнарева. Какая-то женская фигура шмыгнула мимо него и скрылась за стеной. Разглядеть ее Захар не успел. Здороваясь с Кушнаревым, спросил:
— Куда будем двигаться?
— Пока со штабом. Кажется, пойдем на Чесмино.
Кушнарев придавил брошенный на снег окурок и, обернувшись к Захару, словно извиняясь, добавил:
— Тут Оксана была... Хотела с нами ехать, но нет свободного коня. Пошла в медэскадрон. В полк ей надо.
— А разве она вчера не уехала машиной? — спросил Торба.
— Да нет, осталась... — как-то неопределенно ответил Кушнарев. — Ну, как жинка? Попрощались?
И, не дожидаясь ответа, участливо сказал:
— Ты, пожалуй, можешь остаться. Завтра догонишь...
— Нет, Илья, вертаться я не люблю, — сухо возразил Торба и подстегнул нагайкой чью-то неохотно идущую на поводу лошадь, как бы подхлестывая этим жестом свою бунтовавшую волю, укрощая вспыхнувшее желание вернуться, побыть еще два часа вместе, а потом с измятым сердцем рвать коню губы и в бешеной скачке догонять товарищей. Он быстро овладел собой и, оправляя под буркой скрипящие ремни, сказал:
— Вместе поедем, Илья.
— Вместе, Захар, — в тон ему отозвался Кушнарев.
Он понимал состояние своего друга. Хотелось сказать многое, но подходящие слова в эту минуту куда-то разлетелись.
Метя полами широких бурок снег, они неторопливой, вразвалочку, кавалерийской походкой, плотно плечо к плечу, пошли к поджидавшим их коням.
Когда Захар очутился в седле, он почувствовал себя увереннее, спокойнее, как он чувствовал себя на параде, на Красной площади, слушая речь Сталина. Тогда радостное оцепенение сменилось гордым сознанием мужества и наполнило все существо неисчерпаемой энергией, готовностью совершить все, чтобы выполнить приказ вождя.
Подав команду, Кушнарев вывел эскадрон за околицу. Конница мерной поступью двинулась к ближайшему лесу. В непрекращающемся гуле отдаленной артиллерийской канонады ракетные вспышки бросали в небо голубоватые отсветы. Впереди слышался грозный шум, скрежет танковых гусениц сливался с грохотом выстрелов, криками солдат, стуком топоров, топотом конских копыт и с треском падающих деревьев.
— Ты говоришь, Захар, что вам было тяжело расставаться? — спросил Кушнарев Торбу, когда они днем остановились кормить лошадей. Друзья сидели в лесной землянке в ожидании дальнейших приказаний и грелись около походной железной печки.
— Слов нет, як тяжело. О себе я даже мало, Илья, думаю...
— А ты когда-нибудь о смерти думал?
— После того, як придушил немецкого полковника и видел, як они издевались над Оксаной, я зараз перестал думать о смерти. Нет, хотя, пожалуй, думаю, но та друга думка.
— Какая же это думка?
Торба подбросил в печку несколько чурок и со стуком закрыл дверку.
— А така, щоб не бояться смерти, щоб это было — тьфу! Когда этого человек достигнет, он долго будет жить.
— Ну, это не совсем так. Гибнут и храбрецы, — возразил Кушнарев.
— Не спорю, но храбрые и после смерти живут. Помнишь, що сказал на партийном собрании генерал Доватор? Храбрость — это ответственность за то, что тебе поручено делать.
— Это верно, Захар. Вот ты вспомнил, как немецкий полковник издевался над тобой и Оксаной. Она мне об этом рассказала. Я тебя считаю не только другом, братом, но и настоящим человеком. А я вот сомневаюсь, правильный я человек или нет?
— Ты, Илья? Ты — правильный! За таких, як ты, я готов голову в кусты кинуть. Ты говоришь, що я настоящий. Нет. Я хочу им быть, а сам думаю, ще у меня на хребту щетины колючей богато, подпалить надо трошки.
— Подожди, Захар. А я о себе хочу сказать. Меня червячок гложет. Мне стыдно перед тобой.
— Что ты, смеешься, что ли?
Захар удивленно сдвинул густые брови и неморгающе посмотрел на Илью. Кушнарев как-то виновато и загадочно улыбнулся.
— Верно говорю. Я ведь тебе многого не рассказал...
— Что ж ты не рассказал?
Торба настороженно повернул голову.
— Я ведь люблю Оксану. Ты знаешь это?
— Нет, не знаю, но скажу только одно: такую девушку нельзя не любить. Що ж тут такого, и почему ты молчал?
— Потому, что плохо думал о тебе и о ней. Мне казалось, что когда вы были вместе в тылу...
— Стой, Илья! — перебил Захар и, склонившись к Кушнареву, горячо, взволнованно сказал: — Эта девушка для меня дороже родной сестры, понял? И кто о ней подумает гадко, тому, Илья, надо отрубить башку!
— Руби мне первому, — коротко и покорно сказал Кушнарев.
Он только сейчас понял, как незаслуженно обидел друга.
— Как ты мог подумать, Илья?
Торба укоризненно покачал головой.
— Тебе кто-нибудь говорил?
— Салазкин болтал.
— Дурак он после этого! — мрачно сказал Торба. — Ты и сейчас так думаешь?
— Нет. Вот ты послушай...
И рассказал Кушнарев, как, возвращаясь с задания, партизаны подобрали его неподалеку от Витебска...
Во время боя его ранило в голову и засыпало землей. Когда он пришел в сознание, часть уже отошла. Свыше двадцати суток он брел по лесам Белоруссии и, наконец, встретил партизан. От потери крови и от голода он так ослабел, что замертво свалился на обочину лесной дороги.
Очнулся он в шалаше. Перед ним сидела девушка в зеленой фланелевой кофточке. Она крошила в миску с куриным бульоном сухари.
— А мы думали, что вы совсем не проснетесь, — певуче сказала девушка. — Уж будила, будила. Спит, як умерший. Доктор сказал, что это здоровый сон, крепкий. Болит тут? — осторожно касаясь его головы, спросила девушка.
— Немножко.
— Вылечим. Я тоже лекарь, вы не думайте. Мы недавно одного кавалериста вылечили. С ним в рейде были. Генерал Доватор нас водил... Это наш земляк, белорус! Знаете, как он немцев бьет? У-ух! А этот кавалерист жизнь мне спас, полковника немецкого задушил! Геройский казак. Он тоже тогда двое суток меня все во сне кликал: Оксана да Оксана! А я тут рядом сижу. Позовет, позовет, я ему руку на голову положу, и он снова спит, як маленький ребенок. А вы какую-то другую девушку кликали, чи Наташу, чи Дашу...
Лицо Оксаны осветилось ласковой улыбкой.
В ответ на простодушные слова Оксаны Кушнарев отрицательно покачал забинтованной головой и тоже улыбнулся. Потрогав рукой повязку, он догадался, что она чистая и свежая, пахнущая лекарством.
Лежал он в просторном шалаше, на мягкой подстилке. В отверстие шалаша Илья видел лес. За спиной Оксаны на сучке толстой ели висел вещевой мешок и оружие. Рядом на свежем пне лежала куриная голова, и тут же валялись потроха, неподалеку слышались разговор и смех. По кустам стлался дым, пахло мясным варевом, луком и печеным хлебом.
Кушнарев почувствовал, что он страшно голоден. Покосившись на миску, он нетерпеливо облизал губы и закрыл глаза.
— Будем сейчас кушать, — угадав его мысли, проговорила Оксана и, не выпуская из рук миски, сделала несколько смешных и неловких движений на коленях, чтобы подвинуться к раненому, и, оправив завернувшуюся сзади синюю юбку, села на пятки.
— Ну, открывайте рот, Илья Павлович, — зачерпнув ложку, она поднесла к его губам.
— Да я и сам могу, — смущенно сказал Кушнарев, приподнимаясь на локте.
— Не шевелись, — упрямо и настойчиво возразила Оксана. — Доктор велел лежать спокойно, и я так хочу...
Кушнарев вынужден был повиноваться. Все для него казалось странным и новым. Есть из чужих рук было неловко и неудобно. Но зато как все нравилось ему! Особенно вкусными казались бульон и размоченные в нем сухари. А главное, было приятно ощущать разлившуюся по телу теплоту и чувствовать заботливое прикосновение рук девушки, вытиравшей ему марлевым лоскутком губы.
— А оброс-то... колючий...
Оксана весело шутила, лукаво прищуривая глаза, и смеялась.
— Сейчас Федьку позову, он тебя побреет.
— Спасибо, — кивая головой, отозвался Илья. Заглянув в миску, он обнаружил, что бульон и сухари уже кончились. А есть хотелось пуще прежнего.
— Ксаночка, подсыпь еще трошки.
— Нельзя много. Надо помаленечку.
— А хлебца нету? — умоляюще глядя на Оксану, спросил Илья, теряя всякое терпенье.
— Дам трохи. И курочки кусочек.
Оксана на четвереньках выползла из шалаша, достала из висевшего на дереве мешка краюху хлеба, отрезала ломтик и отломила такой же, до обидного маленький, как показалось Илье, кусочек курятины.
— Да ты меня кормишь, как годовалого ребенка, — проговорил он, морщась от досады.
— Ты не ребенок, а хворый. Капризничать нехорошо, миленький, — настойчиво уговаривала его Оксана. — Поправишься, целую курочку приготовлю. Хоть две. А сейчас чаю дам с медом. Батько на заданье ходил и принес для тебя. И курочку тоже.
— А сейчас где твой батько?
— Спит. Они ночью эшелон под откос кувыркнули и полицаев еще забили. К нам скоро аэроплан прилетит.
— Фронт далеко? — спросил Илья.
— Очень. Немцы в Ростов зашли. Наши отступили.
— Немцы заняли Ростов?
Кушнарев порывисто сел, опираясь на руки, и, повернув голову, впился в Оксану глазами.
— Отступили, говоришь?
— Ну да, миленький. По радио сообщили. А зачем ты вскакиваешь. Ложись сейчас же!
Она помогла ему лечь, поправила сбившуюся на голове повязку.
Сообщение Оксаны поразило Илью.
Лицо его помрачнело, глаза тоскливо смотрели на полутемный скат шалаша, точно искали кривую кавказскую шашку. Вскочить бы сейчас на коня, разобрать поводья, впаять горячую руку в эфес клинка, врубиться в самую гущу крикливой свастики, за Кубань, за Дон, за поруганную Украину, за объятую пожаром Смоленщину. Защемило в груди, больно, горячо. Хотелось застонать... Но вместо этого, сверкнув на Оксану черными, затуманенными влагой глазами, он тревожно спросил:
— А кавалеристы-доваторцы, что в рейде были? Они где? Ты ведь с ними была?
— Да.
Заметив настороженный, пытливый взгляд Ильи, Оксана добавила:
— Фашистов бьют. А Лев Михайлович уже генерал. Генерал! — протяжно повторила Оксана. — По радио сообщили.
Илья, поймав руку Оксаны, крепко сжал ее. Оксана вскрикнула:
— Тише! Хворый, а силища ой-ой!
Кушнарев, не выпуская руку девушки, взволнованно шептал:
— А я знал, что этот полковник будет генералом. Боевой! Как мне хотелось к нему добраться. Эх! Я бы за него, Ксана, жизнь отдал. Все равно я буду с ним воевать, буду!
В шалаш вместе с легким дуновением ветерка ворвался тепловатый запах лесной прели, напоминавший запах чернозема, и, казалось, влил во все тело радостное ощущение физической силы. Илья повеселел. Повеселела и Оксана.
...Так шли дни. Оксана варила супы, поила Илью молоком. Он поправлялся и набирался сил. Однажды Оксана принесла ведро теплой воды и, не обращая внимания на протесты Кушнарева, вымыла его до пояса. Он стыдился, дрожал от холода, но вынужден был покориться ее безоговорочному требованию.
Просыпаясь по утрам, он видел, как Оксана, свернувшись клубком, спала у входа в шалаш. Ее сон был спокоен и крепок. Отдохнувшее лицо розовело. Правильный прямой, с тонкими ноздрями нос, казалось, делался тоньше и заостренней. Губы она складывала так, словно они желали чего-то радостного, неизведанного.
Илья подолгу смотрел на ее лицо и ждал той минуты, когда она проснется и, улыбнувшись по обыкновению, скажет самой себе: «Ах ты, засоня, ах ты, лентяйка! Как кочерыжка замерзла и все спишь, бесстыдница». Илье очень нравилась эта милая и шутливая брань.
Илья прислушивался к ее ровному дыханию. Порой ему казалось, что ее черные ресницы закрыты не плотно, а на щеках вдруг начинает розоветь яркий румянец.
Тогда Илью охватывало необъяснимое беспокойство. Чтобы скрыть его, он начинал ворочаться с боку на бок и громко кашлять. Иногда среди ночи Оксана, натягивая на голову бараний тулуп, спрашивала:
— Замерз или не совсем?
Ночи стояли холодные, осенние. К утру уже появлялись легкие заморозки.
— Мне-то тепло, а ты спишь наружи, — рассеянно глядя в потолок шалаша, отвечал Кушнарев и принимался равнодушно зевать. — У меня же два одеяла...
— Я люблю спать на воздухе, — полусонно говорила ему Оксана. — У меня шуба теплая. Когда совсем будет холодно, тогда в шалаше лягу.
— Конечно, — равнодушно подтверждал Илья. После того принужденного купания он почувствовал себя почти совсем здоровым. С вечера уснул крепко. Ему приснилось лицо Оксаны. Оно было необыкновенным. Исчезло с него суровое выражение, а губы были открыты, девушка горячо дышала ему в щеку. Он проснулся. Оксана спала на своем обычном месте с прежним суровым выражением на лице. Илье до обиды было жаль улетевшего сна.
Весь этот день Кушнарев был молчалив.
— Почему ты надутый? — спросила Оксана.
— Так, скучно, — в замешательстве ответил Илья.
— А отчего скучно? — допытывалась Оксана, пристально вглядываясь в его лицо.
Кушнарев почувствовал, что начинает терять власть над собой. Отвернувшись к стене, он молчал. С момента его появления в партизанском отряде прошло уже десять дней. Илья набрался сил. Раны быстро заживали. Этому способствовали крепкий организм и усиленное питание.
Заботы Оксаны волновали его, побуждали к необходимости чем-то ответить, как-то отблагодарить девушку. Опасности, совместные тяготы войны, родственность судьбы сближали их.
— Ты славная девушка, — вскинув глаза на Оксану, быстро проговорил Кушнарев.
— Не девушка, а вдова.
Оксана, склонив голову, поймала его взгляд и густо покраснела.
Он продолжал следить за ней глазами с нескрываемым волнением, словно увидел ее первый раз в жизни. Подавляя вздох, он задумчиво произнес:
— Теперь много вдов будет.
— А разве мне от этого легче? Я-то знаю... — звонко выкрикнула Оксана и, не договорив какие-то слова, едва сдерживая слезы, отвернулась в сторону.
— Ты не сердись, Ксана. Я ведь так сказал. К слову пришлось, — смущенно проговорил Илья Кушнарев. В этот день они больше ни о чем не говорили до самого вечера.
К ночи сильно похолодало. С неба посыпалась ледяная крупа, подул резкий ветер, тревожа на деревьях не успевшие опасть листья. Лес гудел шумно и протяжно, точно роптал за нарушенный покой.
Еще до ужина Оксана завесила отверстие шалаша плащ-палаткой, выкопала посредине шалаша ямку и, наломав сухого орешника, разожгла камелек. Ужинали молча. Но оба чувствовали внутреннее напряжение. Оба сознавали неловкость и неестественность положения. Сучья, потрескивая, горели весело и ярко. Подбросив несколько толстых сухих палок, Оксана заговорила первая. Ослабевшее пламя скрыло выражение ее лица. Кушнарев слушал молча и внимательно. Оксана рассказала ему всю свою недолгую, но богатую житейскими радостями и невзгодами жизнь.
Слушая ее, Илья все больше и больше начинал волноваться. Она отзывалась на все наболевшие в его душе вопросы с подкупающей прямотой. Ее голос звучал тихо и задушевно. Казалось, не было в мире роднее этого чудесного, бархатистого голоса.
Через несколько дней в расположение партизанского отряда прилетел самолет. Он забрал с собой Кушнарева на Большую землю.
Когда самолет делал над лагерем прощальный круг, на опушке леса стояла группа партизан. Они приветливо махали руками. Среди них, в зеленой фланелевой кофточке, с карабином в руках, Кушнарев увидел Оксану...
— Если тебя, Илья, любит такая дивчина, як Оксана, ты счастливый человек! Больше ничего сказать не могу, — заявил Торба, когда Кушнарев закончил свой рассказ.
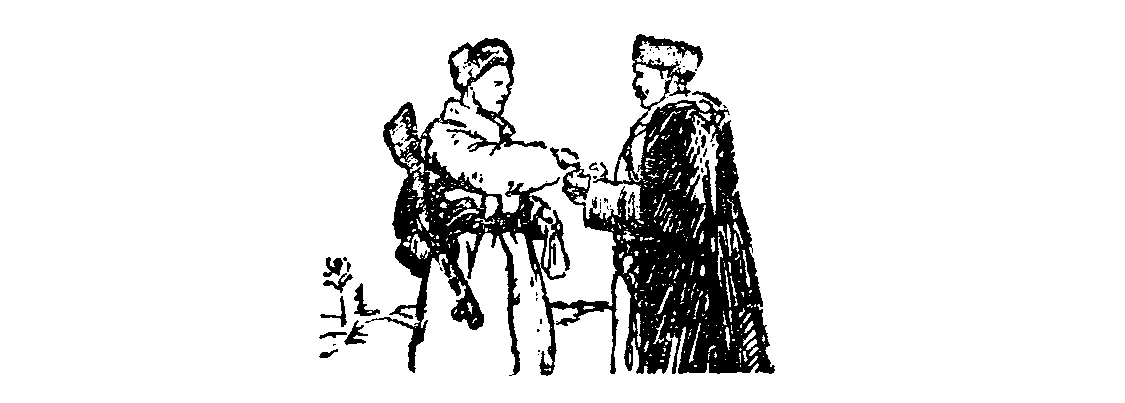 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |