"На восходе солнца" - читать интересную книгу автора (Рогаль Николай Митрофанович)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
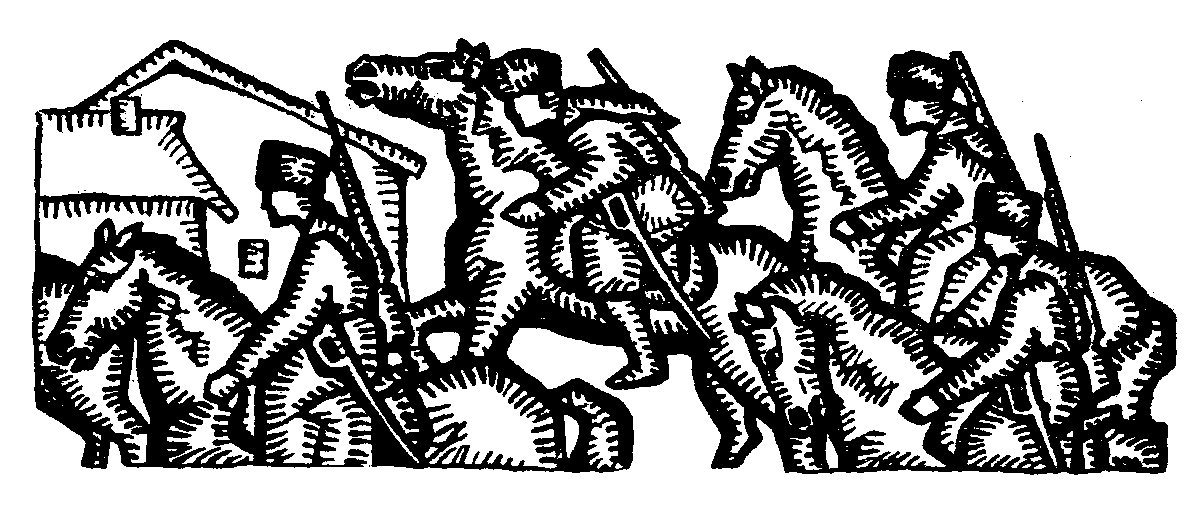 |
В декабре тысяча девятьсот семнадцатого года поезда ходили редко. Сборный поезд № 507, составленный большей частью из старых двухосных вагонов, емкость которых со времени русско-японской войны определялась известным выражением «сорок человек, восемь лошадей», с трудом пробивался по Амурской дороге.
Кто только не ехал тогда в переполненных донельзя вагонах, грязных, прокуренных, с устоявшимся запахом табака, давно не мытого человеческого тела, тухлой рыбы и карболки: солдаты с фронта, моряки с Балтики, бойкие амурские крестьянки, молчаливые забайкальцы, потревоженные революцией купцы, переодетые царские офицеры. Одни спешили домой, другие пробирались поближе к границе.
Поезд медленно полз между сопок. Ветер выдувал снег из желтых дубняков и заносил выемки. Пронзительно визжали колеса.
Паровоз, охая, втаскивал состав на подъем и потом долго и тревожно гудел, не в силах сдержать напор вагонов, идущих под уклон: тормоза не держали. Да и не было в то время исправных тормозов.
Одного подъема паровоз не взял. Он натужно попыхтел, изрыгая черно-ржавый дым, но тщетно: поезд остановился в выемке, скрипя, откатился немного назад и стал уже окончательно.
Из смежных вагонов спрыгнули на снег матрос Логунов и солдат Приходько. Оба поглядели по сторонам, но никаких строений вблизи не обнаружили: стояли среди перегона.
Они сошлись у паровоза, окинули один другого дружелюбным взглядом.
— Стоим, а?
Пожилой усатый машинист, услышав голоса, свесился из будки.
Приходько позвенел котелком.
— Гаврила, будь другом. Отпусти кипяточку.
— Кипятку нет.
— Жалко?
— Не в том дело. Дрова кончились.
Логунов протяжно свистнул.
— Надолго стали?
Машинист с тоской поглядел на небо, на припорошенные снежком рельсы впереди. Сказал с досадой и раздражением:
— А вот резервный паровоз придет. Может, к вечеру, а то и завтра.
С обеих сторон к железнодорожному полотну подступал не тронутый еще лес: белоствольные березы, осинник небольшими рощицами, по увалам — дубняк с неопавшей сухой листвой, одиночные липы и клены. Неширокая просека впереди, на закруглении, казалось, вовсе сходила на нет, и обе стены леса там сомкнулись, преградив поезду путь.
— Чудн
— А ведь верно, браток! — поддержал Логунов.
Через минуту они стучались в двери теплушек:
— Эй, у кого пилы, топоры — выходи!
Перебрасываясь шутками, смеясь, люди протаптывали в снегу тропу от паровоза к ближней рощице. В морозной тишине далеко разносились их голоса.
Вспорхнул и перелетел подальше житель этих мест — пестро-серый поползень. Усевшись удобно на дереве, он оглянулся, затем деловито застучал клювом по шершавой ребристой коре. Из дупла черной березы, заметно возвышавшейся над другими деревьями, высунулась кругловатая мордочка летяги и тут же спряталась. Подошедший Приходько стукнул обухом топора по стволу; дерево до самой вершины протестующе загудело. С нижних ветвей на солдата посыпался иней.
Приходько скинул шинель, поплевал на руки. Размахнувшись, он сразу вогнал топор на полчетверти в мерзлый ствол застонавшего дерева. Полетела щепа.
Дерево, зашумев вершиной, мягко ухнуло, зарылось в снег.
— Э-ге-ге! Гляди-ка — зверь!
Летяга, еще до того как падающее дерево коснулось земли, оттолкнулась от него, косым обрезком паруса пронеслась над головами людей, ухватилась цепкими лапами за гладкую кору соседней березы и мигом взобралась к вершине. Там зверек сжался в комочек, прильнул дрожащим от ужаса телом к шатким, колеблющимся ветвям, хотел затаиться и переждать. Но уже человек двадцать, рассыпавшись цепью, увязая по колени в снегу, крича и улюлюкая, окружили дерево.
— Шест надо. Шестом сковырнем ее в два счета, — суетясь, предложил кто-то.
Несколько человек кинулось рубить подходящий для этого осинник. Остальные топтались вокруг дерева, возбужденно переговариваясь.
Летяга, улучив момент, бесшумно спланировала в сторону открытой поляны, где не было людей. Все сразу кинулись ей наперерез. Тогда зверек на лету изменил направление и дотянулся до чащи, вырвавшись благодаря этому маневру из опасного окружения. Среди деревьев еще два-три раза мелькнуло его распластанное дымчато-серое тело и пропало, не оставив даже следа на снегу.
— Ушла-таки. Ну, молодец! — громко и одобрительно сказал Савчук — высокий, могучего сложения человек в офицерской шинели без погон. Он только что подошел, видел все со стороны. — Теперь не догнать.
Матрос, помахивая топором, обрубал сучья.
— Эй, работнички! За простой денег не платим, — весело скалясь, крикнул он.
Завизжала пила. Дружный перестук топоров откликнулся эхом в чаще.
— Вот эта чурочка по мне. В самый раз, — сказал Савчук, когда пильщики откряжевали толстую комлевую часть поваленного дерева.
Он приподнял кряж за один конец, поставил его на попа, чуть нагнулся и ловким слитным движением рук и всего напружинившегося корпуса легко вскинул чурку себе на плечо. Твердо зашагал по тропе к паровозу. Встречные сторонились, уступали дорогу.
Повеселевший машинист суетился возле паровоза, что-то подвинчивал, подкручивал. Его помощник и кочегар грузили заготовленный швырок на тендер.
Часть пассажиров осталась в вагонах, шипя и шушукаясь.
Логунов мимоходом распахнул одну дверь, вгляделся:
— А, бела кость! На дармовщину проехать метите, господа почтенные?
Повернулся и пошел прочь. За спиной у него явственно прозвучало:
— Хамье!
Матрос одним прыжком вернулся к дверям.
— Кто гавкнул?
Молчание. Острые ненавидящие взгляды.
— У, сучье племя! — Логунов с силой захлопнул ржавую дверь и пошел в лес за очередной ношей.
К вечеру паровоз поднял пары, и поезд тронулся.
Сопки за окном вагона сменились унылыми кочковатыми марями с блеклой травой поверх снега, худосочными березняками и редкими дубовыми рощами. Мелькали станции: Тихонькая, Ин, Волочаевка — глухие, безвестные места.
Случайная остановка встряхнула людей, перемешала, сгруппировала наново: два лагеря оказались в поезде, как и во всей стране. Но вряд ли кто знал тогда, что пути пассажиров еще не раз скрестятся, и кровь ляжет между ними, и не один сложит голову в этом далеком краю.
Утром следующего дня Василий Приходько, Игнат Коваль, Саша Левченко — на фронте они составляли один пулеметный расчет — и прапорщик Савчук, возвращавшийся вместе с ними домой, стояли у выхода с перрона хабаровского вокзала. Ждали замешкавшегося Логунова.
Мимо них текла толпа пассажиров с чемоданами, баулами, мешками.
Молодой щеголеватый хорунжий Варсонофий Тебеньков, встречавший двух приезжих в штатском, узнав Приходько, весело поздоровался:
— Здорово, Василий! Домой?
— Так точно, домой, — сказал Приходько.
— Кланяйся нашим, если увидишь. В поселок заглянешь, надеюсь?
— Видать, придется. — Приходько был доволен, что встретил земляка.
Коваль с мрачным неудовольствием разглядывал сияющие погоны хорунжего.
— Однако они тут спокойно живут, а?..
Савчук нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Он думал о матери, с которой скоро встретится.
Много их, молодых и сильных парней, отправилось с этого вокзала на войну, а кто вернулся? Сколько пережито за эти годы, сколько передумано!
Но как хорошо вернуться домой!
Савчук разглядывал знакомое деревянное здание вокзала с трехскатной крышей, облупившейся краской на стенах и замерзшими окнами; и станционный колокол, возвестивший гулким ударом возвращение Савчука в родной город; и торопливых пассажиров, совершенно равнодушных к этому событию, занятых лишь собственными делами.
— Ну вот и матрос! — сказал он с облегчением.
Логунов бережно вел под руку молодую женщину с грудным ребенком на руках. Поддерживая ее за локоть, он другой рукой волочил чемодан, баул и свой матросский сундучишко.
— Понимаете, расхворалась гражданка... И знакомых никого нет.
Савчук побежал за извозчиком. Он застал последнего, но и тот уже был занят. Плотный пожилой мужчина и форменном железнодорожном пальто, откинув потертую полость, усаживался в санки.
Савчук ухватился за вожжи.
— Гражданин, надо свезти больную. Не будете ли вы так любезны?
— А мне, собственно, какое дело? — равнодушно сказал седок. — Пустите повод! — и сделал знак извозчику, чтобы тот трогал.
Савчука обдало жаром.
— Ты кто — че-ло-век?.. А ну, выметайсь!
Должно быть, выражение его лица в эту минуту было страшным: седок, не прекословя больше, выскочил из саней.
Больную усадили в санки, закрыли ей ноги медвежьей полостью. Логунов уложил вещи, поставил рядом свой сундучок.
— Если позволите, — провожу.
Застоявшиеся лошади с места пошли шибкой рысью.
Проехав по Муравьев-Амурской, они свернули на одну из боковых улиц и остановились у запертых ворот. За забором виднелась крыша одноэтажного флигеля, макушки двух елей перед ним и голые ветви березок.
Где-то в глубине двора лаяла собака. На стук никто не вышел. Логунов перемахнул забор и сам открыл калитку.
Больная попыталась встать, но тут же беспомощно опустилась на сиденье.
— Разрешите!
Логунов поднял ее на руки и отнес на крыльцо, потом он бегом вернулся за ребенком и вещами.
— Расхворалась дамочка-то. Надо полагать, родственница ваша, — сочувственно сказал извозчик. — Вы заварите покруче липовый цвет — хворь как рукой снимет.
Дверь в квартиру открыли ключом, который Логунов долго искал в сумочке среди мелких женских вещей. В прихожей на них приятно пахнуло домашним теплом.
— Сестра, наверно, в гимназии. А тетя где-нибудь на уроке или пошла в гости, — говорила больная, снимая жакет. — Вы только, пожалуйста, не глядите. Впрочем, можете выйти пока в соседнюю комнату.
Логунов, созерцавший стену перед собой, густо покраснел и выскочил в дверь.
Вторая комната была попросторнее. Вдоль стен в ней стояли массивные книжные шкафы. Книги в шкафах тоже были солидные, толстые, в красивых тисненых переплетах. В простенке между двумя окнами висели литографии, напротив — отличная копия с картины Айвазовского «Черное море». Логунов долго стоял перед нею, смотрел и дивился. Картина, ее сюжет как-то сблизили его с обитателями дома, видно, люди, жившие здесь, понимали прелесть мятущейся стихии, любили ширь и простор, что так понятны моряку.
В спальне заплакал ребенок. Послышался зовущий голос женщины:
— Господи, да помогите же мне!
Логунов вернулся в спальню, подал женщине в кровать ребенка, и она, отвернувшись, стала кормить его грудью.
— Почему вы не разденетесь? Снимите шинель.
Затем Логунов, страшно конфузясь, неловкими грубыми руками укладывал ребенка, менял ему грязные пеленки на чистые, испачкав при этом руки и стесняясь спросить, где умывальник, искал градусник.
— Просто не представляю, как бы я добралась домой без вашей помощи. Ужасное положение, не правда ли? — говорила больная. — И я даже не знаю, как вас зовут.
— Федор Петрович, — сказал Логунов.
— А меня — Вера Павловна... Ельнева. Это моя девичья фамилия.
Вере Павловне было года двадцать три, но сейчас, в постели, она выглядела почти подростком. Щеки ее горели лихорадочным румянцем.
Пускаясь в путь из столицы, Вера Павловна и не подозревала, насколько он окажется долгим и невероятно трудным. В Москве она не смогла достать билет на прямой поезд. Каждая пересадка влекла за собой новые мытарства и мучения. Уже недалеко от дома, на Амурской дороге, из-за неисправности отцепили вагон, в котором она ехала. Устроиться в других вагонах не было возможности. Вера Павловна провела не один день на маленькой станции, пока ей вновь удалось сесть в поезд.
Все эти дни Вера Павловна страшно боялась простудить ребенка, кутала его в свое пальто и в конце концов простудилась сама.
В возникшей при посадке сутолоке ей, вероятно, так и не удалось бы пробраться в вагон, если бы не энергичная поддержка Анфисы Петровны — жены местного стрелочника.
Увидев Веру Павловну плачущей над ребенком в холодном вокзальном помещении, Анфиса Петровна тотчас же увела ее в свою тесную каморку, набитую до отказа домашним скарбом и ребятишками, отогрела, обласкала, обнадежила.
Вера Павловна с благодарностью думала об этой женщине, принявшей в ней такое горячее участие. Впрочем, в дороге ей не раз доводилось встречать сочувствие и поддержку со стороны совершенно незнакомых простых людей, к жизни которых она теперь пригляделась.
Как ни покажется на первый взгляд странным, но именно на этом долгом и трудном пути растаяло и исчезло то чувство холодного отчаяния и безнадежности, с каким она покидала столицу, навсегда похоронив там свои прежние представления о счастье, как о покойной, сытой жизни хорошо обеспеченного человека.
Добравшись после всех злоключений домой, очутившись в теплой и мягкой постели, Вера Павловна испытывала теперь несказанное облегчение. В то же время как-то сразу упали в ней невероятное напряжение сил и внутренняя собранность, которые до сих пор позволяли держаться на ногах. Видимо, болезнь, развиваясь, достигла такой стадии, когда житейские заботы уже не волнуют больного, все защитные силы организма которого сосредоточились на борьбе со смертельным недугом.
Вера Павловна впала в забытье.
Стараясь не потревожить больную, Логунов на цыпочках вышел в соседнюю комнату.
Он тоже задремал в кресле и не слышал, как пришли хозяева. Разбудил его топот ног. Перед ним стояла девочка лет шести в светлом платьице с косичками и бесстрашно спрашивала:
— Вы кто — вор?
— Нет, матрос, — сказал Логунов, мигая глазами и еще не будучи в силах понять причину ее внезапного появления.
Девочка захлопала в ладоши:
— Мама, мама! У нас матрос — настоящий!
— Ну что ты выдумываешь. Какой матрос? — сказал ворчливый женский голос за дверью, и в комнату вкатилась полная, круглая, как мяч, хозяйка дома.
Увидев Логунова, она испуганно попятилась.
— Позвольте! Как вы сюда попали, сударь? Кто вы такой?
Логунов поспешил объяснить свое появление в квартире:
— Прибыл... с Верой Павловной...
— Как? Разве Вера приехала?
Он показал глазами на дверь в спальню, и хозяйка поспешила туда, шурша на ходу платьем. Тотчас донесся ее встревоженный возглас:
— Боже, да она больна! Даша! Даша!
В гостиную стремительно вошла девушка, очень похожая на Веру Павловну.
— Что, Вера приехала? — спросила она и, не ожидая ответа, тоже скрылась за дверью.
«Сестра, — подумал Логунов, — а та, значит, тетка».
Тетка — ее звали Олимпиада Клавдиевна — охала, вздыхала, но дело кипело у нее в руках: мигом появились таз, лед, полотенце.
Даша побежала за врачом.
Про Логунова забыли. Только девочка, вернувшись к нему, допытывалась:
— Вы верно матрос? Всамделишный?
Улучив минуту, Логунов стал одеваться.
Но в это время с улицы явился бодрый бритый старик в пальто с бобровым воротником. Поставив в угол трость, он разделся, потер озябшие руки.
— Ну-с, молодой человек! Показывайте, где больная, — сказал он, приняв, видимо, Логунова за родственника.
Когда Логунов вновь вернулся в прихожую, там была Даша, раскрасневшаяся от ходьбы и мороза. Она умоляющими глазами посмотрела на Логунова.
— Нет, нет! Вы не уходите. Сестра очень плоха. Вы хоть расскажите, как ехали. Мы же ничего не знаем. Столько ужасных слухов. Пожалуйста, останьтесь.
Врач долго осматривал больную, а выйдя в гостиную, объявил напрямик:
— Плохо. Двусторонняя пневмония. Удивляюсь, как ваша сестра добралась сюда с вокзала.
— Это ее господин матрос привез, — сообщила Даша.
Врач внимательно посмотрел на Логунова.
— Похвально, молодой человек. Рыцарский поступок, да-с. — И он принялся подробно наставлять Олимпиаду Клавдиевну, как надо ухаживать за больной. Он даже ввернул в подходящий момент какую-то шутку, улыбнулся хорошей улыбкой мудрого и все понимающего человека. — Вот что, матушка! Сделайте горчичное обертывание. А лучше поставьте банки. Аспирин, конечно. Покой. В больницу — не советую: холод у нас адский... Нынче все мировыми проблемами заняты, о дровах позаботиться некому... Я, конечно, зайду.
— Да, пожалуйста, Марк Осипович. Буду весьма обязана, — сказала Олимпиада Клавдиевна.
Марк Осипович присел к столу и стал писать рецепты.
— Балтиец? — спросил он потом у Логунова.
— Так точно. Комендор с «Решительного»,
— Зимний брали?
— Не довелось.
— Гм!.. А я полагал, что там все матросы участвовали. Против десяти министров-капиталистов...
Обедали поздно. Девочка, не дождавшись, уснула. За стол сели втроем.
— Боже, до чего я измучилась! — жаловалась Олимпиада Клавдиевна. — И надо случиться такому несчастью. Ужасное время...
Больная металась. Даша, слыша ее стоны, хмурилась. Логунов сидел как раз напротив и видел малейшее движение ее лица.
— Вам, может, вина подать, Федор Петрович? — спросила Даша. — Есть красное.
— Ну что ты, милочка, — вмешалась тетка. — Матросы пьют водку. Не правда ли?
— Да, конечно, — подтвердил Логунов. — Порцию дают водкой.
Даша принесла бутылку кагора и принялась разливать вино в крохотные рюмочки. Олимпиада Клавдиевна наставительно заметила:
— Ты, милочка, видно, полагаешь, что мужчины цыплята. Подала бы стакан.
И тут же принялась рассказывать городские новости.
— Знаешь, милочка, — Олимпиада Клавдиевна обращалась к Даше, нисколько не стесняясь Логунова, как человека, который уйдет и уж больше не встретится, — приехал Мавлютин. Вот уж принесла нелегкая!
Лицо Даши сразу омрачилось.
— Вера знает? — спросила она.
— Вероятно. Они ехали в одном поезде.
Обе встревоженно посмотрели друг на друга.
— Кто это — Мавлютин? — спросил Логунов.
Ему не ответили. Он сразу почувствовал бестактность своего вопроса и смутился. «Надо было мне сразу уйти», — сердясь на себя, подумал он.
Олимпиада Клавдиевна ушла к больной и задержалась. Даша попросила Логунова рассказать о дороге, о столице. Логунов мало-помалу разговорился. Он рассказывал о суровом Питере первых дней революции, ночных патрулях, голоде, саботаже. Рассказывал о фронте, без прикрас — страшное. Люди страдали, он сам выносил эту боль и находил нужные слова. Ему был присущ талант рассказчика. Даша смотрела на него широко открытыми глазами.
— Здешние газеты все исказили, — сказала она, выслушав внимательно Логунова. И то, как она отнеслась к его словам, ее замечание о газете (уж Логунову было доподлинно известно, как они перевирают факты) сразу расположило его к ней. Оба почувствовали себя легко и свободно, без той стеснительности и связанности, какая бывает при встрече людей мало знакомых, тем более людей разного круга.
Но вернулась тетка — и возникшая было в их разговоре близость исчезла.
Олимпиада Клавдиевна тоже принялась выспрашивать:
— Правда, что комиссары младенцев пытают? А конину в Петрограде едят?
Логунов прикусил губы. Когда же он рассказал о том, как в пути кончились дрова и пассажирам самим пришлось заняться заготовкой топлива, Олимпиада Клавдиевна всплеснула руками:
— Боже! До чего довели Россию большевики!
Логунов помрачнел, стиснул в руке стакан, стукнул по столу.
— Между прочим, я тоже — большевик.
Олимпиада Клавдиевна нимало не смутилась.
— Что ж, везде встречаются порядочные люди, — заметила она. — Говорят, сыпняк в дороге есть?
— Да, гуляет.
— А скажите, — встревожилась она, — вошь в вагон может заползти?
— Куда же от нее денешься, — не без злорадного удовольствия ответил Логунов. — Они там по стенкам табунами ходят.
Олимпиада Клавдиевна так откровенно посмотрела на его бушлат, что Логунов заторопился и стал прощаться. Даша вышла проводить его.
— Вы, конечно, зайдете к нам повидать Веру? — спросила она.
— Если буду в городе, — ответил он уклончиво.
— Не понравилось вам у нас, — вздохнула Даша и неожиданно тоном заговорщика сообщила: — А вы, знаете, стакан разбили.
— Неужели? — испугался Логунов.
— Ей-богу! Дно так и отвалилось. Да вы не беспокойтесь, стакан я убрала. Говорят, посуду бьют к счастью.
И она засмеялась звонко и весело.
Саша Левченко семнадцатилетним восторженным гимназистом бежал из родительского дома на войну. За два года на фронте он хлебнул горя полной мерой: пуля в грудь навылет, отравление хлором, сыпной тиф — все перенес, не сломился. С фронта он привез усы, нежные, чуть пробившиеся.
Помня крутой характер отца, Саша с вокзала домой не пошел, а завернул сперва к приятелю-гимназисту — выяснить обстановку. Отцу после бегства из дому он не писал ни разу, про домашние дела изредка узнавал стороной — из переписки с друзьями.
Приятель уверял, что все обстоит как нельзя лучше: старик за последний год здорово сдал, можно явиться без опаски — простит. Саша все-таки отправил приятеля на разведку, а сам присел у окна.
Был солнечный морозный день. Дым из труб низко стлался над заснеженными крышами. Деревянные домики в беспорядке разбежались по склону, будто спешили скорее подняться в гору. В распадке между двумя холмами виднелась излучина Амура; чернели дальние заросли тальника. У горизонта синей громадой вставал горный хребет Хехцир.
Знакомый вид тревожил и будил воспоминания.
Вернулся приятель.
— Можешь идти. Отец и сестра дома.
— А мать? — спросил Саша, и сердце у него забилось тревожно и быстро.
— Разве ты не знаешь? Ее похоронили весной...
Саша опустился на стул, закрыл лицо руками и так просидел дотемна...
Дома его никто не встретил. Из столовой доносились голоса. Саша прошел прямо в свою комнату. Было темно, но все здесь казалось ему таким знакомым, будто он недавно вышел отсюда. Помедлив чуть, он включил свет.
Его этажерка с книгами была на прежнем месте. Те же самые стулья стояли возле стола. Но на одном из них висел офицерский китель. Из-под кровати выглядывал угол чемодана. На столе разбросан бритвенный прибор.
Кто-то чужой жил в его комнате.
Сашу это неприятно кольнуло. Он поспешил выйти обратно.
— Кто тут? — раздался позади знакомый, мало изменившийся голос сестры.
Саша нарочито медленно обернулся.
— Вот и я, Соня! — громко и радостно сказал он.
Сестра стояла в дверях ярко освещенной комнаты. Она испуганно оглянулась, притворила дверь и, обняв, крепко поцеловала его.
— Я знала, что вернешься. Папу позвать?
— Зови, — сказал он и вздохнул.
Соня еще раз прижалась к нему и выпорхнула из коридора.
Отец вошел грузной походкой, такой же большой и крепкий, каким его помнил Саша.
— Ага, вернулся! — тоже знакомым хрипловатым баском сказал он и поцеловал сына в лоб. Отошел на шаг и внимательно посмотрел на него.
— Был ранен?
— Да, в грудь.
— Так. Достукался.
Саша переступил с ноги на ногу. Былого страха перед отцом он не испытывал, но было тягостно.
— Демобилизован, конечно?
— Сам ушел.
— Вот как! Туда сам — и обратно. Ты что же теперь — с большевиками? — Вопрос прозвучал резко и неприязненно.
— Не знаю. Мне война осточертела, — ответил Саша.
Отец посмотрел на него еще раз и сказал уже другим тоном:
— Мать-то — не дождалась. Умерла. — Чуть помедлив, деловито распорядился: — Белье сжечь в печке. Прими ванну, Соня приготовит, что надо. Комнату твою занял полковник Мавлютин. Поместишься пока в моем кабинете. Покончишь с туалетом — приходи за стол.
И ушел, только половицы под ногами скрипнули.
— Саша, милый, как все хорошо обошлось! — радовалась Соня, не спуская с брата влюбленных глаз.
Когда Саша уезжал, Соня была еще девочкой-подростком, нескладной и застенчивой; сейчас это была хорошо сложенная девушка с горделивой посадкой головы, с мелкими, но правильными чертами лица; большие карие глаза, выражение которых непрерывно менялось, придавали ему особую живость и прелесть.
— Да ты, Соня, красавицей стала, — сказал Саша, любуясь сестрой и проникаясь ее радостным настроением. — От женихов, поди, отбою нет?
— Я каждому говорю: просите моей руки у отца, — засмеялась она. — Боятся.
За столом, кроме своих, было еще человек шесть.
— Сын, — коротко представил Сашу гостям Алексей Никитич Левченко.
— Очень приятно познакомиться, — отозвался сидящий с краю хмурый длиннолицый человек и назвал себя: — Сотник Кауров.
Саша сразу узнал в нем одного из тех двух «штатских», которых утром встречал на вокзале Варсонофий Тебеньков. Вторым был полковник Мавлютин — невысокий желчный человек с калмыцким лицом и колючим взглядом недобрых темных глаз. Это его Алексей Никитич поместил в Сашиной комнате.
Среди гостей находились также благодушный толстяк — начальник почтово-телеграфной конторы Сташевский, элегантный, рано облысевший лесозаводчик Бурмин, елейно-постный, похожий ликом на древнюю икону, владелец торговой фирмы Чукин и розовощекий здоровяк Судаков — служащий из Управления железной дороги.
— Идти против законов общественного развития — это безумие! Капитализм в России далеко не исчерпал своих возможностей, — громким, бодрым голосом говорил Судаков. — Я уверяю вас, господа: большевики долго не продержатся. Смешно, что о них приходится говорить всерьез.
— Нет, не смешно, — резко возразил Мавлютин. — Большевикам нельзя отказать в последовательности: вслед за рабочим контролем над производством они переходят к национализации банков. И, надо думать, на этом не остановятся.
— Грабеж! — крикнул Бурмин.
— Согласен с вами, — Мавлютин чуть наклонил голову, показав аккуратно расчесанный пробор. — Но ведь реальность факта от этого не исчезает. Вопрос о собственности, господа, — основной вопрос, выдвинутый нашим временем. Вот что следует понять деловым людям.
— Кстати, господа, — улыбаясь и заранее предвкушая эффект, перебил Сташевский. — Есть телеграмма со станции Кипарисово. Конфликт на стекольном заводе Пьянкова разрешился: завод национализирован местным совдепом.
— Пьянков напрасно довел до крайности, — сказал Бурмин, очень удрученный таким оборотом дела. — Это опасный прецедент.
— Разумеется, — поддакнул Чукин. — Ну, надбавил бы плату, повысил цену на товар. Дело в конце концов торговое.
Кауров вскочил, забегал по комнате.
— Не торговаться, — головы рубить. Вешать! Барон фон Ренненкампф отлично умел управляться со всем этим сбродом.
— Да, господа! Дело зашло слишком далеко, пора действовать, — резюмировал Мавлютин. — Не останавливаясь, конечно, перед репрессиями.
Чукин позвенел ложечкой о стакан, сощурился, точно примеривался, мягко проворковал:
— Всеволод Арсеньевич, по законам физики действие производится силой. Не вижу ее. Был Лавр Георгиевич Корнилов — не получилось. Кто еще? Где наши Бонапарты?..
Мавлютин с интересом поглядел в его ожидающие прищуренные глаза, жестко усмехнулся:
— Силы, Матвей Гаврилович, бывают двух родов: внутренние и внешние. Сочетание их может дать поразительный эффект.
— Что вы имеете в виду? — без обиняков спросил Левченко.
— В первую очередь, разумеется, союзников. На худой конец — немцев. Все равно.
— Позвольте! — Судаков с изумлением уставился на полковника. — Ведь это измена делу демократии. Помощь союзных держав я еще могу принять. Конечно, в формах, ограждающих чувство национального достоинства... Но немцы?.. Немцы!
— А я, знаете, приветствовал бы самого черта, — лишь бы он забрал большевиков!
— Браво! — крикнул повеселевший Бурмин.
Чукин молитвенно сложил на животе руки.
— Бог милостлив. Сторона наша глухая, дальняя — авось пронесет. Керенского в Питере нет, а у нас Русанов, слава богу, сидит. По ухабам, господа, вскачь ехать не дюже-то тоже. Может, когда и попридержать надо — шажком, а?
Судаков старательно протирал платочком свое пенсне.
— Да, расхамились невероятно, — пожаловался он. — Утром на вокзале один перехватил извозчика. Да еще нагрубил.
Саше приятно было ощущать хрустящую свежесть белья. Давно он не испытывал такого блаженства. От усталости кружилась голова. Разговор шел мимо него. Возникло лишь чувство острой неприязни к Мавлютину. Все в нем не нравилось Саше: и неприятно-угловатое лицо со смуглой кожей, и чуть раскосые быстрые глаза, и манера говорить не глядя на собеседника.
«Ну, этот, видать, — собака», — думал Саша, посматривая на полковника.
Когда наконец гости стали расходиться, Саша проводил взглядом плоскую спину Мавлютина, скрывшегося в его комнате, и на вопрос сестры, как он находит дом и многое ли в нем переменилось, сердито ответил:
— Нет. Вот только комнату мою в конуру превратили.
Мать Савчука жила возле пристани. Старый дощатый барак прислонился одним боком к обрыву; летом во время дождей его заливали потоки мутной воды, зимой — насквозь пронизывал ветер.
В половодье река подступала к самому порогу, плескалась под низкими маленькими окнами. Если поднимался ветер посвежее, брызги оседали на стеклах: окна плакали.
Федосья Карповна жила в угловой каморке. Комната была крохотная — пять шагов в любую сторону. Но все в ней было так аккуратно расставлено, так пригнано, что она казалась гораздо вместительнее.
Весь передний угол занимала кадка с фикусом. Фикус уперся вершиной в провисший потолок и был на редкость густ и сочно-зелен. На стене висели семейные фотографии, в центре — портрет Савчука в полной форме с четырьмя солдатскими Георгиями на груди.
Федосья Карповна перебивалась тем, что мыла полы и стирала белье у состоятельных людей. В то утро она задержалась дома: нездоровилось.
Все чаще ее одолевали невеселые думы. Она снимала со стены портрет сына, подолгу разглядывала ослабевшими глазами каждую черточку на его лице и плакала над ним. Ей казалось, что она больше никогда не увидит его. Да и писем от сына давно не было. Кто знает, жив он, здоров ли? И как ей придется доживать свои последние дни? Ох уж эта война!
Мимо окна прошли трое военных. Дверь без стука отворилась.
Савчук — он вошел первым — сразу увидел мать. Федосья Карповна сидела у окна, склонившись над работой.
Не поднимая головы, она сказала:
— К Петровым надо в те двери.
«Не ждала», — подумал Савчук, чувствуя, как у него от волнения перехватывает горло.
— Или вы ко мне? — закончила Федосья Карповна и повернулась к вошедшим солдатам.
— К вам, — глухо сказал Савчук и, бросив чемодан, шагнул к ней, протягивая вперед руки.
Федосья Карповна встала. На ее лице появилось выражение полной растерянности. Охнув, она выронила клубок ниток, и он покатился на пол.
Савчук, наклонившись, обнял ее.
Она обхватила его голову руками, прижала к груди, замирая от счастья. Слезы радости катились по ее щекам.
— Не ждала, а? — спросил Савчук, когда мать наконец отстранилась, чтобы долгим, изучающим взглядом посмотреть на него.
Как он вырос, как возмужал ее сын, ее Ваня, ее единственная опора и поддержка! Все-таки ее молитва защитила его, уберегла. Разве она не самая счастливая из всех матерей?..
— Не ждала, — согласилась она и тут же поправилась: — Сегодня не ждала.
Приходько и Коваль смущенно топтались у порога.
— Знакомься, мама! Мои товарищи...
Федосья Карповна засуетилась, накрывая стол. Из сундука она достала единственную скатерть, сбегала к соседке за посудой. Подбросила дров в печку, долила чайник. Поглядывая на сына, чистила картошку.
Савчук с удовольствием щупал толстые листья фикуса.
— Давно ты завела такую прелесть?
— А помнишь, в день проводов отсадила у Петровых.
— Ну? — искренне удивился он и задумчиво поглядел на верхушку.
— Комнатные цветы — это, знаете, судьба, — звеня посудой, говорила Федосья Карповна. — Живет цветок, — значит, и хозяин дышит. Ну, мой, слава богу, разросся.
— Разросся, мамаша, — смеялся Приходько. — Эва дуб какой вымахал!
— Все чепуха, суеверие, — возражал Коваль. — Снаряд одинаково крушит — и фикус и голову.
— Нет, не говорите...
Федосья Карповна качала головой: не верила. Разве могла она поверить?
Весть о приезде Савчука распространилась быстро. Первым прибежал грузчик Захаров. Прибежал прямо с работы: ватник у него был в муке.
— Ого! Да он и впрямь вернулся! — закричал он с порога. — С радостью вас, Федосья Карповна! Иван Павлович, почеломкаемся.
Голос у Захарова густой и гулкий, как из бочки. Грузчик вертел Савчука, как игрушку, хлопал ручищами по его широкой спине, оставляя на шерстяном кителе белые мучные следы.
— Хорош амурец! Ай, хорош... Я, признаться, сперва не поверил: думаю — брехня. Молодец, не сдал! — радостно гудел он. Потом спохватился, что наследил в комнате, схватил веник и сам стал подметать. — Это ничего, — извиняясь, говорил он Федосье Карповне. — Мука — не грязь, из нее хлеб пекут.
Через минуту он опять хлопал Савчука по плечу.
— Куда теперь, Иван Павлович? В канцелярию или обратно к нам — кули таскать?
— Да провались все канцелярии на свете! — вскричал Савчук; он весь сиял от полноты чувств и счастья.
Зашли и соседи Савчука — бывший его напарник по артели грузчиков Петров с женой Дарьей.
Петров — сухощавый человек с небольшими усиками, со светлыми дерзкими, немного выкаченными глазами; одет он в костюм-тройку из тонкого сукна, но в сапогах и с цепочкой от часов в жилетном кармане. Савчук, признаться, не ожидал увидеть его столь нарядным. Петров заметно важничал, стал говорлив и категоричен в суждениях.
Дарья — невысокая брюнетка, в накинутой на плечи белой вязаной шали. У нее удлиненное лицо, прямой нос, темные брови, под ними черные глаза с длинными ресницами; длинные косы сложены узлом на затылке и скреплены сзади затейливым гуттаперчевым гребнем.
Петров, как вошел, сунул Федосье Карповне две бутылки водки за сургучными печатями.
— Видала героя? Иди — целуй! Я тебе велю, — шумел он, подталкивая жену к улыбающемуся Савчуку.
— А что, и поцелую. От всей души поцелую, — сказала Дарья. Поправив спустившуюся с плеча шаль, она со спокойным и строгим выражением лица поцеловала Савчука в губы. — Иван Павлович, желаю вам счастья. Мать ваша совсем тут извелась, ожидаючи.
— Спасибо, — поблагодарил Савчук и неожиданно смутился.
Дарья же кинула шаль на сундук и принялась помогать Федосье Карповне. Она легко и свободно двигалась по комнате и, кажется, хорошо знала, где что лежит. Савчук догадался, что соседка часто бывала у матери.
Подходили новые гости. Расспрашивали о событиях в столице.
— Как революция? Юнкерья в Питере много набили?
— А верно говорят, что немцы Ленину гору золота дали? А он их обманул — золото в Россию увез?
Савчук бил тяжелой ладонью по столу:
— Вранье! Не верьте! Ленин — это знаете какой человек?.. Его — по тюрьмам, в ссылку, а он одно: быть России социалистической — без царя, без помещиков и буржуев. Он народу путь показал. Из-за этого и клевета...
Приходько поймал за руку Федосью Карповну, усадил возле себя.
— Будет вам бегать-то. Отдохните, — и размахивал перед нею вилкой с дряблым огурцом: — Огурцы, мамаша, при засолке дубовым листом прокладывать надо. Дуб огурцу настоящую крепость дает.
Дарья жаловалась Савчуку:
— Революция, а цены снова поднялись. Дырок много, а вылезть некуда. Прости господи, жмыху бобовому рады. Давно ли им свиней кормили.
— Теперь — свобода, ты это цени, — вмешался Петров. — А жмых... жмыхом кабанов на сало откармливают, — значит, питательность в нем есть. Верно я говорю?
— Однако не жрешь. Лаешься.
— Да я тебе чего хошь достану. Только скажи. Я...
Дарья махнула рукой и отвернулась.
«Неладно что-то у них, — подумал Савчук. Петров своей развязностью и крикливостью все больше не нравился ему. — Вот ведь как переменился человек».
Жаловалась и Федосья Карповна. Все жаловались: с продовольствием стало трудно, товаров нет, с топливом беда, хотя до лесу рукой подать. На рынке все продают втридорога. Денег не напасешься. Как дальше жить рабочему человеку?
— Непорядок это. Почему так, а?
Шея Савчука багровела, он бросал злые слова:
— Господа буржуи и царские офицеры по Муравьевке под ручку гуляют. Шлюхи подолами вертят. Что, неправда?
— Верно!
— Ихняя легкая жизнь нам поперек горла.
— Нет, ты скажи: почему так?
— Совета в городе нет.
— Есть. Выбирали.
— Ну, значит, не тех выбрали. У вас до сих пор Русанов — комиссар Керенского — управляет. Срам!
— В Питере, товарищи, такого позора нет. Там Петроградский Совет всему хозяин. А буржуев — под пресс, — говорил Коваль и крутил рукой, как бы завинчивая воображаемый винт потуже.
Захаров допытывался у Приходько:
— Куда теперь, солдат?
— Домой, в деревню, — мягко улыбаясь, отвечал тот. — Я, дядя, свое отвоевал. Хозяйство поправлять надо. Без мужика во дворе, сами знаете... все не так.
— Женат?
— А как же! Трое ребят.
Грузчик с веселым удивлением поглядел на него.
— Да ну? Трое? Это когда же успел? — И поощрительно хлопнул солдата по коленке. — Действуй, брат. Действуй.
Приходько весело скалил белые ровные зубы:
— Соскучился... так что дело пойдет.
— Охальники! — качала головой Дарья.
Коваль, улучив минуту, поймал Захарова за пуговицу, подтянулся к нему, выспрашивал:
— Большевики в городе есть? Слыхать?
— Ну как не слыхать! Имеются.
— Это хорошо. Да еще народ с фронта подъедет. Наше дело такое — тянуть на подъем. Революция должна идти полным ходом, — говорил Коваль, с удовольствием поглядывая на могучего грузчика. Сам он был росту невидного, может быть, потому и тянулся к таким вот богатырям. — Главное, чтобы народ по-настоящему воспрянул. В народе бо-олыпая сила.
— Должна быть полная свобода личности, слышь! — шумел охмелевший Петров. — Вот я тебя, Ваня, познакомлю с одним человеком — он объяснит...
— Анархист, — рубанул Коваль, и тонкие губы его зло сжались.
— Действительно, наплодилось партий — не знаешь, кого слушать.
— Дело ясное: большевиков надо держаться. Одна партия у рабочих, — убежденно сказал Савчук. Для него это был вопрос решенный.
— Вы Ленина почитайте, он народную нужду до тонкости постиг, — поддержал фронтового товарища Коваль. — Ты вот чувствуешь, что жмет, да не догадываешься — где. А Ильич уже сказал. Благодаря ему и мы зрячими стали. Мировому капитализму это — нож острый. Не нравится, — и Коваль изобразил на своем лице такую испуганную мину, что все заулыбались. — И ведь чуют, бисовы дети, куда Россия теперь повернула. На все тормозные колодки жмут.
Солнце на закате заглянуло в окно, осветив разгоряченные спором лица. Листья фикуса плавали в табачном дыму. Федосья Карповна разводила руками:
— Прежде, бывало, выпьют — и дерутся, а теперь языки чешут. Мода такая, что ли?
Она все украдкой поглядывала на сына, ловила каждое его движение. И чем дольше мать наблюдала за ним, тем очевиднее становилось ей, что вряд ли скоро осуществятся ее мечты о тихом пристанище, домовитой невестке, внучатах.
Что-то новое, незнакомое и тревожащее ее появилось в облике Савчука. Она любовалась его простым и открытым лицом, радовалась, встречая прямой взгляд серых глаз, но не умела теперь прочесть всего, что они выражали. Не могла разгадать, откуда набегала на его лицо непонятная озабоченность и суровость. Только когда Савчук громко хохотал и его широченная грудь сотрясалась от смеха, Федосья Карповна узнавала прежнюю его беззаботность. Нет, не таким сын уходил на войну. И новая тревога закрадывалась в материнское сердце.
На дворе стемнело. Федосья Карповна зажгла лампу.
По солдатской привычке Савчук поднялся на заре. Федосьи Карповны уже не было: ушла хлопотать по хозяйству. В печурке, разгораясь, потрескивали дрова. Приходько и Коваль, спавшие на полу под одной шинелью, дружно храпели.
Савчук осторожно перешагнул через них и вышел во двор.
В городе топились печи, дым столбами поднимался вверх. Высоко в небе серебрились перистые облака, чуть подсвеченные снизу солнцем.
День обещал быть морозным и ясным.
Савчук без определенной цели медленно побрел по тропинке вдоль Амура. Здесь оп родился и вырос. На берегу был знаком каждый бугорок и каждый камень. На все это — на захламленный грязный берег, на обшарпанные стены жалких строений, на реку, покрытую торосами и снегом, — Савчук смотрел просветленным и радостным взглядом, позволяющим увидеть ту красоту, какой еще не было, которая только угадывалась в знакомых очертаниях города, в живописном расположении холмов. После пережитого на фронте хотелось верить, что жизнь дальше сложится хорошо и легко.
Савчук, как всякий здоровый человек, любил труд. В его представлении о счастье работе всегда отводилось видное место. Вот вскроется река, пойдут по Амуру буксиры с баржами. Весело зашумят на пристанях грузчики. Савчук играючи станет перебрасывать кули с мукой, солью, катать по шатким прогибающимся сходням тяжелые бочки с рыбой. Не нужно будет ломать шапку перед подрядчиком. Никто не посмеет задеть твое человеческое достоинство.
Но тут Савчук вспомнил вчерашнего господина, не пожелавшего уступить извозчика больной. Мысли его приняли другое направление.
Дойдя до Нижнего базара, Савчук хотел повернуть домой. Но из ближнего переулка на набережную нестройной толпой высыпали грузчики. У двух-трех в руках были винтовки.
— Ребята, построиться бы надо, — нерешительно кричал кто-то сзади.
— Чего там, валяй!
Оживленно переговариваясь, они толпой спустились к реке. На льду все сгрудились в кучу. Кто-то, путаясь в списке, стал выкликать фамилии.
Савчук, скрутив папиросу, прислонился спиной к халке, вытащенной на берег и опрокинутой вверх днищем, и с интересом стал наблюдать за учением. Еще вчера Захаров говорил ему, что при Союзе грузчиков ведется запись в Красную гвардию.
Отряд помаршировал немного и вдруг пошел в атаку на берег. Пожилые люди и шустрые подростки, махая руками, бежали к Савчуку. Казалось, сразу всей оравой хотят навалиться на него. Но тут безусый паренек ломким, срывающимся тенорком крикнул:
— Шабаш, товарищи! Перекур.
Все обступили Савчука, взялись за кисеты. Пожилой грузчик в потрепанной стеганке стал жаловаться на одышку. Паренек постучал прикладом в днище халки.
— Вот здесь был пулемет. Мы его, значит, взяли, — сказал он, все еще затрудненно дыша от бега.
— А вы, молодой человек, знаете, что такое пулеметный огонь? — сдерживая улыбку, спросил Савчук. — От всех вас, как вы тут бежали, только мокрое место осталось бы. Ясно?
— Пугаешь, дядя?
— Чего пугать. Сам под огнем лежал, носом в грязь. Приходилось, — миролюбиво сказал Савчук. — Война, товарищи, такое ремесло: либо грудь в крестах, либо голова в кустах.
— Как же его брать — пулемет?
— Головой пораскинуть надо. На пулемет артелью не ходят. Подавить пулеметную точку легко может группа охотников. Действовать следует скрытно, незаметно для противника. Бить лучше всего гранатой.
И Савчук показал, как надо подползать, прячась между торосами.
Грузчик, жаловавшийся на одышку, зашел с другой стороны, внимательно присмотрелся к нему.
— Что-то мне, парень, обличье твое знакомо. Не встречались?
— А мы, Гордей Федорович, перед войной в Троицком баржи вместе грузили.
— Тьфу! Да это же Иван Савчук! — воскликнул грузчик. — Тебя сразу не угадать.
Гордей Федорович Супрунов был одним из тех, под чьим руководством Савчук начинал многотрудную жизнь амурского грузчика. У него он учился, как в три приема кинуть себе на спину шестипудовый куль соли, чтобы при этом не повредить поясницу. Как идти потом по качающимся сходням, не сбиваясь с ритма, не глядя на стремительно бегущую внизу воду.
Они скрутили еще по папироске, прикурили от одной спички.
С берега прямо вниз по круче съехал Захаров.
— Видал, брат, нашу армию? — довольно спросил он, пожимая Савчуку руку. — Брался бы ты, Иван, командовать батальоном, а? Какого лешего нам еще искать, когда свой офицер есть!
— Не такие у меня планы, Яков Андреевич.
— Э, что там планы! Жизнь, брат, как быстрая река, сама вынесет на фарватер. Плыви да не робей, — говорил Захаров, не желая и слушать возражений Савчука. — Кроме тебя, командовать батальоном некому, — не спорь. Мы в Союзе уже посоветовались. Мандат дадим. Остальное — дело твое, сам командир. Я же вижу: имеется у тебя военная жилка.
— Оружие-то у вас хоть есть? — спросил Савчук.
— Так, слезы одни, — вздохнул Захаров.
Когда Савчук вернулся домой, Федосья Карповна хлопотала возле плиты: третий раз подогревала завтрак.
— Куда же ты, Ваня, запропал? Не евши-то с утра.
Приходько, счастливо улыбаясь, укладывал покупки в сундучок.
— Вот гостинцев ребятам купил. Побалую.
Коваль ходил в Управление железной дороги. Вернулся хмурый, раздосадованный.
— Сволочи, пострелять половину надо.
До войны Коваль работал на железной дороге машинистом. Резкий в движениях, угловатый, он отличался таким же характером, В шестнадцатом году его ни за что обругал начальник депо. Ковалю бы смолчать, но разве он мог? Через неделю его услали на фронт. Он уехал, глубоко затаив обиду, — с ней и возвратился.
— Тут, Иван Павлович, порядочки пока старые. Только что жандармов в форме не видать, — рассказывал он Савчуку, сердито двигая взлохмаченными бровями. — В управлении сидят саботажник на саботажнике. Розовые бантики нацепили. А сами думают, как бы им здесь полосу отчуждения от революции устроить. Помяни мое слово, придется кое-кого тряхнуть.
Решение Савчука — принять командование красногвардейским батальоном грузчиков — Коваль одобрил. Приходько же укоризненно покачал головой:
— Не надоела еще тебе эта музыка, Иван Павлович? Пора браться за настоящее дело. Хватит кровь проливать.
— Об этом нас, видно, не всегда спрашивают.
— Дело твое, конечно, — согласился Приходько. — Что касается меня — шабаш. Приду домой и винтовку заброшу на чердак. Или разберу на части — ребятам на игрушки.
— Гляди не промахнись, Василий Иванович, — сказал Коваль.
— Не бойся, не промахнусь. Лед, который по весне сломало, морозом снова не схватит. Мы возле речки живем — видим.
— Бережок, однако, у вас невысок.
Коваль, раздражение которого еще не улеглось, готов был сцепиться с Приходько. Но Савчук обнял обоих за плечи и примиряюще сказал:
— Еще недоставало, чтобы мы в последний час передрались.
Вечером он провожал обоих на вокзал. Перед посадкой в вагон Приходько долго тряс руку Савчука, растроганно говорил:
— Когда еще свидимся, а? Иван Павлович, приезжай! Картошки иль чего там надо — последним поделюсь.
Коваль порывисто пожал Савчуку руку, потом обнял и трижды ткнулся колючими усами в его щеку.
— Не поминай лихом, Иван Павлович!
Паровоз рванул пристывшие к рельсам вагоны. Убыстрял ход. Вот и последний вагон, стуча на стыках, пробежал мимо Савчука. На повороте прощально мигнул красный глаз сигнального фонаря.
А Савчук еще долго стоял на опустевшем перроне и думал, отчего это не может человек знать, как сложится дальше его жизнь, как знает, скажем, машинист ушедшего в ночь поезда все уклоны и подъемы на своем пути?
Логунов пробыл в городе дня два, побывал в комитете большевиков, повидался с нужными людьми. Лишь на третьи сутки с попутной подводой он выехал на базу военной флотилии.
Шел снег. Река и сопки, окружающие базу, исчезли, потерялись в снегопаде. На голом бугре теснились красные кирпичные здания.
Нужно было разыскать прежнего сослуживца Николая Михайлова, избранного недавно матросами в Центральный комитет флотилии. Порасспросив встречных моряков, Логунов по переулку вышел к одноэтажной длинной казарме. У входа стоял часовой. Он остановил Логунова и вызвал дневального.
Михайлов обрадовался Логунову несказанно:
— Ба, Федор! Вот не ждал! Какими судьбами? Хоть бы телеграмму отбил, послали бы за тобой лошадь.
Михайлов был невелик ростом, худощав, подвижен. Курчавые непослушные волосы и карие, чуть раскосые глаза придавали ему мальчишески-озорной вид и очень молодили его.
— Первым долгом зачислим тебя к нам на довольствие, — торжественно объявил он, проводив Логунова в казарму. — У нас на флотилии, пока все положенные инстанции пройдешь, вконец отощать можно. Впрочем, кого как. Эсеров, например, начальство принимает с распростертыми объятиями... Ты как, собираешься отдохнуть с дороги?
Логунов развел руками, усмехнулся:
— До отдыха ли нам теперь, Николай. Всех наверх свистать надо.
— Верно, дружище! Очень рад, что мы опять вместе. Тут немало хороших ребят, надежных и крепких.
Обжигаясь горячим чаем, налитым в большие оловянные кружки, они наскоро рассказывали друг другу о событиях последних месяцев.
— Завидую я тебе, Федор, — признался Михайлов, ероша свои коротко подстриженные волосы. — Такие события прошли у тебя на глазах. Питер. Революция. Ленина, конечно, повидал?
— Нет, мне не довелось, — сказал Логунов и в который раз пожалел, что так получилось. — В Смольном был.
— Это же главный штаб революции! — воскликнул Михайлов. — Вот везет людям!.. Впрочем, амурцев наших тоже не узнать. Таким, брат, свежим ветром подуло — любо-дорого, — продолжал он, весело поглядывая на Логунова. — Осенью тут меньшевики хотели арестовать большевистскую фракцию Совета. Ну мы, то есть организация наша, базовская, обратились к матросам: «Братишки, разве допустим!..» Вывели два монитора на Хабаровский рейд. Орудийные башни развернули. Боеготовность номер один... В городе — тишина. Полный порядок. Пальцем наших не тронули.
— Добро!
— К сожалению, понаехало сюда много разной шпаны. Кто от фронта по протекции прячется. Кому весь смысл жизни — ленточки да клеш. С офицерами — беда. До того воду мутят, тошно глядеть. Вот и сегодня предстоит один скучный разговор. — Михайлов задумался, сдвинул у переносья густые брови. — А что, Федор, если мы пройдемся по экипажам? Ты — свежий человек, с Балтики. Скажешь насчет общей обстановки. Погорячее, чтобы за душу брало. А наши ввернут по поводу задач на текущий момент. Здорово получится, честное слово! — Хлопнув себя по коленке, он решительно отодвинул в сторону недопитую кружку.
Пока они ходили по казармам, пока дежурные свистали в дудки, созывая матросов, и Логунов отвечал на сыпавшиеся со всех сторон вопросы, — на улице распогодилось. Сквозь разорванные тучи проглянуло солнце. Свежевыпавший снег мягко похрустывал под ногами.
— Люблю я, Федор, здешнюю зиму. Ты погляди! Солнце, снег, мороз, — говорил Михайлов, когда они с группой представителей судовых комитетов шли в порт на совещание с командованием. — Взять бы ружье да по свежей пороше в лес! Тут верстах в трех вполне приличная охота. На островах. Подстрелишь косого, потом уж понукать тебя не придется.
Им надо было спуститься на дно оврага, по которому шла дорога в порт. Для спуска была устроена лестница. Но кто-то рядом протоптал уже тропу, крутую и скользкую.
Михайлов по-мальчишески свистнул и первым ринулся вниз.
Совещание в Управлении порта было бурным. Накануне штаб флотилии отдал приказ об увольнении нескольких рабочих. Заводской комитет, поддержанный частью судовых комитетов, опротестовал это решение. Совещание должно было прийти к какому-то решению, приемлемому для обеих сторон.
Докладывал представитель штаба капитан 2-го ранга Лисанчанский, полный, чуть обрюзгший офицер. Был он в безукоризненно отутюженных брюках, гладко выбрит и надушен. Говорил медленно и невнятно, как бы пережевывая слова. Всем видом своим Лисанчанский показывал, что снизошел он до разговора с матросами только в силу необходимости.
Михайлов и пришедшие с ним матросы уселись обособленной тесной кучкой. Зачитывая донесения начальников цехов, капитан старался уловить, какое впечатление произведут на них эти документы. Но лица матросов оставались непроницаемо спокойными.
Уволенные рабочие — их было пятеро — тоже присутствовали на заседании. Они пришли прямо из цехов, в замасленных куртках. Лисанчанскому было крайне неприятно видеть, как молодой веснушчатый парень, сидевший ближе других к нему, ерзал грязными локтями по тонкому зеленому сукну стола.
Из уволенных рабочих капитан 2-го ранга знал только орудийного мастера латыша Спаре, который даже здесь не расставался со своей трубкой. Посасывая ее, он спокойно и чуть насмешливо смотрел на докладчика.
Паренек с веснушками негодовал и злился, слыша, какими разгильдяями и нарушителями дисциплины здесь пытаются представить их. Но Спаре каждый раз останавливал его еле приметным движением руки: не надо пока нарушать порядок, спокойнее, дружок. Парень ворочался на стуле, и выражение лица у него становилось все более возмущенным и злым.
Логунову латыш Спаре сразу понравился. Была в его осанке и манерах та обстоятельность, которая лучше слов характеризует человека, знающего дело, умеющего, когда надо, постоять за себя и за других. Смешными и вздорными показались Логунову обвинения, предъявленные мастеру Лисанчанским.
«Съесть хотят, дело ясное», — решил Логунов и вслед за Михайловым поглядел в окно.
Отсюда, с горы, затон был виден как на ладони. Чернели внизу корабли. Темным узором вились между ними тропы. Изредка на льду показывался человек. В лозняке, на той стороне затона, горел костер. Рыжая струйка дыма тянулась от него по ветру. Возле костра на козлах двое рабочих ручной пилой распиливали бревна на доски. Дальше за кустами начинался Амур; однообразно белая снежная пелена скрадывала очертания берегов и не позволяла сейчас судить об истинных размерах речи. Об этом можно было только догадываться, глядя на чуть видный низкий и пустынный противоположный берег. Всмотревшись попристальнее, там еще можно было различить дымок паровоза. Правее по горизонту чуть обрисовывалась одинокая конусообразная сопка Июнь-Корань. Но это было уже совсем далеко — возле станции Волочаевка, что в сорока верстах от города.
— Итак, граждане, — закончил Лисанчанский, — эти люди уволены. Уволены за то, что не хотят работать на оборону республики.
— А вы какую республику имеете в виду? — встрепенувшись, громко спросил Михайлов. Все еще щурясь от солнца, бившего в окна, он повернулся к докладчику.
— Я, кажется, выразился достаточно ясно.
— Выходит, нет.
Лисанчанский пожал плечами. В его словах прорвалось нескрываемое раздражение.
— Все моряки, вся флотилия не покладая рук работают для достижения победы над врагом! — крикнул он. — А они, — тут капитан 2-го ранга, вытянув руку, указал на рабочих, — они митингуют! Они бездельничают! Что же, видно, морякам самим придется ремонтировать суда к навигации.
— Еще чего не хватало, спину за других гнуть! — заорал вскочивший с места баталер. — Братишки, куда мы идем, спрашиваю? Скоро рабочий сядет моряку на шею и поедет.
— Да на твоей шее ехать можно. Отъелся, — под общий смех заметил один из матросов.
— Однако, позвольте, на дворе — декабрь, а судоремонт еще не начат. Как вам это нравится?
— Я же говорю: домитингуемся. Всю флотилию придется ставить на прикол, — сказал Лисанчанский.
— Вы этого, видно, и добиваетесь.
— Измена это, — пробасил кто-то из дальнего угла.
— Изменник тот, кто вносит путаницу и беспорядок в нормальную деятельность кораблей! — крикнул Лисанчанский. Глаза его сердито засверкали. — При существующих условиях командование делает все возможное, чтобы сохранить боеспособность флотилии. Все возможное...
— Нет, вы объясните, почему дефектные ведомости не утверждены? — спросил Михайлов. — Судовые механики когда их сдали? Или в этом тоже рабочие виноваты?
Капитан 2-го ранга беспокойно заерзал на стуле. Он хотел ограничиться обсуждением узкого вопроса об увольнении пяти рабочих. Но на его беду это было только частью другого, более широкого и важного дела.
Если офицерский состав флотилии, кондуктора и баталеры, примкнувшие в большинстве к эсерам, делали вид, что ничего знать не желают о переменах в центре страны, то матросская масса все больше волновалась и выходила из повиновения. Многих на флотилии беспокоило то, что командование категорически отклоняло все требования о признании власти Совета Народных Комиссаров во главе с Владимиром Ильичей Лениным. Рамки военной дисциплины еще удерживали моряков от прямого выступления, но положение командования было до крайности шатким и ненадежным. Оно не могло не считаться с настроением матросов, но в то же время упрямо гнуло свою линию.
Идя сегодня на совещание, капитан 2-го ранга думал, что это удобный случай показать твердость. Обсуждение же вопроса о судоремонте никак не входило в его намерения. Но теперь Лисанчанский понял, что от ответа ему не отвертеться.
— Ведомости рассмотрены и утверждены, — сказал он, вытирая платочком вспотевший лоб.
— Отчего же не передали их в завод? Почему задерживаете? — спросил Спаре, будто о его увольнении тут и речи не шло.
— Да, почему дефектные ведомости еще не переданы заводу? — вслед за мастером повторил Михайлов. Лисанчанский зло взглянул на него и коротко отрубил:
— При настоящем положении дел командование не считает возможным передать заводу ответственный заказ.
— Значит, корабли не ремонтировать? Так?
— Так хотят рабочие.
Спаре стукнул по столу ладонью и сказал негромко, но так, что всем было слышно:
— Неправда!
— Позвольте командованию самому решать вопросы, находящиеся в его компетенции.
— Разоружать флотилию не позволим!
И пошло... Вскипели все, как вода в котле. Крепкие узловатые матросские кулаки стучали по зеленому сукну стола. Говорили все разом, перебивая друг друга, не дослушивая, не успевая отвечать. Так распространяется пожар, когда много накопится горючего материала: вспыхнет в одном месте, займется; не успеешь потушить — пылает в другом углу; не добежишь туда — загорелось в третьем; и вдруг загудит, обоймет все пламенем, и уж тогда сколько угодно лей воду ведрами — не поможет.
Лисанчанский стоял, опершись на спинку стула, и красные пятна густо проступали на его лице. Он растерялся и не знал, как ему выбраться из трудного положения.
В момент общего взрыва страстей лишь два человека сохранили спокойствие — Спаре и Михайлов. Михайлов с вызовом глядел на капитана 2-го ранга, и Лисанчанский чувствовал, что его противник припас еще какой-то сильный, неожиданный ход.
Спаре стоял, чуть ссутулясь, широко расставив ноги, и посасывал трубку.
— Кричим, кричим, а все на холостой ход. Зачем? — сказал он, выждав паузу, и в его словах прозвучало искреннее удивление. — Господин офицер тут долго говорил, бумаги читал — все чепуха. Увольнение тоже чепуха. Туман... А вот, я вижу, поссорить матросов с рабочими господину офицеру хочется. Очень хочется. — Он припер Лисанчанского взглядом к стене и, будто заколачивая гвоздь, стукнул по столу кулаком. — Им драка между нами нужна. Слышите? Вот это — главное.
— Верно! Правильно говоришь, товарищ, — крикнул Логунов.
Михайлов тронул его за локоть, приглашая глянуть в окно.
Беглого взгляда было достаточно, чтобы заметить происшедшую в затоне перемену. Всюду виднелись черные фигуры матросов, спешивших в порт. На узкой площадке перед заводом сгрудилось уже немало людей. Над главным входом кто-то прилаживал красное знамя.
— Видишь, видишь, — торжествующе говорил Михайлов. — Идут ведь, а? Позвали — и идут. Объединенное собрание моряков и рабочих.
Пройдя к столу, Михайлов плечом оттеснил Лисанчанского.
— Верно говорил здесь Ян Эрнестович, поссорить нас хотят. Господа офицеры спят и во сне видят, как бы натравить моряков на рабочих. Только ничего из этого не выйдет. Зря стараетесь. Одна дума волнует теперь моряков и рабочих: почему вы не скажете прямо — признает командование власть Советов Народных Комиссаров или нет? Почему не выполняются декреты за подписью товарища Ленина? До каких пор в Хабаровске будет сидеть керенщик Русанов? Думаете, не знаем, как вы с ним шушукаетесь, — гневно говорил он, невольно переходя на те вопросы, которые были им обдуманы и подготовлены для выступления на митинге. — Впрочем, нам пора кончать, — неожиданно оборвал он. — Вот только... как все-таки будет с уволенными? Надо бы нам здесь дотолковаться. Я, собственно, вашу выгоду имею в виду, — повернулся он к Лисанчанскому. — Если это дело на собрание перенести, нехорошо ведь получится, а?
Капитану 2-го ранга волей-неволен приходилось отступать.
— Командование пересмотрит приказ, — процедил он, не разжимая рта.
— Вот и отлично! Ну, пошли, товарищи! Пошли.
Михайлов дружески перемигнулся со Спаре и. увлекая всех за собой, двинулся к выходу.
На ближайшее воскресенье комитет большевиков назначил вооруженную демонстрацию. Дня за три до этого рано поутру Савчук и Захаров отправились в Арсенальскую слободку. Знакомый Захарову слесарь Мирон Сергеевич Чагров обещал устроить встречу с человеком, при помощи которого они надеялись достать хотя бы десяток винтовок. По слухам, арсенальцы разработали целую систему утайки оружия, поступившего к ним на ремонт. Говорили, что железнодорожники разжились у них даже станковым пулеметом.
Чагров жил на краю слободки в покосившейся лачуге, готовой вот-вот свалиться в овраг. Его жилище отличалось от других домишек в слободке только тем, что во дворе сохранилось одинокое дерево, горестно воздевшее голые ветви к небу. По этой примете грузчики и нашли дом, не прибегая к расспросам.
Мирон Сергеевич мылся над тазом, собираясь на работу. Это был пожилой седоусый человек, плотного сложения, неторопливый, с хитринкой в глазах. Его жена Пелагея — худая болезненная женщина — сердито двигала чугуны на плите. Трое ребят сидели на кровати, укутав ноги рваным полушубком и глядели на родителей с тем выражением недоумения, которое возникает при внезапно разразившейся ссоре между взрослыми, причины которой необъяснимы для детского ума.
— Здравствуйте, хозяева! — прогудел Захаров, переступив порог, и снял шапку.
Савчук поздоровался, поискал глазами веник, чтобы обмести снег с обуви.
— Да ладно, проходите. Проходите сюда, — Чагров показал на свободное пространство перед печкой.
Пелагея молча пододвинула пришедшим табуретки, приставленные на ночь к кровати, чтобы дети ненароком не свалились с нее.
Мирон Сергеевич тер шею полотенцем, хмурясь, поглядывал на жену и в то же время незаметно присматривался к Савчуку. Кого это вздумал притащить с собою Захаров?
— Демьян Иванович вчера в город собирался. Не знаю, где будем теперь его ловить, — уклончиво сказал он, узнав о цели их прихода. — Ладно уж, провожу в цех. Мое ведь дело свести вас — большего не обещал.
Пелагея, прислушиваясь к разговору, очищала от кожуры дымящийся картофель. Ради экономии картофель варили с кожурой. Дети с голодным выражением глаз следили за руками матери.
Мирон Сергеевич завернул три вареные картофелины себе на обед. Одеваясь, он посоветовал жене сходить к лавочнику, занять муки в долг.
— Так вот и дадут, за твои прекрасные глаза, — отрезала Пелагея, не желая скрывать от пришедших своего недовольства. — Не пойду. Пропади вы все пропадом!
— Ну, дело твое. Получки, видно, не скоро дождемся. Говорят, в конторе денег нет, — примирительно заметил Мирон Сергеевич и взялся за шапку.
За окном зычно кричал арсенальский гудок.
— Беда с нашими недостатками, — скупо пожаловался Чагров, когда они пробирались тропинкой вдоль оврага к какой-то лазейке в заводской ограде. Идти мимо охраны по понятным причинам никому из них не хотелось. — Бьется народ как рыба об лед. Детишек, откровенно говоря, жалко.
—- Мастерили бы что-нибудь для продажи. Все-таки будет поддержка, — посоветовал Захаров. Чагров усмехнулся:
— Мастерят, конечно. Зажигалки. Безобидная вещь. Так? А как я понимаю — опасная. Хотят, чтобы рабочий класс на мелочи разменивался. А нам большие дела творить — революцию. Жизнь светлой стороной повернуть к человеку. Ежели только сегодняшним днем жить, дальше вчерашнего не уйдем. Вот ссорюсь с женой — не понимает. Да разве она одна?
Отодвинув доску в заборе, прибитую только на верхний гвоздь, он пропустил Савчука и Захарова на арсенальский двор.
Чагров оставил грузчиков в литейной — мрачном, закопченном помещении, где, врываясь в разбитые окна, гулял сквозняк, — а сам куда-то скрылся. Поодаль трое рабочих готовили форму для отливки. Савчук и Захаров, которым еще не доводилось наблюдать работу литейщиков, с интересом приглядывались к ним. Они не сразу заметили появление в цехе новых лиц.
Тот, что был постарше, задержался у входа и принялся читать вывешенные на стене объявления. Молодой прямо подошел к грузчикам и приветливо сказал:
— Здравствуйте! Я — Демьянов.
Есть люди, которые сразу располагают к себе. Демьянов принадлежал к их числу. Коренастый, ладно скроенный, он, видимо, обладал незаурядной физической силой. Волевые черты лица, высокий лоб, веселые выразительные глаза под густыми бровями говорили о силе нравственной. От всей фигуры Демьянова веяло уверенностью и энергией.
— Демьян Иванович, дело у нас, так сказать, деликатного свойства. Может, не место тут говорить, — дипломатично начал Захаров, косясь на спутника Демьянова.
— А.вы не стесняйтесь. Тут люди свои, — сказал Демьянов, тоже оглядываясь и тем самым давая понять, что именно своего спутника он и имеет в виду.
— Ну, значит, нечего наводить тень на божий день! — воскликнул Савчук и коротко изложил свою просьбу.
— Право, не знаю, как быть, — замялся Демьянов. — Мы, конечно, будем иметь в виду при случае. Что там у вас — много людей в батальоне? Анархисты, кажется, есть?
«Эге, ты не так прост, как кажешься», — с удовольствием подумал Савчук и сказал:
— Людей достаточно. Было бы чем вооружить. А анархистов вытурим, можете не беспокоиться.
— Демьян Иванович, ведь это боевая сила — грузчики! — волнуясь за исход дела, поспешил вставить Захаров. — Нам оружие, так мы...
— Знаю, знаю. Мы ведь вообще не отказываем, — сказал Демьянов и опять внимательно посмотрел на Савчука.
Савчук понял, что оружия им не дадут. Видимо, Демьянов опасается, что оно может попасть в руки анархистов.
Но тут спутник Демьянова сделал едва приметный знак, и Демьянов продолжал уже сговорчивее:
— Мы не отказываемся помочь. Просто у нас сейчас создалось трудное положение. Начальство ввело строгости. Приходится по-всякому изворачиваться. Если дадим десятка полтора винтовок — вас это устроит?
— Что ж, и то ладно, — сказал Савчук. Впрочем, на больше они и не рассчитывали.
Сразу сообразив причину щедрости Демьянова, Савчук стал повнимательнее приглядываться к его спутнику — невысокому человеку в черном пальто и меховой шапке. Он был худ, на лице заострились скулы.
Захаров начал уславливаться о способах переправки оружия. Из глубины цеха донесся короткий предупреждающий свист.
— Эх, не вовремя начальство пожаловало! — с досадой сказал Демьянов. — Придется, товарищи, перейти к нам в кузнечный.
Они прошли в соседний цех и там быстро обо всем договорились.
— А это что, паровой молот? Здорово, однако, стучит, — полюбопытствовал Савчук, разглядывая непонятное сооружение.
— А вам не приходилось разве видеть молот в действии? — спросил Демьянов, гордый тем, что в свои двадцать три года он легко управляется с громоздкой и сложной машиной.
— Нет. Наша работа под открытым небом, на сходнях. Подставляй плечо да береги поясницу, — засмеялся Савчук.
Спутник Демьянова снял пальто, внимательно осмотрел готовые поковки и занял место машиниста. Демьянов ревнивым глазом следил за ним. Из нагревательной печи принесли заготовку. Повинуясь точно рассчитанным движениям мастера, молот застучал, обжимая болванку, загибая края. Снопом брызнули искры.
Демьянов, ловко изгибаясь всем телом, ворочал клещами тяжелую поковку. А молот все выбивал и выбивал ритмическую дробь. Наконец прошелся по заготовке легким поглаживанием и замер. Демьянов бросил на пол еще рдеющую поковку.
— Нет, нас рано со счета скидывать! — весело говорил спутник Демьянова, вытирая платком вспотевший лоб. Надел пальто, закашлялся. — А молот у вас все-таки жидковат. Настоящую работу тут не сделаешь.
— Приходилось работать на больших заводах? — спросил Демьянов. Сам опытный кузнец, он сразу узнал настоящего мастера.
— Начинал в Питере, на Путиловском. Последние полтора года — у Форда, в Детройте... Ну, нам, кажется, по пути. Пошли, товарищи, — сказал он Захарову и Савчуку.
Кратчайшей дорогой вывел грузчиков к лазейке в заборе. Закашлялся вновь. Горько усмехаясь, заметил:
— Вот чахотку в Америке нажил. — Помедлил чуть и спросил: — Так как все-таки будем с анархистами?
— Да выгоним их к чертовой матери, чтобы они нам репутацию не портили, — сердито буркнул Савчук. — Там анархистов этих — кот наплакал.
— У нас в батальоне только грузчики, пролетарии. Выгоним — куда пойдут? — возразил Захаров. — Это дело обдумать надо, не с плеча рубить.
— Вот именно, не с плеча, — одобрительно заметил их спутник. — Многие честные люди не разобрались по-настоящему в обстановке. Поддались на удочку красивых фраз. Тут действительно следует бережно отнестись к каждому заблудившемуся рабочему. Вы правы, — он повернул голову, глянул блестящими карими глазами на Захарова, на Савчука, шедшего с другой стороны. Дружески посоветовал: — Главарей — выгнать, а прочим разъяснить: «анархия — мать беспорядка». Дисциплину надо подтягивать, товарищи. Без организованности, без крепкой дисциплины, как учит Ленин, нам не разрешить великих задач, поставленных в порядок дня революцией.
— Дисциплину мы подтянем, — пообещал Савчук. — Но дело не только в ней, есть вещи не менее важные.
— Да? А что именно?
— Тактической подготовки в батальонах нет. Если уж готовиться всерьез...
— Только всерьез, иначе не стоило начинать!
У собеседника была подкупающая манера слушать, и Савчук сам не заметил, как выложил соображения, возникшие у него при первом знакомстве с батальоном. Пройдя фронтовую школу, он лучше других видел недостатки в военном обучении красногвардейцев. Знал и тех, с кем предстояло помериться силами.
— А знаете, Иван Павлович, ваши замечания очень существенны. Нам действительно пора обратить внимание на специально военную сторону дела, — согласился он, выслушав Савчука. — Учить людей защищать свою народную власть — задача почетная, неотложная. Тут вам, военным, все карты в руки. Нельзя терять ни одного дня. Врагов у нас более чем достаточно. Без боя они не уступят. Теперь уже всем видно, что контрреволюционеры пытаются поскорее сорганизоваться. Первый период растерянности у них прошел. Они ищут способы сохранить и упрочить свою власть. Возможно, тут имеет место заговор общероссийского масштаба. История знает примеры, когда буржуазия использовала отсталые окраины как базу для контрреволюции. Но мы эти планы сорвем! — воскликнул он и спросил: — Кстати, сколько винтовок дает Демьянов?
— Да сущие пустяки — пятнадцать штук, — пожаловался Захаров.
— Гм! Не густо. Народ у вас хороший.
— Грузчики — богатыри! — Захаров выпятил грудь, прошелся козырем. — Гвардия пролетариата!
— Что ж, попытаемся вам помочь, — сказал их спутник, немного подумав. — Тут штаб Приамурского военного округа затеял переброску оружия казакам на Амур. Вандею поднимать хотят. Но мы еще посмотрим... Между прочим, в связи с этим делом открываются некоторые возможности. Я вам сообщу. Будьте здоровы!
Он приподнял немного шапку, затем свернул на другую улицу и сразу же затерялся в толпе.
— Толковый как будто человек! Кто это? — спросил Савчук.
— Нет, каков, а? — хохотал Захаров. — Все повыспросил и ушел. Ищи теперь, свищи, был да нету. Ха-ха! — Насмеявшись вдоволь, сказал: — Из большевистского комитета товарищ. Потапов по фамилии.
Под вечер в Союз грузчиков забежал парнишка — посыльный Потапова. Савчуку предлагалось явиться в окружное Интендантское управление и получить наряд на винтовки. Оружие рекомендовалось незамедлительно вывезти со склада.
Оценив характер предстоящей операции, Савчук взял сопровождающими с десяток наиболее расторопных бойцов. Чуть стемнело, когда они на четырех подводах прибыли в военный городок. Предъявив свои офицерские документы, Савчук поднялся на второй этаж Интендантского управления и спросил писаря. Ему указали на лысоватого человека в очках, копавшегося в бумагах. Перед столом толпились люди в романовских полушубках и шинелях.
— Очередь. Прошу очередь, господа. Не толкайтесь, — монотонно повторял писарь, выписывая требования, сверяя их с имевшейся у него разнарядкой, ставя штампы. Все совершалось старательно и страшно медленно.
— Черт знает, как копаетесь! Вы не можете поторопиться? — кипятился черноусый человек в казачьей папахе с желтым верхом. Ростом он лишь немного уступал Савчуку, был худощав и жилист. Суровый властный взгляд, каким он окинул писаря, показывал, что человек этот привык распоряжаться и не терпел возражений.
— В самом деле. Не разводите канители, писарь, — поддержали черноусого из очереди.
Кто-то от дверей с угрозой пробасил:
— Интендантская крыса! На фронте таких вот субчиков вешали на первом суку...
Однако писарь был не из тех, кто поддается пустой угрозе. Он как ни в чем не бывало продолжал скрипеть пером. Когда же шум становился уж очень громким, клал руки на стол и, невозмутимо глядя поверх очков, укоризненным тоном произносил только одно слово: «Господа!» — и терпеливо выжидал, пока шум сам собою не затихнет.
На короткое время в канцелярии показался озабоченный Кауров. Скользнув хмурым взглядом по лицам, он сказал, жуя папиросу:
— Склад откроют через час. Пожалуйста, без гаму. Прошу.
Савчук дождался своей очереди, сказал, как было условлено:
— Я от Якова Павловича.
Писарь лениво поднял на него глаза, порылся в разнарядках. К личности Савчука он не проявил никакого интереса.
— У вас с собой сколько человек?
— Двадцать, — на всякий случай прибавил Савчук.
Писарь не спеша выписал требование, подписался, поставил штамп в одном углу, в другом пришлепнул печать.
— Следующий!
У него был вид человека, совершенно безучастного ко всему, что не входит в круг его служебных обязанностей
На складе, расположенном в дальнем конце огромного двора Интендантского управления, служившего одновременно и учебным плацем, черноусый яростно спорил с Варсонофием Тебеньковым. Последний распоряжался отпуском оружия по выписанным в управлении нарядам.
— Мерзавцы! Прохвосты! Канцеляристы проклятые! — орал в бешенстве черноусый и тыкал Тебенькову в лицо бумажкой. — Это требование или что? Так какого вы дьявола! А?
— А я вам русским языком говорю: недействительно! — так же громко кричал Тебеньков,
— Почему?
— Нужного штампа нет.
— Как? Что? Разрешите? — Черноусый выхватил у Савчука его требование, сличил. — Ну совершенно одинаковы.
Обе бумажки перешли к Тебенькову.
— А вот нет, — поглядев, со злорадным удовольствием сказал Тебеньков. — У вас штамп «получено», а у господина прапорщика — «занаряжено». И в этом все дело. Сегодня выдаем только по нарядам особого назначения — «за-на-ря-же-но». Ясно? Придете в будущий понедельник.
— Послушайте, этот проклятый писарь по ошибке...
— Ничего не знаю. Канцелярия уже закрыта. Освободите помещение.
— Ну, знаете! Я этого так не оставлю. Я командующему буду жаловаться...
— Господа, право, у нас нет резону поднимать здесь гвалт, — рассудительно заметил Савчук.
— Нет, это просто чудовищно. У меня казаки ждут, понимаете. Из-за этого специально приехали в город. — Черноусый еще раз метнул злобный взгляд на Тебенькова и круто повернулся к Савчуку. — Р-разрешите прикур-рить!
Руки у него дрожали так, что он сломал подряд несколько спичек. Закурив, жадно вдохнул в себя дым.
— Пор-рядочек... — ругнулся он, когда сжег почти всю папиросу. На Тебенькова он больше не глядел, будто того здесь и не было. — А кто этот ваш магический Яков Павлович?
— Начальник штаба, — не моргнув глазом, ответил Савчук и полюбопытствовал в свою очередь: — Из какой станицы?
— Екатерино-Никольской. Есаул Макотинский, — сказал черноусый уже довольно миролюбиво. — Вот ведь при каких обстоятельствах пришлось познакомиться. Попал я в дурацкое положение, — невесело усмехнулся он. — Думал сегодня выехать из города, ночевать в Нижне-Спасской. У меня там сослуживец, фронтовой друг. С Мазурских озер вместе уходили.
— Из самсоновской армии, значит? — Савчук не без любопытства посмотрел на есаула.
Солдаты и офицеры этой погибшей в первый месяц войны армии сражались с подлинным героизмом и попутали все планы германского верховного командования. Самсоновцев предали, бросили в наступление без поддержки, но солдатская молва говорила о них с уважением. Сражаясь в трясинах и болотах Восточной Пруссии, русские солдаты предопределили исход грандиозной битвы, развернувшейся в это же время далеко на западе, на полях Франции. Позднее это было названо «чудом на Марне».
— Да, были приданы 2-й армии, — подтвердил есаул и чуть наклонил голову. — Мы бы расколотили тогда фон Притвица вдребезги, если бы не этот копуша — фон Ренненкампф. Сукин сын, подвел под монастырь. Из моей сотни вернулись два офицера да шестеро казаков. Представляете, в какой переплет попали?
— Ну, один «фон» против другого не пойдет, узнали мы их достаточно, — заметил Савчук.
— В этом вы, пожалуй, правы, — согласился есаул. — Впрочем, коварства немцев по-настоящему мы еще не знаем. Да, да! Не знаем, — вновь загорячился он. — Вы помните историю с Троянским конем? Вот нам этого коня и подбросили. Взорвали Россию изнутри, подлецы.
«Эге! Видно, дрались мы с тобой четыре года на одном фронте, а теперь будем на разных. Разошлись наши пути-дороги», — подумал Савчук без тени симпатии к есаулу.
— Вот что, прапорщик. Дайте еще спичку, — попросил Макотинский. Закурил. Вернул Савчуку полупустой коробок и любезно предложил: — Доведется когда попасть в нашу станицу, прошу быть гостем.
— Спасибо. Представится случай, буду рад, — сказал Савчук, посматривая одним глазом на своих грузчиков. Под присмотром Захарова они с присущей им ловкостью таскали ящики.
Савчук курил, небрежно пуская кольца дыма.
Тебенькову понравилась сноровка людей Савчука. «Вот это солдаты!» — думал он. И еще хотелось досадить черноусому, показать, что он, хорунжий Тебеньков, властен распорядиться тут и без всяких бумажек.
— Гранат ящик не возьмете? — предложил он Савчуку, когда все ящики с упакованными в них винтовками были вынесены и уложены в сани. — Могу также добавить патронов.
— Что ж, не откажусь, — равнодушно ответил Савчук. — Распорядитесь, пожалуйста.
Есаул Макотинский скрипнул зубами и зло посмотрел на Тебенькова. Швырнув под ноги окурок, он зашагал к выходу.
Сани нагрузили так, что пришлось помогать лошадям тронуть их с места.
На улице Захаров, посмеиваясь, говорил Савчуку: — Там еще железнодорожники стояли, знакомые ребята. Ловко, а? — И, вспоминая писаря, долго еще качал головой, поражался: — Ну, дока! Этот им канцелярию разведет — черт ногу сломит.
В воскресенье Мавлютин проснулся не в духе. Мутный зимний рассвет заползал в окна. Было тихо. Но вот в соседней комнате скрипнули половицы, послышалось сердитое кряхтенье хозяина. И будто этого только все ждали — в доме зашевелились, загомонили.
Невольно подчиняясь общему движению, Мавлютин тоже встал с постели. Открыв форточку, он тщательно проделал гимнастические упражнения по известной системе Мюллера. Сон был прогнан, но дурное настроение осталось. Мавлютин долго не мог придумать, чем ему заняться: сел бриться — порезался, взял книгу — показалась скучной.
В голове у него был какой-то сумбур. Далекие происшествия перемежались самым странным образом с событиями последних дней. Всплывали в памяти хитрые прищуренные глазки Чукина и его маслянистый, липкий взгляд; и затаенная холодная ярость Бурмина, скрытая под тонкой оболочкой снобизма; смешные претенциозные манеры Русанова — этого калифа на час, цепляющегося за призрачную, ускользающую из его рук власть над обширным краем. Припомнились составленные в штабе округа списки кадровых офицеров царской армии, устремившихся сюда, к границе, пробирающихся в поездах под чужой личиной, как сам Мавлютин, рассеянных теперь по городам и станицам, но готовых с оружием в руках пройти обратно через всю страну, как шли карательные экспедиции баронов Ренненкампфа и Меллер-Закомельского... А над всем этим было ощущение какой-то неотвратимо надвигающейся на него беды.
Припомнил Мавлютин и сцену ухода жены. Ее последние гневные слова, оскорбительные и хлесткие, как пощечина. Развал семьи в некотором роде развязал ему руки: в такое время легче было заботиться о самом себе. Но, с другой стороны, он не мог совсем отрешиться от дум о жене и ребенке. Были ли это остатки прежнего чувства к жене или заговорило в нем уязвленное самолюбие мужчины, покинутого женщиной, но мысли о ней были ему неприятны и сладостны в то же время. Мавлютину казалось, что его незаслуженно обидели и обделили.
Мысли роились, мелькали, как в калейдоскопе. Где-то в глубине сознания все время вертелась неотвязная, тревожащая дума о чем-то крайне неприятном и близком. В конце концов от этого у Мавлютина разболелась голова.
Тогда он вытащил из-под кровати чемодан и достал спрятанный в нем портфель. В портфеле хранилось все то, что Мавлютину удалось спасти из своего довольно значительного состояния: деньги в иностранной валюте и акции торгово-промышленных обществ, акционером которых он состоял. Придвинув к себе лист бумаги, он погрузился в какие-то сложные расчеты.
Алексей Никитич Левченко, после того как встал сын, тоже заперся в кабинете. Он сидел в прочном дубовом кресле и мрачно ерошил пятерней жесткие, непослушные волосы. Огромный стол был завален бумагами. Алексей Никитич к ним не прикасался. Его взор задержался на карте под стеклом. Синие жилки рек расползались на ней по зеленым долинам, стиснутым со всех сторон коричневыми хребтами. Редкие кружочки селений жались поближе к железной дороге. Дальше шли сплошные болота и лес. Лишь за водораздельным хребтом затерялся одинокий кружочек — прииск Незаметный. На нем была установлена электрическая драга, работало сот пять постоянных рабочих и примерно столько же старателей.
В сейфе, что стоял в углу кабинета, хранилась детальная карта прииска. Изломанная красная линия обегала на ней заштрихованные золотоносные участки, замыкая их в круг. Все, что лежало внутри круга, принадлежало золотопромышленному обществу, главной владелицей которого считалась Юлия Борисовна Парицкая, а директором-распорядителем был Алексей Никитич Левченко — горный инженер, чье имя знавали и в Петрограде. Все, что лежало вне круга, со временем тоже могло попасть в него: разведки на золото велись непрерывно.
Летом к прииску почти невозможно было добраться. Годовой запас продовольствия и все необходимое снаряжение забрасывались на Незаметный зимой, когда замерзали болота и реки и устанавливался санный путь. Каждый третий воз обычно был гружен прессованным сеном или овсом. Все это уходило на корм лошадям в пути. Обратив внимание на большой расход кормов, Алексей Никитич минувшим летом распорядился поставить вдоль зимней трассы десятки стогов сена. Для этого нанимали косарей и посылали их в тайгу.
Теперь дорога была пробита. На столе лежала телеграмма чернинского станичного атамана Архипа Мартыновича Тебенькова, извещавшего об этом. Тебеньков из года в год брал у Левченко подряд на доставку грузов на прииск. В окрестных деревнях он нанимал крестьян-возчиков. Его амбары служили компании вместо перевалочных складов. Тебеньков недурно зарабатывал на выгодном подряде, а Левченко таким образом освобождался от излишних хлопот. Оба они были довольны друг другом. Прижимистый и расчетливый атаман без зазрения совести обирал своих возчиков, выплачивая им едва ли больше трети той суммы, которую сам получал по контракту от общества. Алексей Никитич знал об этом, возчики не раз жаловались ему, предлагали работать артелью, но он предпочел иметь дело с Тебеньковым. В конце концов каждый зарабатывает как может. И в этом году он намеревался возобновить контракт с Архипом Мартыновичем. Тот ждал ответа на телеграмму, чтобы сразу приступить к найму возчиков. Завтра сын Архипа Мартыновича — Варсонофий, хорунжий Уссурийского казачьего полка, придет к Левченко за ответом. Но что сказать ему? Какое решение принять? Завозить грузы на Незаметный или нет? Над этим Левченко и ломал голову. Что касается госпожи Парицкой, то ее интересовал только дивидент. Алексей Никитич и не подумал даже сообщить ей о возникших затруднениях.
Годовой запас стоил немалых денег. Время же было тревожное. Еще после провала корниловского наступления на Петроград Алексей Никитич перевел наличные капиталы общества в харбинское отделение Русско-Азиатского банка. Брать сейчас оттуда сотню тысяч рублей, необходимую для закупки снаряжения и продовольствия, казалось ему рискованным: а вдруг большевики реквизируют эти запасы или национализируют прииск.
С Незаметного тоже приходили неутешительные вести. Среди рабочих велась агитация. На одном из собраний, резолюцию которого на днях доставили в главную контору общества, были выдвинуты неслыханные до этого в золотой промышленности требования: введение с началом сезона восьмичасового рабочего дня, снабжение прииска доброкачественными продуктами и по нормальным ценам, установление рабочего контроля над деятельностью администрации. Последний пункт особенно сильно задел Алексея Никитича, привыкшего распоряжаться единовластно, ни с кем не считаясь. Он скомкал в кулаке резолюцию и, будто обжегшись, швырнул ее в мусорную корзину. Но мысль о неблагополучии на припеке не покидала его, словно ее гвоздем вбили в голову. «Никаких поблажек, никаких переговоров со смутьянами», — решил Левченко, когда несколько успокоился и обдумал положение. Тогда-то у него и возникла мысль: а не отказаться ли в этом году вовсе от завоза на Незаметный?
Но, с другой стороны, Алексей Никитич много труда вложил в прииск. Первый раз он прибыл туда с экспедицией, когда на сотни верст вокруг не было ни одного жилья. Это был громадный участок совершенно девственной тайги, «белое пятно» на географической карте. Немало разведочных шурфов было заложено там по его личным указаниям. Вместе с рабочими он рыл землю, спал с ними в шалаше и вместе радовался, если шурф оказывался удачным, и угощал всех водкой. А сколько изобретательности и труда понадобилось, чтобы доставить туда, к черту на кулички, разобранную на части, но все же невероятно громоздкую драгу, локомобиль, паровые котлы. Трех рабочих задавило насмерть при перевалке грузов через водораздельный хребет. По оплошности десятника, не измерившего заранее толщину льда, несколько ящиков с ценным оборудованием утопили в горной реке, и Алексей Никитич в лютый крещенский мороз заставил рабочих нырять посменно в ледяную воду, пока не были закреплены веревки и ящики не вытащили на берег. Кажется, после купания кто-то умер от воспаления легких. Что ж, человеку не повезло. Левченко платил щедро, знал, что зазря люди рисковать не станут. Рабочий люд со всех сторон шел к нему. И прииск обстраивался. По соседству появились поселки старателей. Зазвучал над тайгою гудок первой в этих местах паровой машины. Все это Алексей Никитич ставил себе в заслугу. Он считал себя основателем прииска.
Отказаться теперь от завоза продовольствия — значило закрыть прииск. Гонимые угрозой голода, разбредутся кто куда рабочие. Опустеют дома. Многих жителей Незаметного Алексей Никитич знал лично, по-своему ценил и уважал. Он не отказывался, если кто из приискателей приглашал его на крестины или свадьбу, дарил молодоженам подарки, был у многих из них кумом. Их судьба не была для него совсем безразличной. На таких людей можно надеяться, они не подведут. А без них — прииск мертв. Ржавчина станет постепенно разъедать механизмы, домовый грибок источит стены строений. Во дворах и на отвалочных площадках пробьется из-под земли молодая зеленая поросль и скроет от глаз человека дело его рук. Попробуйте тогда возродить прииск. Какие усилия понадобятся, какие расходы. А убыток от прекращения добычи? Сколько драгоценного металла лежит там под неглубокими торфами? Собственно, Незаметный только начал вступать в пору своего расцвета. Уж Алексей Никитич знает это лучше других. Незаметный — настоящее «золотое дно». Закрыть такой прииск?! Левченко не мог без большой внутренней борьбы решиться на это. Но сколько он ни думал, выхода не видел.
Саша об этих тревогах отца и понятия не имел. Едва одевшись, он побежал во двор. Обошел все закоулки, заглянул во все углы.
Дом, где жила семья Левченко, — просторный двухэтажный каменный особняк с видом на Амур — принадлежал Парицкой. Сама владелица занимала верхний этаж, а нижний сдавала внаем Алексею Никитичу. Каждый этаж имел отдельный ход. Но существовала также и внутренняя лестница, по которой Левченко всегда мог пройти наверх к Парицкой. Обе семьи имели свои дворы с надворными постройками, и только небольшой сад с беседкой под двумя липами, расположенный на обращенной к реке стороне участка, был в совместном пользовании.
Саша открыл калитку и, увязая по колени в снегу, побрел к беседке. Тропинки теперь не было: зимой в сад никто не ходил. Когда была жива мать, дворник всегда расчищал дорожку. Врачи предписывали ей как можно больше бывать на воздухе. Саша рукавицей смахнул снег со скамьи.
Вот здесь часто сидела она и, наверно, думала о нем. Мать была существом тихим, почти незаметным в доме, где все подчинялось железной воле Алексея Никитича. Но она одна умела придать дому настоящий уют, была неизменно ласкова и внимательна к детям и влияла на их воспитание больше, чем отец — вечно занятый, суровый и недоступный. Саша любил мать, хотя много раз, как и все дети, огорчал ее своими шалостями и необдуманными поступками. Пожалуй, весть о смерти матери, пришедшая в час, когда он рисовал себе радостную встречу с ней, оказалась самым большим и тяжким горем в его жизни. Он и сейчас находился под впечатлением этого известия.
Все-таки ужасная вещь — смерть. Саша видел ее на войне. Но только здесь смерть предстала перед ним во всей своей трагической конкретности.
Во дворе конюх Василий прогуливал Нерона — статного гнедого жеребца с развитой грудью и точеными ногами. Жеребец отличался неукротимо злым нравом, за что и получил имя римского императора. Его бока и круп лоснились. Ходил он, насторожив уши и всхрапывая. И все ловчился ухватить конюха зубами за локоть.
— Н-но, балуй! — прикрикивал Василий, дергая повод.
Нерон высоко вскидывал голову и пятился.
— Норовист? — спросил Саша, подходя и здороваясь с Василием.
Василий Ташлыков служил у Левченко с десяток лет и помнил Сашу еще мальчиком. До Сашиного побега на фронт отношения у них были самыми приятельскими. Маленькому Саше конюх казался человеком почти сказочной биографии. Василий и в самом деле многое испытал, бродя по свету в поисках лучшей доли. Рассказывал он о своих приключениях неохотно и скупо, но живое Сашино воображение само дорисовывало остальное. Василий был первым из взрослых, кто отнесся к Саше всерьез: он говорил с ним, как равный с равным, приучал его к посильному труду, зло высмеивал барчуков, которые сами ничего не умеют делать. Не раз украдкой от матери Саша пробирался на конюшню к Василию, чистил скребком лошадь, задавал ей корм. Запах сена и полумрак конюшни казались ему более привлекательными, чем его теплая, хорошо проветренная солнечная комната. Саша без труда мог запрячь коня в сани, растопить печь или сложить костер, и сколько раз потом, на фронте, он с благодарностью вспоминал Василия, преподавшего ему эти трудовые уроки.
Василий приветливо улыбнулся Саше, сказал, кивком показывая на коня:
— Беда! Зверь.
— Ездока надо.
— Надо, — согласился Ташлыков. — Папаша-то твой отяжелел. Прежде, бывало, прямо с земли — и в седло. Вскочит — и полетел. Уж у него кони всегда звери. Себе под стать подбирал.
— Да, он коней любит.
— Любит, — с горечью сказал Василий. — Известно, конь — бессловесная тварь. Нешто к человеку так относятся?
«Не любят отца, — подумал Саша. — Не любят, а боятся».
Они два раза молча обошли двор. Саша попросил:
— Дай-ка повод я повожу.
— Гляди, сомнет.
Жеребец покорно поплелся за Сашей, подбирая на ходу клочки сена, разбросанные по двору.
— Вот видишь, идет, — торжествующе говорил Саша.
— Значит, кровь чует, — заключил Василий.
Саше было приятно слышать это.
Но радовался он преждевременно. Жеребец неожиданно рванул повод, вздыбился, опрокинул Сашу грудью и поскакал к воротам.
— Держи-и! — заорал Василий, спеша наперерез.
Жеребец ловко увернулся от него и побежал в обратном направлении. Саша, прихрамывая, поплелся за ним.
— К забору, к забору прижимай! — командовал Василий, тревожно оглядываясь на окна.
Откуда-то выскочили собаки и с лаем устремились за жеребцом. Поднялся шум, гвалт.
— Это что? — загремел вдруг с крыльца голос Левченко. — Мерзавцы! Прохвосты!..
Собаки мигом убрались со двора. Нерон, отбежав в дальний угол, заступил повод и тоже остановился, поводя боками. Тут его и схватил подоспевший Василий.
Левченко, как был в рубахе, без шапки, крупными шагами пересек двор. Жеребец попятился к самому забору.
— Ты что, подлец! Коня покалечить хочешь?
Привычно коротким тычком он хотел ударить конюха в подбородок. Но Василий, не выпуская повода, перехватил его руку и с неожиданной силой пригнул ее книзу.
— Воля ваша, а только я больше бить себя не позволю. Хватит, — твердо сказал он, не спуская с хозяина загоревшихся недобрым огнем глаз. — Не позволю! Слышь, хозяин, — не трожь. Ну! — крикнул он, делая шаг вперед и оглядываясь на лежащее неподалеку полено.
Алексей Никитич в изумлении отступил назад.
— Возьми расчет. И чтоб духу твоего тут не было.
— Воля ваша, — упрямо твердил Василий.
— Ну и убирайся к черту!
Левченко повернулся спиной к конюху. Но тут Саша, возмущенный до глубины души, бледный и дрожащий, бестрепетно заступил ему дорогу.
— Послушай, отец!
Он хотел говорить спокойно и твердо, но не мог. Алексей Никитич сверху вниз поглядел на сына. - Ну?
— Василий не виноват. Это я упустил коня.
— Все равно. Я сказал — расчет, так и будет
Василий молча посмотрел хозяину вслед, сплюнул и повел жеребца в конюшню. Через полчаса он прощался с Сашей и говорил, усмехаясь в черную бороду:
— Развоевался твой папаша не ко времени. Укоротят. Ей-богу, укоротят.
Завтрак прошел в угрюмом молчании. Саша ел, не поднимая глаз от тарелки. Алексей Никитич метал грозные взгляды, и Соня ни жива ни мертва ходила вокруг стола, предупреждая его желания. Мавлютин тоже был погружен в свои думы.
Часы медленно отзвонили десять. Все вдруг, хотя и с разными чувствами, вспомнили о демонстрации. Это и было то неприятное, о чем помнил и не хотел думать Мавлютин. От большевистской демонстрации он не ждал ничего хорошего, однако и его потянуло на улицу.
— Все-таки любопытно взглянуть, — процедил он сквозь зубы.
Алексей Никитич надел пальто, но потом сердитым движением сорвал его с плеч и облачился в полушубок. Мавлютин криво усмехнулся:
— Мимикрия?
— Природа не глупа, — коротко отрезал Левченко.
Против их ожидания на улице было людно. Чистая публика парочками фланировала по тротуару. Знакомые раскланивались друг с другом. Только на лицах была заметна плохо скрытая тревога.
— Вы знаете, Русанов демонстрацию не разрешил, — сказал лесозаводчик Бурмин, поклонившись Алексею Никитичу.
— А кто его послушает, — проворчал Левченко.
— Нет, в самом деле. Если солдаты не пойдут, — не посмеют же они нарушить приказ! — то прочих можно разогнать казаками. Уссурийцам только мигни.
— Ах, что вы! Неужели дойдет до стрельбы? — всполошилась супруга Бурмина, делая круглые глаза. — Я говорила: от этих людей всего можно ждать. О боже! Вышли, как на гулянье...
Она настойчиво потянула Бурмина за рукав. Лесозаводчик, однако, уперся. Кто-то сказал ему, что демонстрацию разгонят, и Бурмин хотел своими глазами увидеть это приятное ему зрелище. Впрочем, он поколебался в своей уверенности, когда заметил, как вырядился Алексей Никитич. Полушубок в воскресенье! На главной улице! Черт возьми, в самом деле лучше держаться поближе к дому.
Демонстрацию центр города встречал явно враждебно. Но она шла, надвигалась неотвратимо, как утро после долгой ночи. Вдали грянула музыка. И сразу все шеи — толстые раскормленные шеи с жировыми складками в тугих крахмальных воротничках, шеи склеротически-дряблые, обмотанные теплыми шарфами из мягкой шерсти, свежие молочно-белые шейки городских красавиц, укутанные в дорогие меха, — все они, как по команде, мгновенно вытянулись и повернулись в ту сторону. Словно ропот ветерка, пронеслось:
— Вот они... Идут!
Из боковой улицы горячим пламенем вырвался сноп алых стягов, сгруппированных в голове колонны. Грохнул барабан. Торжественно запели трубы. Демонстрация, как река, влилась на Муравьев-Амурскую и потекла, заполнив всю ширину улицы.
За знаменосцами шли моряки Амурской флотилии. Шли по-морскому, широким шагом. Над головами согласно колыхались штыки. Один из отрядов вел Логунов. Его высокий чистый тенор был слышен среди многих голосов:
Черный матросский поток сменился серошинельным солдатским. Сдерживая коней, шагом проехали кавалеристы. Подпрыгивая на выбоинах, катились станковые пулеметы. Трехдюймовые пушки конной батареи черными жерлами смотрели на притихшую возле домов чистую публику.
Шли арсенальцы — смесь военных шинелей и рабочих курток. Демьянов оглядывался, как держат равнение, и улыбался, видя в первом ряду Мирона Сергеевича Чагрова, сосредоточенного, спокойного, крепко сжимающего ремень боевой винтовки. Шагали железнодорожники, полиграфы, коммунальники. Савчук вел вооруженный красногвардейский батальон грузчиков.
— Тверже шаг. Ать-два, левой!
Несли транспаранты:
«Вся власть Советам!»
«Да здравствует Совет. Народных Комиссаров и товарищ Ленин!»
«Требуем немедленного ареста агента Керенского — Русанова!»
Мавлютин смотрел на суровые, решительные лица рабочих и кусал губы в бессильной ярости. Он лучше других понимал, к чему в ближайшее время может привести развитие событий. Бежав от революции в Петрограде, он здесь вновь услышал ее грозную, твердую поступь. Было от чего прийти в отчаяние.
Алексей Никитич стоял рядом и смотрел на демонстрантов, как смотрят на разгорающийся в соседнем дворе пожар. Да еще при сильном ветре с той стороны. В глазах у него были и любопытство, и тревожное ожидание, некрытый страх.
«Вот оно — началось, — невесело подумал он. И тут же бесповоротно решил: — Никакого завоза на Незаметный. Пусть подыхают с голоду. Пусть...»
Из толпы вынырнул Сташевский. Сокрушенно покачал головой:
— Знаете, везде одно и то же. В Харбине Совет захватил власть. Ужасно, не правда ли?
— Не может быть, — усомнился Левченко. У него заныло под ложечкой, как только он вспомнил о вкладе в Русско-Азиатском банке.
— К сожалению, господа, все верно. Я сам читал телеграмму, — грустно подтвердил Сташевский. — Увы! Я становлюсь глашатаем только печальных вестей.
На площади возле собора начинался митинг.
— Что ж, подойдем ближе? Послушаем, — предложил Мавлютин.
— Благодарю. С меня довольно, — заявил Левченко.
Так они и глядели со стороны на подвижную, непрерывно колышущуюся толпу. Над площадью то воцарялась тишина, и тогда колыхание людского моря почти прекращалось; то вдруг взметывались вверх шапки, люди потрясали оружием, размахивали руками, и через несколько мгновений до Левченко и Мавлютина доносился глухой рокот и шум, как от морского прибоя. Люди на тротуарах жались поближе к своим домам.
Над городом поплыли величественные звуки «Интернационала».
Мавлютина окликнул Чукин. Купец был странно весел; глаза у него будто смазали маслом. Он представил полковнику маленького, по-европейски одетого японца.
— Всеволод Арсеньевич, знакомьтесь! Господин Хасимото Николай Кириллович — коммерсант из Осака.
Человек нашей, православной веры.
Японец быстро оглядел Мавлютина черными глазками в узких прорезях, и широкое лицо его еще более раздвинулось в улыбке. Сверкнули белые зубы.
— Очень счастлив познакомиться. Наслышан много о вас, — сказал он, весь сияя. — Не правда ли, сегодня отличный зимний день.
Говорил он по-русски превосходно, может быть, только излишне тщательно выговаривал слова.
— Если бы этот день не был омрачен, — вздохнул
Мавлютин, глядя на толпу, расходившуюся с митинга.
— О да! Я вас понимаю. И разделяю ваши чувства, господа, — сказал японец сразу погрустневшим голосом. — Я ведь русский по образованию. Учился на филологическом факультете в Петербурге. Чудесная пора — студенческие годы! Мои лучшие воспоминания связаны с Россией.
— А вот один из лидеров местных большевиков! — Чукин показал глазами на подходивших к ним Потапова, Савчука и Логунова.
Савчук, видно, рассказывал что-то веселое, озорное; Потапов, повернув голову, сбоку чуть вверх глядел на него и громко смеялся. Логунов шел на шаг впереди и тоже улыбался.
— Который, матрос? — живо обернувшись, спросил Мавлютин.
— Нет, штатский, — подсказал Хасимото. — Потапов Михаил Юрьевич. Был на каторге и в эмиграции. Очень знающий, дельный человек. — И, сняв шляпу, он почтительно поклонился Потапову. — Здравствуйте! Сегодня у вас большой успех.
— И вас это, кажется, огорчает? — быстро спросил Потапов.
— О, я только гость в вашей великой стране. Споры хозяев меня не касаются. — Хасимото улыбкой показал, что он понимает намек и вполне оценил избранную Потаповым форму шутки.
Потапов, проходя мимо, задержал свой взгляд на Мавлютине. На какую-то секунду взоры их скрестились. Мавлютин был уверен, что за это время Потапов успел раз и навсегда определить свое отношение к нему. Пока Потапов умными, пытливыми глазами смотрел на Мавлютина, у того вдруг вспыхнуло острое чувство личной ненависти к нему.
— Я бы расстрелял его собственной рукой, — сдавленным голосом сказал он, глядя вслед Потапову.
Хасимото быстро взглянул на полковника и отвел глаза.
— Прошу вас, господа, ко мне. Вчера из деревни калужонка привезли. Вспрыснем, а? — потирая руки от предстоящего удовольствия, предложил Чукин.
Японец вежливо отказался. Левченко тоже сослался на неотложные дела.
По дороге домой Алексей Никитич второй раз за этот день столкнулся с Василием Ташлыковым. Конюх был явно навеселе.
— А, наше вам, сорок одно с кисточкой! — развязно закричал он, снимая шапку и насмешливо кланяясь. — Значит, и вы, Лексей Никитич, так сказать, за новую власть. Вот и полушубочек надели, не побрезговали. — Он потрогал полу своей обтрепанной тужурки и предложил: — Сменяем, хозяин, а? Уж коли вам переодеваться, так в настоящую рвань. Я ведь придачи не прошу. Так на так. Только слышь, хозяин, — волчьи уши под овчиной не спрячешь. Н-нет, брат! Они — торчат! Ха-ха!
— Уйди, — глухо и угрожающе сказал Левченко. — Уйди, говорю.
— А ежели я не хочу? — куражился Василий. — Улица не твоя. Ежели я желаю с вами, хозяин, по душам поговорить — первый раз за столько лет. Да куда же вы, Лексей Никитич? Ау!
Левченко, сгорбив спину, быстро уходил прочь.
У самого дома на него налетела ватага восторженно оравших ребятишек. Алексей Никитич сердито цыкнул на них.
— Дяденька, не сердись. Революция! — закричал один из мальчишек.
— А ты не видишь, что это буржуй, — сказал второй.
Левченко с треском захлопнул калитку.
К Потапову недавно приехала семья: жена и сын. Временно он устроил их в доме доктора Марка Осиповича Твердякова. Теперь надо было подыскивать постоянную квартиру. Но для этого никак не выкраивалось свободное время. Жить же по-прежнему у Твердякова, хотя доктор и оказался милейшим, весьма обязательным человеком, было неудобно. В комнату приходилось ходить через помещение хозяев. Михаил Юрьевич всегда испытывал страшную неловкость, если задерживался до той поры, когда в хозяйских окнах гас свет.
Поднявшись на крыльцо, Михаил Юрьевич в нерешительности остановился перед дверью. Нет, положительно необходимо подыскать квартиру. Доктор — человек деликатный, не скажет. Но так дальше нельзя. Пора съезжать. И, решив окончательно, что на будущей неделе он постарается уладить свои квартирные дела, Михаил Юрьевич коротко позвонил.
Дверь отперла жена. Сонным голосом она спросила:
— Давно звонишь? Я задремала ожидаючи. Чаю хочешь?
— Не откажусь, конечно. Что Сережа, спит? — спросил он, снимая пальто и разыскивая в темноте крючок вешалки.
— Представь себе, мальчик целый день бегал по улицам. Где-то там видел тебя. Полон впечатлений от демонстрации.
Она принесла стакан теплого чая и два ломтика хлеба на тарелке.
— Больше ничего нет. Утром сбегаю пораньше в булочную. Может, чай подогреть?
— Нет, зачем... Да я и не голоден, — сказал Михаил Юрьевич. Но, глянув в ясные, любящие глаза жены, понял, что она сразу же разгадала его ложь. — Ничего, Наташа. Ничего, родная, — продолжал он, привлекая ее к себе. — Самое трудное мы все-таки пережили.
Потапову казалось, что за годы разлуки Наталья Федоровна мало изменилась. Разве что взгляд стал строже, да появилась та легкая округлость форм, которая говорит, что женщине уже за тридцать. Ее пышные светлые волосы, обычно собранные в узел на затылке, сейчас были распущены и густой волной спадали на плечи. Над розовой мочкой уха висел знакомый завиток. Михаил Юрьевич, помнится, целовал его, еще когда они в первый раз сказали друг другу слова любви.
Было это в светлую петербургскую ночь. Они сидели на скамье возле Обводного канала. А на квартире Михаила Юрьевича поджидали жандармы. Из тюрьмы его выпустили только через два года. Он все-таки разыскал Наташу и с радостью убедился, что она все время ждала его. Через неделю они поженились.
Еще до того, как у них родился ребенок, Потапову пришлось перейти на нелегальное положение. Преследуемый жандармами, он часто переезжал из одного города в другой. Шли годы. Мальчик рос, не зная отца.
Однажды Наталье Федоровне сообщили, что предстоит процесс группы социал-демократов большевиков: судят Потапова. Процесс был открытый. Ей достали билет. Когда ввели подсудимых, она чуть не вскрикнула, узнав мужа среди людей, окруженных стражей с саблями наголо. Но нельзя было выдать жандармам его настоящее имя. Наталья Федоровна с подругой—курсисткой женских Бестужевских курсов — пробралась в первые ряды. Громко смеялась, когда сердце у нее разрывалось от боли. Он с досадой обернулся, узнал ее и тоже побледнел. Они повстречались глазами. Все в ней вдруг заликовало: «Любит! Любит по-прежнему...»
На второй день она привела с собой сына, мальчику шел пятый год. Михаил Юрьевич поблагодарил ее взглядом. Он делал вид, что разглядывает публику, но видел, понятно, только их. Удивительно, как много может сказать один человек другому, не прибегая к помощи слов.
Еще раз они пришли на заключительное заседание. После речи прокурора, потребовавшего смертной казни для Потапова и еще четырех обвиняемых, были последние слова подсудимых. Потапов произнес страстную и. смелую обличительную речь. Глубокая, непоколебимая вера в справедливость дела, за которое он боролся, чувствовалась в его словах. Наталья Федоровна была потрясена. Как безумная, она прижимала к себе ребенка, шептала: «Ты смотри! Слушай...»
Запомнилось ей также смятение председательствующего. Да еще чей-то довольный, торжествующий возглас: «Упекут на каторгу голубчика!»
В перерыв, пока судьи совещались о приговоре, — а сочинили они его скандально быстро, все потом говорили, что приговор был составлен заранее, — Наталья Федоровна слушала толки о возможной мере наказания. Слушала с внезапно обретенным спокойствием, хотя угроза смертной казни не миновала. Ведь это был не суд, а расправа палачей над своими жертвами. Именно так охарактеризовал роль суда Потапов.
Она стоически выслушала приговор: пожизненная каторга. Улыбнулась мужу ободряющей улыбкой, гордо подняла на руки сына.
Идя домой, спрашивала ребенка: «Ты запомнил, что он говорил?» Мальчик, недоумевая, глядел на нее: «А кто этот дядя?» — «Господи, да твой отец!» — вырвалось у нее. И она горько разрыдалась. Потом обнимала и успокаивала перепугавшегося мальчика. «Вырастешь большой, все поймешь...»
Снова тянулись месяцы... Нужда, болезни. Однажды пришел незнакомый человек и сказал Наталье Федоровне, что Михаил Юрьевич бежал с каторги. Подробностей он не знал никаких, но заверил ее, что все сошло благополучно. Жандармы потеряли его след. Потапова укрыли товарищи; уляжется тревога, и он переберется в более надежное место.
В трудной, полной лишений и тревог жизни семьи революционера эта весть для Натальи Федоровны была светлым лучом, редкой радостью. Она знала, что Михаил Юрьевич, раз уж он вырвался на свободу, постарается избежать лап охранного отделения. Но куда его могут направить теперь?..
Позднее уже другой товарищ сообщил ей, что Михаил Юрьевич эмигрировал за границу. Она вздохнула с облегчением. Ведь в случае поимки Потапову грозила смертная казнь.
Наконец пришло письмо — из Америки. Вон куда занесла Михаила Юрьевича его судьба — судьба революционера-большевика. Что ж, теперь царским жандармам его не достать. Пусть он наконец отдохнет, наберется новых сил. И как хорошо, что минует его эта ужасная война.
Наталья Федоровна еще раз перечитала письмо. Из-за цензуры Потапов писал скупо, намеками, которые нелегко было разгадать. Однако она уловила, что он вовсе не был в восторге от американской жизни. Странно. Очень странно!..
Вскоре после Февральской революции Наталья Федоровна получила телеграмму. Потапов был уже во Владивостоке. Она прижала телеграмму к груди, чувствуя, как сильно забилось сердце. «Скоро! Скоро...» Как долго она ждала этого часа. Надо готовиться к встрече. Хорошо бы побелить комнату, достать цветы. «А сколько дней идет поезд от Владивостока?» Она еще раз пробежала телеграмму, вникая в смысл слов.
«Придется пожить здесь. Надо помочь местным товарищам», — писал Потапов после сообщения о своем возвращении в Россию.
Милый, он нисколько не переменился!
От Потапова теперь часто приходили письма, написанные мелким торопливым почерком. Короткие письма, где гораздо больше читаешь между строк. Он вошел в курс местной жизни, поглощен интересами партийной борьбы. Два или три раза Потапов присылал ей по пачке местных газет, из которых Наталья Федоровна поняла, что муж вряд ли скоро выберется оттуда. Так и оказалось.
Наталья Федоровна, не раздумывая, собралась и поехала с сыном через всю страну на Восток...
— Хорошо удалась демонстрация? Много было народу? — спрашивала она теперь, видя приподнятое настроение мужа и радуясь этому.
— Удачно получилось, сверх ожидания, — сказал он, снимая пиджак и вешая его на спинку стула. — Вечером собрался на пленарное заседание Совет в новом составе. Меньшевики и эсеры, видя, что они теперь в меньшинстве, не придумали ничего лучшего, как демонстративно хлопнуть дверью. Ушли. Но жест не произвел впечатления. «Скатертью дорога!» — кричали им вслед рабочие. Так что мы без особых помех разрешили организационные вопросы.
Михаил Юрьевич оптимистически оценивал обстановку. Победа Советов в крае — дело ближайшей недели, двух. Уже избраны делегаты на краевой съезд Советов во Владивостоке, Никольск-Уссурийске, Хабаровске, Свободном. Везде у большевиков подавляющее большинство. Меньшевистско-эсеровский исполком краевого Совета доживает последние дни, ему придется сложить своп полномочия.
— Собственно, сегодня в городе решилось все. Теперь надо готовиться к краевому съезду Советов, — сказал Михаил Юрьевич.
В горле у него запершило. Он осторожно кашлянул. Но от этого царапанье в горле только усилилось. Начался один из тех продолжительных приступов кашля, которых он так опасался.
Наталья Федоровна испуганными глазами глядела на мужа.
— Михаил, очень меня тревожит твое здоровье.
— Пустяки, обычная простуда.
Она с сомнением покачала головой.
— Боюсь, что дело серьезнее. Пей чай, во всяком случае он-то тебе не повредит.
Михаил Юрьевич сделал несколько глотков.
— Хорошо, схожу к врачу — посоветуюсь. Придется обратиться к нашему любезному Марку Осиповичу, — сказал он и поставил стакан обратно на стол. — Ложись-ка ты, Наташа. А я займусь одним проектом.
Наталье Федоровне хотелось сказать, что со дня ее приезда они ни разу как следует не поговорили, что она имеет право на большее внимание с его стороны. Но она давно привыкла умерять свои желания.
— Было бы куда полезнее для дела — сейчас лечь спать, — сказала она тоном решительного осуждения. Впрочем, ей тут же стало жаль его, она провела своей теплой мягкой ладонью по запавшей небритой щеке Михаила Юрьевича.
Мальчик, спавший на диване в докторской приемной, что-то забеспокоился, и Наталья Федоровна вышла к нему.
Михаил Юрьевич прикрутил немного фитиль лампы и так направил абажур, чтобы свет падал только на стол.
На дворе разыгрался ветер, завыл в печи. Где-то, будто выстрелы, громко хлопал незакрепленный ставень.
Зима выдалась суровая и снежная. С последних чисел ноября над городом один за другим проносились бураны. Улицы перемело сугробами, которых теперь никто не расчищал. Из-за снежных заносов на железной дороге не раз прерывалось движение. Сократился и без того ничтожный привоз в город из окрестных деревень. Цены на рынке взлетели неслыханно.
В разгар зимы обнаружилось, что город плохо обеспечен топливом. Деятели городской думы рассчитывали, видно, на доставку дров по железной дороге. Однако получать порожняк под погрузку становилось все труднее. Сотни искалеченных, пришедших окончательно в негодность вагонов заполняли тупики и пути на станциях и даже на маленьких разъездах.
Поглядывая на курившийся Хехцир, окутанный туманной дымкой, городской обыватель зябко поводил плечами и спешил укрыться в доме. Уже немало горожан разбирало заборы на топливо.
Чукин после воскресной демонстрации больше отсиживался дома, благо в квартире было тепло. Дровами он предусмотрительно запасся года на три вперед.
После того как Чукин похоронил жену, он жил один. Детей у него не было, родственники же либо отступились от него, либо он сам порвал с ними. Матвей Гаврилович не был скрягой, считался хлебосолом, но родственников не жаловал. Они, по его мнению, претендовали на то, что им заведомо не принадлежит. Он терпеть не мог своих наследников и рассчитывал всех их пережить. Проще иметь дело с чужими людьми: ты обманул или тебя обманут — жаловаться не будешь. На обмане мир держится.
Дом у Чукина просторный, комнат на пятнадцать, с небольшим залом посредине. Матвей Гаврилович сам занимал четыре комнаты на солнечной стороне, а остальные сдавал внаем чиновникам из казенной палаты. Из этого он извлекал двойную выгоду. Ведь иногда вовремя сказанное слово, даже намек уберегут от убытков или принесут барыш. А у Матвея Гавриловича на прибыльные дела нюх превосходный.
Хозяйство Чукина вела его кухарка, расторопная и немногословная женщина лет пятидесяти пяти. Изучив хозяйские привычки, она твердо поддерживала раз установленный порядок и этим немало привлекла симпатии Чукина.
Из кухни доносились дразнящие аппетит запахи. Матвей Гаврилович потянул носом, посмотрел на часы. «Ох, господи, не осуди чревоугодие наше», — подумал он, захлопывая серебряную луковицу часов и пряча их в жилетный карман. Затем, не глядя, протянул руку, взял со стола футляр с очками и начал просматривать только что доставленные газеты.
Владивостокская газета «Дальний восток» писала о продовольственном положении в крае. Прогноз был самый мрачный. Чукин, однако, прочел статью не без удовольствия. Он даже отметил два-три абзаца, особенно его заинтересовавшие.
«Приамурская жизнь» била тревогу в связи с первыми мероприятиями нового исполкома Хабаровского Совета. Газета пугала читателей последствиями необдуманного вторжения несведущих лиц в экономическую жизнь. «Рабочий контроль — это путы, веревки на руках и ногах владельцев. Как можно ждать в таких условиях нормальной работы предприятий? Разве справедливо винить хозяев в бездеятельности и саботаже, если им шагу не дают ступить». Чукин сочувственно покивал головой. На следующей странице его внимание привлекло описание поступка лесопромышленника Бурмина. Газета пышно именовала его «истинным благодетелем города, щедротами которого многие обыватели обережены от лютого холода в годину всеобщей смуты и великих испытаний...»
Склонный к более точному и сухому стилю, Чукин без труда представил себе действительный ход событий.
Прикинув цены на топливо, Бурмин распорядился продать на дрова огромные штабеля прекрасной строевой сосны, приплавленной минувшим летом к заводу для распиловки. Когда же со всего города к нему на биржу потянулись сотни людей с саночками, Бурмин на виду у толпы осенил себя крестным знамением и велел снимать старые покаты и даже рушить стены недостроенного мелочного цеха. «Порадеть надо людям, не звери ведь. Каждый должен выполнить свой общественный долг», — заявил он журналистам.
«Однако, огребет барыши, прах его побери!» — завистливо подумал Чукин.
Матвей Гаврилович и сам собирался утешиться не менее прибыльной операцией. Предвидя рост цен на хлеб, Чукин минувшим летом не поскупился на закупки. Его склады ломились от продовольствия. Расчетливый купец выжидал, пока иссякнут казенные запасы хлеба. Их могло хватить еще от силы на две-три недели. Рассчитывать на подвоз по железной дороге не приходилось. До навигации было далеко. К тому же теперь будут чиниться препятствия к завозу хлеба из Маньчжурии, от хлебного рынка которой во многим зависело продовольственное снабжение края. Чукин верил, что его терпение вознаградится сторицей.
Однако события текущей недели сильно поколебали эту его уверенность. От рабочих собраний поступали требования, чтобы Совет в целях предотвращения голода и спекуляции хлебом реквизировал у частных владельцев наличные запасы продовольствия. Чукин чувствовал, как почва с головокружительной быстротой уходит из-под его ног. Он обливался холодным потом, думая о том, что случится с его фирмой, если рухнет такая ненадежная преграда, как власть комиссара уже не существующего в природе Временного правительства.
Зная по опыту, как быстро разгораются людские страсти, Чукин боялся, что какой-нибудь необдуманный поступок Русанова или потерявших голову думских деятелей может ускорить взрыв. Ему казалось, что создавшееся неустойчивое равновесие может тянуться и дальше, если умело балансировать и кое-чем поступиться. Ведь недалек уже, видно, час, думал он, когда новый режим изживет сам себя и жизнь снова войдет в покойное русло.
Чукину хотелось на всякий случай застраховать себя. Когда во время демонстрации коммерсант Хасимото намекнул, что владельцам русских фирм следовало бы подумать о привлечении иностранных компаний в качестве соучастников в деле, Чукин сразу повеселел, оценив возможности такой комбинации. Взвесив на досуге все «за» и «против», Матвей Гаврилович решил обстоятельнее позондировать почву. Он ждал японца для деловых переговоров.
Хасимото пришел с изрядным опозданием. Он учтиво извинился, сославшись на неотложные дела. Но Чукин ему не поверил. «Цену себе набивает, бестия», — решил он, с приветливой улыбкой встречая гостя. Они Долго тискали друг другу руки.
— Вот, кстати, и пообедаем, Николай Кириллович, — говорил Чукин, принимая от японца пальто и шляпу. — Сижу один, как сурок в норе. Словом не с кем перемолвиться. Ох, времечко, не к ночи будь помянуто... Ну, садись, дорогой гостюшко! Угощу-ка я тебя калужатиной. Пальчики оближешь!
— Право, вы напрасно беспокоитесь, уважаемый Матвей Гаврилович, — стал отнекиваться Хасимото. — Я пришел проведать о вашем здоровье.
— Нет уж, Николай Кириллович! Никаких резонов не признаю. Соблаговолите к столу, — настаивал Чукин, беря коммерсанта за локоть и легонечко подталкивая его вперед.
Хасимото, перед тем как сесть, обернулся к красному углу и истово перекрестился на иконы.
Чукин налил по стопке водки себе и гостю.
— За ваше здоровье и чтобы дела наши были благополучны! — воскликнул он, подавая знак нести уху.
Хасимото ел с видимым аппетитом.
— Завидую вашему самообладанию, Матвей Гаврилович, — сказал он, когда они выпили еще по одной и закусили парной калужатиной с хреном. — При существующем положении дел легко потерять голову.
— Э, пустое. Умный человек при любой власти не пропадет, — беззаботно отмахнулся Чукин. — Я молчу, молчу, а свое схвачу. Еще калужатинки, Николай Кириллович.
Хасимото вытер салфеткой жирные губы.
— Очень приятное национальное блюдо, — вежливо сказал он — Но я уже сыт. Не будем лучше отвлекаться. — Он подождал, пока кухарка собрала тарелки и вышла. — Хабаровский Совет теперь следует считать окончательно большевистским. Вряд ли это будет способствовать развитию нормальной деловой деятельности. Работа по восстановлению прежнего состояния, видно, очень затянется.
— А не все ли равно, с кем торговать, — тем же бодрым тоном заметил Чукин. — Платили бы деньги.
— Вы заблуждаетесь относительно действительного положения дел, — перебил японец с вежливой улыбкой, выражающей одновременно сочувствие и сожаление. — Человек счастлив, пока не знает беды, случившейся в его отсутствие. Вот что дошло до моего слуха: завтра или послезавтра состоится решение и будет проведена реквизиция зерна и муки. Безвозмездная конфискация запасов продовольствия. — Хасимото давал понять Чукину, что ему отлично известны все обстоятельства, тревожащие последнего.
«Сукин сын, все уже он поразведал!» — ахнул Чукин, соображая, как бы все-таки половчее провести дело. Но Хасимото не дал ему собраться с мыслями.
— Насколько я понимаю, почти весь оборотный капитал вашей фирмы вложен в запасы муки? Не так ли? — участливым тоном спросил он. — Вряд ли у вас будет время, чтобы быстро справиться с реализацией.
«И это знает! О господи!» — поразился Матвей Гаврилович.
— Сущая правда, Николай Кириллович. Сущая правда, — изменившимся, сдавленным голосом признался он. — Верите, как перед богом. Все мое состояние. Если конфискуют, я — разорен. Погиб!.. «Ох зачем я, старый дурак, это ему говорю? Зачем?» — ужаснулся он, заметив, как сузились вдруг глаза японца, и понимая в то же время, что сказанного уже не воротишь. — Николай Кириллович, — продолжал он, поскольку пути для отступления не было, — если бы у меня были документы, что в товарищество на паях входит японская фирма... безвозмездного отчуждения товаров не должно быть. Так?
— Я удивляюсь меткости вашего указания на свое больное место, — заметил Хасимото. От него не укрылось мгновенное замешательство Чукина, и он верно его истолковал.
— Николай Кириллович, моя судьба в ваших руках. Фиктивные документы — и я спасен, — сказал Матвей Гаврилович, с надеждой и подозрением взирая на своего гостя. Он счел за лучшее отбросить дипломатию и идти к цели напрямик. — Разумеется, я плачу куртаж.
Хасимото в сомнении покачал головой.
— Местные власти вряд ли одобрят подобную финансовую операцию. Да и с нашим консулом возникнут затруднения. Есть ли расчет на выручку достаточных прибылей? — Он помолчал немного, обдумывая что-то. Спросил тихо, безразличным тоном: — А вы убеждены, что продовольственный кризис может разразиться?
— Господи, да стоит придержать хлеб еще месяц — и бери любую цену! — воскликнул Чукин. Так уж суждено ему было в этот вечер переходить от отчаяния к надежде и снова видеть перед собой разверзшуюся пропасть. — Еще в ножки кланяться станут. Хе-хе! Тоже попадем в благодетели, — усмехнулся он, вспомнив заметку о Бурмине.
— Я не хочу смотреть сложа руки на ваше бедствие, — сочувственно сказал Хасимото. — Однако фиктивных документов составить не могу, это наказуется по закону.
— Боже мой, да кто узнает! — вскричал Матвей Гаврилович. — Вы да я да наши денежки. С рук на руки.
Чукин не придавал значения ссылке Хасимото на закон. Кто законы не обходит? Да стоит посмотреть на его рожу, чтобы понять, что он за птица. «Ох, зря я ему разболтал. Поди, захочет веревки из меня вить. А я тебе не дамся, желтая образина», — со злобой подумал Чукин, встретив настороженный, изучающий взгляд осакского коммерсанта.
Хасимото с видимым интересом принялся рассматривать киот старинного образца и древние иконы, слабо освещенные снизу горящей лампадкой. Киот и иконы составляли предмет особой гордости Чукина. Он уверял, что другого такого набора во всей Сибири не сыскать. Но сейчас Матвею Гавриловичу было не до тщеславия.
— Какие же вы тогда предложите условия? — спросил он наконец.
— Эти иконы — большая редкость. Обнаруживается хороший вкус хозяина, — тоном знатока заметил Хасимото. Поглядел на Чукина пристальным взглядом, будто взвешивал, выдержит ли он уготованный ему удар. — Я думаю так: смешанное общество получит покровительство Японии, если вы передадите нам половину акции.
— То есть как... половину? — ахнул Чукин. — Вы меня, видно, за сумасшедшего считаете?..
— Я очень сожалею, что не могу удовлетворить вас во всех отношениях. У нашей фирмы не будет интереса вмешиваться, — холодно возразил японец. — Вы также сохраните себе достаточно, — принялся он затем убеждать собеседника. — Если упустите этот случай, то больше его не встретите.
— А каков будет размер капитала, вкладываемого в дело японской стороной? — продолжал допытываться Чукин.
Хасимото соболезнующе улыбнулся: «Он глядит в гроб и еще упирается. Глупо. На свете многое делается наперекор желанию», — подумал он, привычно сохраняя улыбку на лице.
— Вы поступили мудро, обратившись ко мне, — продолжал он спокойно и рассудительно. — Предусмотрительность есть мать безопасности. Мы гарантируем поддержку, но надо идти навстречу друг другу. Вы напрасно думаете, что я хочу получить пользу без труда.
Чукин подавленно молчал, словно не слышал или не понимал его слов. Он без всякого выражения смотрел на стену перед собой, и вид у него был такой, будто его неожиданно стукнули сзади по темени.
— Испытав всякие перипетии человеческой жизни, можно достигнуть последней цели, — философически заметил Хасимото в утешение приунывшему хозяину.
И тут Матвей Гаврилович взорвался.
— Разбойник! Среди бела дня грабишь! — закричал он вдруг, потрясенный циничным нахальством заморского коммерсанта. — Эх, Николай Кириллович, нехристь ты все-таки. Ведь я к тебе с чистым сердцем, как на духу. И тебе не совестно, а? Мою калужатину ел, водку пил... Сукин сын!..
— Простите, пожалуйста, я не все понимаю, — невозмутимо сказал Хасимото.
— Понимаешь! Все понимаешь... Разбойник!
— Что такое есть разбойник?
Чукин оторопело посмотрел на японца. Лоб купца, как мелким бисером, покрылся капельками пота.
— Ох, не дай боже попасть вам в руки! Слопаете, и косточек не останется, — сказал он, несколько успокоившись и пытаясь обернуть все происшедшее между ними в милую шутку. — Вот приснится такое ночью, пот прошибет, ей-богу. Ну, да что толковать. За спрос денег не берут. Не сговорились — разойдемся. Свет не клином сошелся. К американцам пойду.
— Я вам не советую делать это. Если человек не считается со своим положением, он всегда терпит неудачу. Могут быть разные неприятности, — просто сказал Хасимото и доглядел на Чукина таким откровенно-угрожающим взглядом, что тот сразу прикусил язык.
«Господи, спалит еще!» — Матвей Гаврилович поспешил переменить тему разговора.
— Так вы благоволите вашим почтенным ответом, — давая Чукину время подумать, с убийственной вежливостью сказал на прощанье Хасимото. И откланялся.
Весь взмокший, Матвей Гаврилович запер за ним дверь и лишь тогда вздохнул с облегчением.
«Фу, ровно он штаны с меня снял. Ну, нация...»
С возвращением Савчука шумно стало в доме Федосьи Карповны. Изменился весь привычный жизненный уклад. Теперь ей не было надобности искать работу у чужих людей. Но для женщины в доме всегда достаточно хлопот.
Савчук не был домоседом — уйдет с утра из дому и пропадает дотемна. Разве забежит когда дров наколоть. Эти проявления заботы с его стороны глубоко трогали Федосью Карповну. Она ходила с тряпкой по комнатенке, мыла и скребла некрашеные половицы или, взобравшись на табурет, перетирала листья фикуса и думала о разительных, невероятных переменах в окружающей жизни. Вошли они в ее дом вместе с большой радостью — возвращением сына, и все так тесно переплелось одно с другим, что Федосье Карповне трудно даже понять, в чем главная причина. Дождалась она своего счастья.
Днем ее никто не отвлекал от дум. Кроме соседки Дарьи, которая теперь зачастила к ней, в ранние часы редко кто заглядывал. Дарья жаловалась на свою неудачную жизнь. Муж втянулся в какие-то темные дела, не ночевал дома, либо возвращался пьяным, и тогда возникали скандалы. Петровы и прежде жили недружно.
Федосья Карповна от всей души жалела соседку, уговаривала ее потерпеть. Не может быть, чтобы человек не образумился. Ей в эти дни все люди представлялись хорошими, добрыми. Так за делом и разговорами тихо и незаметно проходил день.
Зато вечером в комнатку набивалось столько людей, что за всю войну тут не перебывало больше. Федосья Карповна не жаловалась, что гости выстуживают помещение. Она лежала возле печки, отвернувшись к стене и закрыв глаза, но не спала, как думали собравшиеся, а жадно слушала. Столько разных мыслей и воспоминаний пробуждалось у нее в эти часы!
— Мать, ты спишь? — спрашивал Савчук, когда спорщики особенно расходились. — Тсс!..
Он знаками призывал всех к тишине. А Федосья Карповна молчала и улыбалась про себя.
К Савчуку заходили не только молодые красногвардейцы, жаждавшие послушать бывалого командира. Частенько появлялись у них и старые, уважаемые грузчики. Они степенно рассуждали о делах своего союза, о революции. Федосья Карповна всех угадывала по голосам: вот заговорил Супрунов, а это возражает Захаров. Предложения одних она мысленно одобряла, с другими не соглашалась, — и никто не знал, что она имеет свое собственное мнение.
Впервые подала голос Федосья Карповна вот по какому поводу.
Как-то один из грузчиков сообщил, что можно по случаю приобрести инструменты для духового оркестра. Мысль о собственном оркестре увлекла молодежь. Но кто-то скептически заметил:
— А музыкантов тоже нанимать? На какие шиши?
— Свои найдутся.
Заспорили, стали называть тех, кто от случая к случаю поигрывал на каких-нибудь инструментах.
— Без капельмейстера, однако, не обойтись.
— Капельмейстера найдем.
— Яков Андреевич, есть у нас деньги? — спросил Савчук, живо представив себе, как его батальон под музыку выходит на главную улицу.
— Деньги?.. Есть, куры не клюют, — хмуро буркнул Захаров, зная, к чему тот клонит. — На оркестр, может, и наскребем. А другие расходы из каких источников?.. Нет, я не могу дать согласия.
— А ты, Гордей Федорович, как? «За» или «против»? — обратился Савчук к Супрунову. Он и Захаров были членами правления Союза грузчиков, и от их позиции зависело многое.
— Да, должно быть, обойдемся, пока без оркестра. Вот разбогатеем...
— Это когда же ты богатеть будешь, Гордей Федорович? Дождетесь вы его, ребята, как же, — неожиданно для всех вмешалась в разговор Федосья Карповна. Она приподнялась, опираясь на локоть; в глазах у нее прыгал веселый, задорный огонек. — Я сколько его помню, он все богатеет. Скоро пиджачок с плеч свалится. И дома у него богатство — пыль да пустые углы. Так ведь, Гордей Федорович?
— Да, вроде так. Одно у нас богатство, — усмехнулся Супрунов, обводя взглядом каморку Федосьи Карповны.
— А я вот что скажу, ребята: покупайте. В добрый час! С музыкой чем плохо? — продолжала она увлеченно. — Уж я духовую музыку как уважала, а слушать довелось — раз в год. Да и то на чужом пиру. Вы на нашу жизнь, ребята, не оглядывайтесь. Только и веселья, пока молоды.
Утром Федосья Карповна поднялась как обычно. Приготовила завтрак.
Савчук ел и с любопытством посматривал на мать.
— Здорово ты нам помогла. Спасибо, — сказал он, угадав ее мысли по чуть приметной улыбке.
— Ну, уж помогла... Три слова сказала, — смущенно отмахнулась Федосья Карповна и переменила разговор.
После ухода Савчука она кочергой перемешала угли в печке, прикрыла вьюшку. Хотела подмести пол, да вспомнила, что нет хлеба, и стала собираться в булочную.
Поднималась в гору она медленно; уже наверху ее догнала Дарья. Она тоже шла за хлебом.
— Здравствуй! Вот не знала, что ты пойдешь сейчас в лавку. Я бы уж попросила тебя, — сказала Федосья Карповна, останавливаясь, чтобы отдышаться немного после крутого подъема.
— А я стукнула в дверь, вас уже нету, — звонко, чуть нараспев ответила Дарья. — Иван Павлович опять чуть свет ушел?
— Такая у него забота, — сказала Федосья Карповна и искоса посмотрела на Дарью.
Та стояла с легким румянцем на щеках, веселая и сильная. Голова у нее была повязана новым цветастым платком, очень шедшим к лицу.
«Ой, бабонька! Что-то у тебя на уме. Ишь, вырядилась», — неприязненно подумала Федосья Карповна, нахмурилась и пошла тихонько дальше по дороге.
Дарья шагала сбоку, заглядывала ей в лицо и жаловалась на мужа.
— Опять дома не ночевал. Чужие мы, совсем чужие...
Булочная, где они обычно брали хлеб, оказалась закрытой. У запертых дверей выстроилась очередь.
— Что такое? Али хлеба нет? — встревожилась Дарья и потащила Федосью Карповну к центру города.
Но и там булочные были закрыты. Везде стояли громадные очереди. Женщины, потеряв терпение, начали неистово барабанить в окна и двери.
Хозяин булочной вышел к толпе и стал смеяться над голодными людьми...
— Что, приспичило? Плохо без хлебушка, а?..
— Чего зубы скалишь, образина! Куда хлеб девал?
— Нынче, граждане, свобода. Хочу — торгую, хочу — нет, — куражился торговец. — Может, я свиней хлебом откармливаю.
— Ах, свиней?.. Бей его, борова жирного! — возмущенно закричала Дарья, растолкала руками стоявших впереди и первая вцепилась в рыжую бороду торговца.
Гневная, разъяренная толпа сомкнулась вокруг него, как смыкается вода над брошенным в реку камнем. Замелькали кулаки, подхваченные хворостины.
Торговец завизжал на нестерпимо высокой ноте, захлебнулся криком. Когда он выскочил наконец из толпы, на нем не было ни пальто, ни шапки. Сильно припадая на одну ногу, он запетлял по улице.
Дарья лихо, по-мужски, свистнула ему вслед. Платок у нее сбился на одну сторону, волосы растрепались.
— Попомнит, дьявол, как свиней кормить! Тут у людей дети пухнут с голоду, — сказала она и стала приводить в порядок прическу.
— Да ты что, милая. Разве можно? — сказала Федосья Карповна, не любившая скандалов и драк. Она никак не ожидала такой прыти от своей соседки.
— А ему измываться над нами можно? Это ничего? — закричала Дарья, обращаясь уже не столько к Федосье Карповне, сколько к окружившим ее солдаткам.
— Да куда ж это власть смотрит, лихоманка ее затряси!
— А власть кушает всласть... Сытый голодного не разумеет.
Снизу по улице валила другая толпа, предводительствуемая не молодой уже женщиной в коротком рыжеватом пальто. Она вела с собой детишек — мальчика лет пяти и девочку годом постарше, уцепившуюся за ее юбку. Подойдя ближе, женщина призывно взмахнула рукой:
— Айда-те, граждане, в Продовольственную управу. Заявим протест.
— Управа, говорят, сама распорядилась так.
— Чтобы людей голодом морить? Ну-ну!
— В управе те же самые толстосумы сидят. Рука руку моет, и обе — грязные.
— Окна им поленьями выбить! — предложила Дарья, настраиваясь на еще более воинственный тон.
Кто-то звонко и весело крикнул:
— В Совет надо идти! Там разберутся.
Загудели, сплелись голоса. И вдруг шум разом унялся. Мерные сильные удары прозвучали над затихшей очередью. В дверь булочной стучались Захаров и трое красногвардейцев с винтовками.
В окне мелькнуло бледное, испуганное лицо хозяина.
— Чего вам, граждане?
— Открывай! Именем Совета рабочих и солдатских депутатов.
Толпа жарко дышала позади красногвардейцев.
— Товарищи, хлеб будут выдавать, — сказал Захаров и широко распахнул дверь булочной. — Пройдите сюда несколько человек, понятыми будете.
Женщины вытолкнули вперед Дарью.
— Идемте и вы со мной, — сказала она Федосье Карповне, таща ее за руку по образовавшемуся проходу.
В задней комнате на полках лежали еще теплые буханки хлеба. Федосья Карповна потрогала булки пальцем, сурово глянула на юлившего глазами торговца. Она не верила тем, кто говорил, что торговцы намеренно прячут хлеб, чтобы создать панику и взвинтить цены. Теперь же сама убедилась в этом.
— Как же вы говорите, что хлеба нет? Это непорядочно. Гнусно! — возмущенно сказал старик понятой, обращаясь к хозяину. — Да, да, непорядочно! Простое чувство человечности побуждает меня сказать вам это. Извините меня, пожалуйста.
— Перед такой сволочью извиняться? — вскипела Дарья. — Да ему морду бить!
— Тихо, товарищи! Разберемся, — спокойно сказал Захаров и повернулся к владельцу булочной: — В чем дело? Почему не отпускаете хлеб?
— Господи, да я рад бы! Разве у меня душа не болит? Сердце кровью обливается на нужду глядя, — владелец булочной говорил ноющим голосом, быстро шмыгал безбровыми глазами по хмурым, суровым лицам. — К сожалению, я человек подневольный. Обязан подчиняться законным предписаниям. Вот, пожалуйста, — он трясущимися пальцами извлек из жилетного кармана сложенную вчетверо бумажку, расправил ее на своем животе, погладил рукой и протянул Захарову. — Извольте прочесть. Последнее распоряжение Продовольственной управы...
Захаров углубился в чтение документа. Читал он медленно, плохо разбирая машинописный текст из-за скверного оттиска.
— Как изволите видеть, по понедельникам, средам и пятницам отпуска продуктов населению велено не производить. Ввиду катастрофического положения с продовольствием в городе.
Хозяин юлил перед Захаровым и понятыми, плакался.
— Вы сами-то ели сегодня? — спросил Захаров, складывая бумагу и пряча ее в карман.
— Что-с? Ах, да! Ну, разумеется, завтракал. — Владелец булочной с недоумением поглядел на гневно сдвинувшихся людей, учтиво пояснил: — Я всегда по утрам кушаю.
— Очень приятно, — пробасил Захаров. — А вот им, видно, есть не хочется, — показал он на понятых и стоявших за ними покупателей. — Для них вы голодные дни придумали, вместо постных. Слышите, товарищи!
Толпа опять придвинулась и загудела.
— Позо-ор!
— Что же мы теперь можем предпринять, а? — растерянно спросил у Захарова старик понятой. — Имеется, так сказать, законное основание. Кхм...
— А плевать, — сказал Захаров. — Такого закона, чтобы людям без хлеба быть, мы признавать не желаем. Кому он нужен? Спекулянтам! Это нарочно панику сеют, будто хлеба в городе нет. По предложению фракции большевиков Совет решил: хлебом торговать бесперебойно и по прежней цене. Вот это закон. Так и будем действовать. — И он легонечко подтолкнул владельца булочной к прилавку. — Ну, поживее ворочайся, чего приуныл! Эко времени потеряно. Придется дотемна торговать.
Хозяин не стал перечить.
— Кому ржаной? Кому ситный? — через минуту привычно выкрикивал он, с непостижимой быстротой орудуя хлебным ножом и гирями.
Дарья поставила Федосью Карповну впереди себя, у самого прилавка.
— Берите хлеба побольше, я денег добавлю, если у вас мало, — зашептала она ей на ухо. — Да еще сахару надо взять, соли...
Идея создания Комитета спасения революции, как утверждал Судаков, принадлежала ему. За два дня, прошедших после того, как фракции меньшевиков и эсеров ушли из Совета, Судаков обегал всех знакомых. У него были обширные связи среди служащих областных учреждений — почты и телеграфа, казенной палаты и казначейства, акцизного управления, продовольственной комиссии. Объединенные недавно образованным Советом государственных и общественных служащих города Хабаровска, так называемым Согосом, эти люди в большинстве своем занимали враждебную позицию по отношению к Советам. Комитет спасения революции, в котором были представлены и местные тузы и местные социалисты, действовал открыто. Его деятели произносили громовые речи. Устраивались банкеты, делались заявления для печати. Согос проводил по учреждениям митинги и собрания, грозил всеобщей стачкой служащих в случае перехода власти в крае в руки Советов. Происходила окончательная размежевка сил перед решающим столкновением.
Мавлютин внимательно следил за развитием событий. Через Судакова и Сташевского он установил связь с Согосом и реакционно настроенным Союзом городских учителей. Бурмин и Чукин представляли Биржевой комитет. Другие незримые нити тянулись от него в штаб Приамурского военного округа и в канцелярию Русанова. Варсонофий Тебеньков поддерживал контакт с зажиточной верхушкой уссурийских казаков. Сам Мавлютин предпочитал пока, оставаться в тени, но все крепче прибирал к рукам нити широко задуманного контрреволюционного заговора.
Саша Левченко с удивлением обнаружил, что в доме у них постоянно толкутся какие-то незнакомые люди. Уходят одни, приходят другие. С некоторыми Мавлютин надолго запирался в комнате. Что гам происходило, догадаться было трудно. Да Саша и не пытался делать это. Только раз, сидя с книгой в кабинете отца, смежном с комнатой, где жил Мавлютин, Саша невольно стал свидетелем разговора, происходившего за стеной. Разговор шел на чисто военные темы и никаких подозрений у Саши не пробудил.
Алексей Никитич хмурился, но молчал. Это было вовсе удивительно, так как он всегда терпеть не мог толчею в доме.
Наверху у Парицкой тоже стало шумно. Там поселились американцы: журналист Джекобс, перебравшийся сюда из гостиницы, и полковник Перкинс из железнодорожной комиссии мистера Стивенса.
Перкинс был импозантный мужчина с военной выправкой, высокий, статный, с коротко подстриженными усами. Он родился в семье русского эмигранта, сумевшего какими-то путями пробиться за океаном к богатству, а вслед за тем переменившего русскую фамилию Петров на вполне американизированную — Перкинс. Дуглас Перкинс представлял второе поколение этой семьи и выглядел настоящим англосаксом.
Чарльз Джекобс — собственный корреспондент крупной нью-йоркской газеты — тоже сносно говорил по-русски. Он подчеркивал, что имел уже практику, находясь на театре военных действий во время русско-японской войны 1904-1905 годов.
Долговязый и горбоносый, он чем-то напоминал хищную птицу, был подвижен, даже стремителен, умел заразительно смеяться и, кажется, ни при каких обстоятельствах не терялся и не падал духом.
Почти каждый день к американцам, живущим наверху, приходили лощеный квадратный человек с наглым неприятным взглядом, пышнотелая дама с немецкой овчаркой на поводке и миловидная молодая девушка в коричневой шубке.
Толстяк — Фрэнк Марч — возглавлял представительство Американского Красного Креста. Дама с собакой была его женой, миссис Джулией. Девушку, мисс Хатчисон, они всюду представляли как свою племянницу. Она тоже свободно говорила по-русски и числилась секретарем местного отделения Ассоциации христианской молодежи.
Сашу с молодой американкой познакомила Катя Парицкая, произносившая теперь свое имя на иностранный манер: Китти. Встретились они у ворот, когда Саша с лыжами и лыжными палками под мышкой выходил со двора, чтобы отправиться на прогулку. Стесненный в доме, он теперь целыми днями бродил по зарослям на левом берегу реки.
— О, вы спортсмен! — воскликнула мисс Хатчисон, крепко, по-мужски, тряхнув ему руку и смело глядя на него зеленовато-синими глазами. — Мы будем друзьями, верно? Я люблю ходить на лыжах, но не знаю местности. Вы не станете возражать, если я когда-нибудь составлю вам компанию?
— Гляди, Саша. Я буду ревновать, — смеясь, сказала Катя.
Саша привык к одиночеству и, признаться, не был обрадован перспективой заполучить спутницу, хотя американка понравилась ему отсутствием жеманства. Рядом с Парицкой это достоинство особенно бросалось в глаза.
На другой день, когда он в обычный час спускался к реке, мисс Хатчисон уже поджидала его внизу. Она была в лыжном спортивном костюме и белой вязаной шапочке.
— Не ждали? — спросила она, близко заглядывая ему в глаза.
Идя по лыжне, она тараторила без умолку:
— Странные вы люди, русские. Все почему-то замкнутые. — Мисс Хатчисон свернула на целину и, равномерно взмахивая палками, старалась держаться рядом с Сашей. — Мне хочется понять ваш народ, полюбить вашу страну, — продолжала: она самым сердечным тоном. — Должно быть, летом здесь очень красиво. Амур такой широкий. Можно устать, пока перейдешь на другой берег. Я выросла на Миссисипи. Это великая американская река. Вы слышали о ней, конечно?
— Слыхал, — сказал Саша. — Помню, что в Миссисипи водятся аллигаторы.
— Фу! Противные твари!.. А в Амуре они есть?
— Нет, конечно.
Придерживаясь за кусты тальника, они поднялись на пологий и низкий левый берег. Как раз в этом месте ветер сдул с береговой кромки снег, обнажив желтый речной песок.
— Хо, здесь пляж? — удивилась мисс Хатчисон, снимая рукавичку и нагибаясь, чтобы зачерпнуть горсть песка.
Холодный песок быстро просеивался у нее между пальцев. Она снова зачерпнула горсточку, просеяла часть, остальное кинула на снег.
— Брр! Я, кажется, отморозила пальцы. — Она подула себе на руки, лукаво глянула поверх сложенных ладошек на Сашу. — Если бы вы были по-настоящему любезный кавалер, вы согрели бы мне руки.
— А вы потрите их снегом, — с наивной простотой посоветовал Саша.
Мисс Хатчисон не торопясь натянула рукавичку. Вдруг она громко расхохоталась.
— Представьте, что я придумала! Если сюда тайком привезти пару американских аллигаторов и пустить в реку? В Амуре они быстро размножатся и будут выползать на отмели греть свои кости на солнце. Это здорово оживит пейзаж.
— Не думаю, чтоб из этого что-нибудь получилось, — скептически заметил Саша. — Ваши аллигаторы подохнут в первую же осень от холода, если их до этого не перебьют палками наши мальчишки. Что ж, пойдем дальше, — предложил он.
Мисс Хатчисон продолжительное время держалась недалеко от него, идя по лыжне. Но затем у нее что-то случилось с лыжным креплением.
— Хелло! Не так быстро, мистер Левченко, — крикнула она.
Саша сообразил, что поступает не очень-то вежливо. Остановившись, он принялся ломать и стаскивать в кучу сухой хворост.
Когда мисс Хатчисон добралась сюда, на берегу проточки пылал жаркий костер.
— Можете греться, — галантно предложил Саша.
Искры шипя падали в снег. Поверх зарослей тальника, будто газовый шлейф, протянулась струйка голубоватого дыма.
— Милый мой мальчик! Если в другой раз вам вздумается бежать, не оставляйте беззащитных девушек в лесу. Джентльмены так не поступают.
Саша, вороша костер, пробурчал что-то невнятное.
— Должно быть, я веду себя несколько легкомысленно? Вы бог знает что можете обо мне подумать, — внимательно посмотрев на Сашу, сказала посерьезневшая мисс Хатчисон. Но тут же расхохоталась. — Если бы не было грехов, то что стал бы делать пастор?
— Занятно! — сказал Саша и тоже рассмеялся.
Они сидели по разные стороны костра, весело и непринужденно болтали о всякой всячине. Мисс Хатчисон держалась покровительственного тона, как старшая, но Саша уже не обращал на это внимания. Все девушки почему-то считают себя более знающими и опытными.
Глядя на разрумянившиеся щеки и веселые плутоватые глаза мисс Хатчисон, Саша спрашивал себя, что же побудило эту симпатичную девушку отправиться в чужую страну? Нужда? Любопытство? Поиски приключений или расчет? Она, видно, была не из тех, кто легко поддается чужому влиянию. И за словом в карман не полезет. Чего же она ищет? Какие тайные мысли спрятаны под белой шапочкой?..
— Красивое выбрано место для города. Но эти жалкие домишки портят вид, — говорила тем временем мисс Хатчисон, обернувшись к виднеющимся вдали городским строениям. — Через двадцать-тридцать лет все изменится. Вот тут, — показала она, — будет завод Форда. Там — лесохимический завод Дюпон-Немюр. Рядом с этим собором — двадцатиэтажный банк Диллон Рид. Кино, дансинги... Представляете?
— Нет. Я вижу город другим, — сказал Саша. Нарисованная ею картина показалась ему чужой и неприятной. Было досадно, что кто-то собирается тут все переиначить по-своему.
Обратно шли по старой лыжне, почти не разговаривая.
Взобравшись у парка на гору, Саша долго стоял и глядел на дома, в окнах которых зажигались первые огоньки. На город спускался зимний вечер. Небо было синим над годовой, а ниже зеленело, и у самой кромки, над амурской поймой, протянулась неширокая бледно-оранжевая полоса.
Со снежной равнины тянуло холодом.
Дома у Мавлютина опять бубнили чьи-то голоса.
В кабинете Алексея Никитича сидели американцы и Бурмин. Джекобс, распахнув шкаф, бесцеремонно рылся в книгах. Перкинс восседал на изогнутой ручке хозяйского кресла и, болтая ногой, мягким, убеждающим тоном говорил о реорганизации лесного дела на Дальнем Востоке,
— Конъюнктура лесного рынка сейчас складывается исключительно благоприятно, — говорил он сидящему напротив него лесозаводчику. — Представьте, что весь северо-восток Франции, Фландрия — все эти многочисленные городки и поселки — теперь сплошные развалины. Все, что строилось там веками, сметено начисто артиллерийским ураганом. Но люди не могут жить без крыши над головой, мистер Бурмин. Европа после заключения мира будет способна поглотить миллионы стандартов леса. Деловые люди, мы с вами, обязаны это предвидеть. Война создала небывалый, колоссальный спрос.
— Спрос-то спрос, да нужен и запрос. Кто платить будет? Европа? Так у нее, извините, все штанишки в прорехах, — заметил более пессимистически настроенный Бурмин.
— О, все будет олл-райт! — сказал Джекобс, высовывая нос из-за дверцы книжного шкафа. — Америка даст Европе заем. Сделает рекламу: «Каждая семья солдата должна иметь свой дом!», «Вместо разбитых камней Европы — стройте удобные деревянные коттеджи из дешевого сибирского леса!» Это хороший бизнес. Потом Европа будет платить.
— Если прибыль окажется высокой, капиталы в Штатах найдутся, — подтвердил Перкинс. — В Сибири невероятное количество леса. Прекрасный лес. Его надо двинуть на лучшие рынки мира. Мы, американцы, займемся этим.
— Ну, лес на корню — еще не товар. Падает и гниет без всякой пользы. Пожары сколько леса губят, ужас просто. А попробуйте вытащить бревно из тайги к дороге, так оно влетит в копеечку. Знаете, во что обходятся здесь рабочие руки?
— Если ваши рабочие не согласятся работать дешево, мы их заменим китайскими кули. Эти уж не будут спорить. — Перкинс выудил из пачки две сигареты и жестом предложил Бурмину курить. — В лесном деле нужен размах. Мы построим дороги. Привезем американские паровозы, деррики. Придется почистить и оградить бонами сплавные реки. Но вложения капитала быстро окупятся, я могу это подтвердить точными расчетами, — продолжал Перкинс, пуская колечками дым и рассекая их потом решительным взмахом руки. — У нас имеется соглашение с правительством России, передающее американцам контроль над портом Владивосток.
Бурмин высоко поднял левую бровь.
— Соглашение с большевиками?
— Нет, что вы! С правительством мистера Керенского... Полковник Стивенс будет наводить в порту порядок.
— О, мистер Стивенс! Он стоит миллион долларов! — воскликнул Джекобс, усаживаясь с книгой на угол письменного стола. — Мистер Стивене имеет проект реорганизации железнодорожной системы Сибири и Урала. Президент Вильсон сказал ему: «О'кей!» Мистер Морган и мистер Гувер дают кредит. Это настоящая солидная фирма. Больше, чем Панамский канал, который тоже построил мистер Стивене.
— А конкуренция лесовывозящих стран: Норвегии, Швеции? У них старые прочные связи на европейских рынках, знание клиентуры, опыт. Географическая близость, наконец, — не сдавался Бурмин.
Перкинс презрительно фыркнул.
— Вы же знаете, что, если дается заем, нетрудно оговорить и условия его использования. Почему наши доллары должны уплывать в карманы шведских промышленников, когда они могут целехонькими вернуться домой в Штаты, прихватив еще хорошие проценты? В Америке скопилось чертовски много денег, мистер Бурмин. Америка теперь — мировой банкир,
— Да, мистер Бурмин, это факт, который следует признать, — сказал Джекобс.
Саша, молча наблюдавший за тем, как американцы вдвоем дружно наседали на лесозаводчика Бурмина, с треском захлопнул книгу. Ну и денек выдался!
В прихожей послышались шаги Алексея Никитича.
— Всеволод Арсеньевич, есть новости! Идите сюда, — сказал Левченко, постучав к Мавлютину. — Ну, господа! Кажется, это начало конца... В Иркутске — бои с совдеповцами, офицерские части пустили в ход артиллерию. В Харбине китайские войска разоружают ополченские дружины. Консульский корпус предложил им разогнать Совет. Во всей полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги восстанавливается власть главноначальствующего генерала Хорвата.
Он бросил на стол пачку телеграмм.
— Что ж, этого следовало ожидать, — сказал Мавлютин. Прочитал еще раз телеграммы и ушел, еще более озабоченный, чем обычно.
Американцы о чем-то быстро переговорили между собой и тоже ушли.
Бурмин бегал по кабинету, довольно потирая руки.
— Знаешь, Алексей Никитич, я, пожалуй, промахнулся, продав лес на дрова. Можно было выручить валюту. Поторопился, черт возьми! — говорил он, потирая ладонью широкую лысину. — Тут из-за нашего сибирского кедрача державы скоро друг другу в волосы вцепятся, ей-богу. При такой ситуации не заработать — дураком быть.
— А ты не очень верь их посулам, — сказал Левченко, бывший с Бурминым на короткой ноге. — Мягко стелют, жестко будет спать.
— Боюсь, Алексей Никитич. И соблазнительно, а боюсь... Меня японец все обхаживает, от фирмы Судзуки, — признался лесозаводчик. — Черт его знает! Лесу, конечно, не жалко — пусть давятся. На наш век добра хватит. Они все пути на лесной рынок обрежут да низкими ценами нас и удушат. Очень просто. А с другой стороны, помимо них, видно, и дороги не будет. Вот и крутись, — он почесал у себя за ухом и с растерянным видом уставился на Алексея Никитича. Потом вдруг заторопился: — Ну, прощай пока!
Левченко молча постоял возле темного окна, глядя на узоры, разрисованные на стеклах морозом.
— Александр, хочешь поехать со мной на прииск? — вдруг обернувшись, спросил он.
Была в его голосе неожиданная и непривычная теплота.
Саша помедлил, обдумывая ответ и желая подольше сохранить приятное ощущение близости с отцом.
— Разумеется, я поеду, отец. С удовольствием. Но мне кажется, что твои надежды не совсем обоснованы, — сказал он. — Что-то меняется в нашей жизни, отец. Что-то сломилось, и я не знаю, стоит ли цепляться за старое? Где правда? Где настоящая твердая почва? Я думаю, отец. Все время думаю...
Алексей Никитич опустил голову.
— Я тоже думаю, сынок, — тихо сказал он, садясь в кресло и жестом приглашая сына занять место напротив. — Тебе сколько теперь? Девятнадцать. В таком возрасте и я мечтал, загорался, искал. С годами приходят опыт и сознание, что жить лучше спокойно, раз заведенным порядком. Начинаешь предпочитать синицу журавлю в небе.
— А не есть ли это самообман, отец? Красивая иллюзия жизни?..
— Не думаю. Нет, — решительно сказал Алексей Никитич, тоже взволнованный этим неожиданным поворотом их беседы. — Именно в разном восприятии действительности лежит водораздел между старшим и младшим поколениями. Извечная проблема отцов и детей...
Саша упрямо покачал головой:
— Нет, что-то тут не так, отец. Во всяком случае, дело не в возрастных особенностях. Ты ошибаешься.
— Что ж, вернемся к разговору... лет через двадцать, — грустно усмехаясь, предложил Алексей Никитич. Подавшись вперед, он положил свою тяжелую жилистую руку Саше на колено. — Чтобы не было между нами недомолвок, раз уж зашел такой разговор, я тебе, Александр, скажу: не личное тщеславие, нет, и не материальное соображения даже побуждают меня делать то, что я в душе не всегда... слышишь, не всегда разделяю. Обстоятельства таковы, что надо делать выбор. Я выбрал, — он сильно сжал пальцами Сашино колено и сказал просительным тоном: — Хочу, чтобы мы, избави боже, не оказались на разных сторонах баррикады!
Саша вздохнул и осторожно погладил своей трепетной горячей рукой жесткую и холодную руку отца.
— Знаешь, я наслушался тут недавно такого, что почувствовал себя... нет, понял, что они всех нас считают зулусами или готтентотами.
Алексей Никитич нахмурился оттого, что сын обошел стороной прямо поставленный вопрос о его позиции в разгорающейся политической борьбе.
— По меньшей мере странно спасать Россию, привлекая чужестранцев. Ты не находишь этого, отец?
Алексей Никитич чуть помедлил.
— Разумеется, я не закрываю глаза на корыстные побуждения, которыми могут руководствоваться отдельные представители союзных держав, нет, — сказал он, тщательно подбирая слова и с досадой ловя себя на том, что он слово в слово повторяет чьи-то чужие доводы. — Из двух зол приходится выбирать меньшее. Мы находимся в условиях, когда необходимо кое-чем сознательно поступиться. Так, за красивые глаза, нам помогать не будут. — Он взглянул на часы и решительно прервал разговор. — Пора спать. К поездке будь готов... дней через пять.
Алексей Никитич ушел. Было слышно, как он отдавал Соне, еще с вечера закрывшейся в своей комнате, распоряжения на завтра.
Постепенно все в доме стихло, кроме приглушенных голосов за стеной у Мавлютина. Кто-то тихо, будто крадучись, ходил в прихожей. Скрипели ворота.
Саша, взволнованный разговором, накинул пальто, вышел во двор. Спать ему не хотелось.
Ночь была лунная и тихая. Город спал. Где-то далеко пропел петух. Тотчас и у них в сарае захлопали крылья, и горластый леггорн звонко выкрикнул свое «ку-ка-ре-ку», переполошив соседние курятники. И пошла из конца в конец петушиная перекличка.
Во дворе стояла чья-то пароконная упряжка с отпущенным у коренной чересседельником. Лошади, покрытые попонами, мирно жевали сено, брошенное им под ноги.
Хлопнула дверь. Затопали на крыльце.
— Счастливого пути. Да не задерживайтесь долго, — сказал Мавлютин, напутствуя отъезжающих.
— Будем к сроку, не беспокойся, — ответил Кауров, которого Саша тоже узнал по голосу.
Скрипнула дверь, Мавлютин вернулся в дом.
— Как думаешь, Варсонофий, к утру поспеем? — спрашивал своего спутника Кауров, идя с ним через двор к лошадям.
— Да будто должны поспеть, — поглядев на звезды, отвечал тот. Когда он поднял голову, Саша угадал Варсонофия Тебенькова, переодевшегося почему-то в гражданское пальто.
— Куда вы собрались на ночь глядя? — спросил он, выдвигаясь из тени на светлое место.
— Фу, черт! Это ты, Саша? — спросил Тебеньков, подойдя ближе, видно недовольный тем, что их видели в этот час. — Да думаем проехаться за город, — неопределенно ответил он. — Будь любезен, открой ворота.
Сняв с лошадей попоны, он свернул их и спрятал в сани.
Кауров подтянул чересседельник, сунул два пальца под хомут — не туго ли.
— Тронули, — сказал он, садясь в сани и не обращая внимания на Сашу, будто его тут и не было. — Погоняй живей! Припозднились мы с тобой, Варсонофий.
Два тулупа, брошенные в сани поверх сена, указывали, что Тебеньков и Кауров собрались не в ближний путь.
— Ну, счастливо оставаться, Саша! — крикнул Тебеньков, выезжая со двора и сразу пуская застоявшихся, продрогших коней шибкой рысью.
«Куда это они все-таки?» — подумал Саша, возвращаясь в дом.
Еще один человек проводил внимательным взглядом умчавшуюся упряжку — Демьянов. В этот час он возвращался из Арсенальской слободки, куда ходил за сменой белья. Завтра суббота, и Демьян Иванович собирался и баню. Хотя по работе ему теперь приходилось быть больше в городе, вещи свои со старой квартиры он не забирал. Одинокая старушка, в лачуге которой он занимал лучшую половину, как мать, заботилась о нем: штопала и чинила одежду, стирала и гладила бельишко. Провожая квартиранта по гудку в Арсенал, она не забывала сунуть ему в руки узелок с завтраком.
В последние недели Бюро большевиков много усилий прилагало к тому, чтобы сформировать на предприятиях отряды Красной гвардии и организовать военное обучение рабочих. Демьянова нагрузили так основательно, что пришлось оставить работу в Арсенале. Демьян Иванович свое кузнечное дело любил, знал его досконально и уход от парового молота считал явлением временным.
Пропустив подводу, Демьянов узнал лошадей. Днем он видел эту упряжку во дворе Интендантского управления. Кузнец из комендантской команды наскоро хотел приколотить полуоторванную переднюю подковку у пристяжной и чуть было не загнал ухналь в живое тело. Демьянов с детства испытывал слабость ко всему, что касалось лошадей. Он обругал незадачливого кузнеца и помог ему как следует справиться с делом. От кузнеца он узнал, что упряжка находится в распоряжении хорунжего Тебенькова.
«Значит, это он и покатил. Так, так. Интересно», — подумал Демьянов.
В ночной тишине снег громко поскрипывал под ногами. Нигде ни огонька. Демьянов представил себе, как в домах, мимо которых он торопливо шагал, разметавшись в кроватках, спят дети, как стерегут их покой прикорнувшие после дневных хлопот чуткие и во сне матери, и вдруг так живо ощутил свою личную ответственность за жизнь и счастье этих незнакомых ему людей, таким проникся теплым чувством к ним, что даже навернулась ему на глаза непрошеная слеза. А может, виною тому был покрепчавший мороз.
...В штабе Красной гвардии возле раскрытой дверцы топившейся железной печки сидели и тихо разговаривали Чагров, Савчук и Захаров. Еще человек семь красногвардейцев располагались на скамьях.
— Почему без света? — спросил Демьянов.
— Да керосин кончился. Тут где-то огарок свечи был, найти, что ли?
Демьянов тоже подсел к печке и с удовольствием протянул руки к огню.
— Круто забирает нынче зима.
— В декабре на стужу чего пенять. Ты вот на что погляди. Как тебе понравится? — Савчук взял у Чагрова шапку и протянул ее Демьянову. — Видишь, дырка. Это нынче вечером пробили. А шапка-то на голове была, понимаешь?
— Еще бы на полвершка ниже — и прямо в висок. Была бы мне, Демьян Иванович, путевка на тот свет, — невесело усмехаясь, сказал Чагров.
— Что? В тебя стреляли, Мирон? — Демьянов живо обернулся к Чагрову. — Кто это мог?
— Вот уж не знаю, — развел тот руками. Рдеющие угли отбрасывали красноватые блики, и Демьянову на миг показалось, что у Мирона Сергеевича лицо в крови. — Мне, брат, тогда не до выяснений было, — продолжал Чагров. — Я, как перышко, через забор да по двору запетлял. Квартал пролетел, будто на императорский приз бежал. У него, видно, терпежу не хватило дождаться, пока я ближе подойду. Темно, ну и промазал. Вдогонку еще раза два тюкнул, сукин сын. Кабы луна допрежь того взошла, он аккурат бы меня положил.
— Так вот как с нашим братом поступают. Стреляют из-за угла, — негодуя сказал Демьянов.
Савчук взял шапку, повертел в руках.
— Из нагана били. Офицерских рук дело, факт, — определил он. — Я бы эту сволочь поганую на месте порешил. До чего дошли, а?
— Это — цветочки, ягодки-то еще впереди, — сказал Захаров.
— Они так, по одному, сколько людей перебить могут.
— Ну, уж если мы начнем этаким же манером, еще неизвестно, кому хуже придется.
Яков Андреевич сходил за кочергой, помешал в печке, забросил обратно выпавшие на пол угли.
— Сдается мне, товарищи, не обойтись без пролития крови. Так, за здорово живешь, капиталисты от своих правов не отступят, — сказал он, задумчиво глядя на огонь. — Собственность, кто к ней привержен, это ведь страшное дело. Мало ли прежде из-за добра-наживы друг другу глотки резали.
— И черта в ней, в этой собственности, будь она проклята!
— Погоди, парень. Заведешь, к примеру, свой курятник — узнаешь.
— Ну, из-за курицы я другого человека за горло брать не стану.
— Ты не станешь, так тебя возьмут.
— А что, деньги-то останутся? — спросил лежавший на скамье красногвардеец. — Романовские, конечно, побоку. Керенки тоже. Значит, новые рубли чеканить надо, а?..
— Надо — так напечатают, — сказал Захаров, — Хоть бы на старости лет пожить хорошо.
— Поживем, — убежденно и тихо сказал Чагров. — Я в коммунизм каждой кровинкой верю, он мне как свет впереди. По-старому жить больше не могу, не буду. Пуля, которую в меня сегодня пустили, надо полагать, не последняя. А я все равно пойду! Хоть тысячу смертей впереди ставь, пойду!
Савчук шагал по комнате; по стене взад-вперед металась его большая тень.
Демьянов, отогревшись, позвал Савчука в другую комнату и рассказал о встреченной подводе.
— Ты кого-нибудь узнал? — хмуро спросил Иван Павлович.
— Хорунжий Тебеньков был. Да с ним еще кто-то, двое их было в санях, — сказал Демьянов.
— Тогда я догадываюсь, кто второй, — заметил Савчук после минутного раздумья. — Тут сотник появился — некто Кауров. А поехали они, надо думать, в станицу Чернинскую. У хорунжего папаша там в атаманах ходит.
— За подмогой к казакам, что ли?
— Да уж не просто на пельмени, будь покоен. Мы теперь вроде как кочета перед боем, — с усмешкой продолжал Савчук. — Стоим друг перед дружкой, а кто первый кинется, неизвестно... Казаки вполне могут неприятность учинить.
Демьянов подтверждающе мотнул головой.
— Знаешь, был у меня такой случай. Я на Амурской дороге тогда работал, на прокладке туннеля. В Облучье. Работа каторжная. Нам, кузнецам, тоже доставалось. Держали нас почти на казарменном положении. Строгости, полицейский надзор. А под носом у жандармов — большевики. Вот я с ними и вступил в контакт. Или они меня первые нашли, теперь трудно разобраться. Так или иначе, а узнал я настоящую правду. И мои кузнецы тоже. Мне поручено было агитировать помаленьку против царя, против войны. Я и казакам из охраны листовки подсовывал. Сходило до поры до времени, — усмехнулся Демьянов своим воспоминаниям.
— До поры до времени, — продолжал он, ловко свернув пальцами цигарку и прикурив от зажигалки. — Но вот нагрянули жандармы. И прямо ко мне. Должно быть, кто-то подсказал. Или я вообще был у них на примете. Нашли листовку. Уж обрадовались, будто по красненькой каждому дали. Фельдфебель норовил мне в зубы, но я так на него глянул, что он отступил. Загребли, конечно, раба божьего и погнали за пятьдесят верст в Пашковское станичное правление, к атаману — на суд и расправу.
Жара. Руки у меня связаны. Пот глаза заливает. День, как нарочно, душный. Парит, и хоть бы тебе дуновение ветерка. Как в котле. Комары надо мной тучей вьются, никакого спасения.
Конвоировали меня два казака — стариканы. Службисты, хоть картину с них пиши. Глаз с меня не спускали. Должно быть, жандарм аттестацию мне такую дал. «Побежишь, говорят, голова долой, без всяких шуток».
А мне зачем бежать? Куда? Я до этого почти всю Россию изъездил, нагляделся на людское горе.
Э, думаю, семь бед — один ответ! И пошел рассказывать казачкам про царскую власть, про войну и разные другие несправедливости. Говорю и думаю: «Ну, как врежет который плетью». Однако ничего. Только они дистанцию сократили, кони-то, слышу, над самым ухом у меня фыркают.
Так и пригнали меня в станицу, не проронив ни слова. Станичный атаман на меня кочетом. Стучит ногами, кулаками, сучит — на испуг брал. Допытывался, откуда листовка. «Подобрал, говорю, на путях, на курево. Не читал даже. С поезда, должно быть, бросил кто». Сказал — и уперся на этом, как он вокруг меня ни ходил. А казаки, заметь, молчат...
— К чему ты мне эту древнюю историю рассказываешь? — Савчук нетерпеливо забарабанил пальцами по столу.
— А к тому, Иван Павлович, уважаемый герой войны и командир Красной гвардии, что у казака уши тоже открыты. Все дело в том, что ему в эти уши напевать будут. Казак казаку рознь. А служба царская многим из них тоже боком выходит... Как думаешь, если нам собрать станичников, которые в городе на работу поустроились? Да кое-кому посоветовать съездить в рождественский праздник домой? Пусть казакам правду расскажут.
— Эге, дело! — оживившись, воскликнул Савчук.
И они тут же принялись составлять список знакомых казаков, из-за нужды подавшихся в город.
К утру мороз покрепчал. Луна из-за сопок переместилась на ту часть неба, что простерлась над широкой поймой Амура, над укрытыми снегом островами, протоками, старицами. Прибрежные заросли черемушника отбрасывали на дорогу причудливые узорчатые тени.
Дорога вилась по льду вдоль реки, обходя опасные быстрины.
Кауров, кутаясь в тулуп, глядел на убегающую назад дорогу, на темные клочки сена, раструшенного по ней.
— Нам бы в Корсакове теперь быть. Зря задержались. Зря, — сказал он, думая о том, сколько времени отнимет поездка и успеют ли они к сроку обратно.
— Ничего. В самый раз к чаю поспеем, — Варсонофий поглядел на бледнеющие уже звезды, пошевелил вожжами. — Завтра обедать будем у наших, дома. Не ждут...
В голосе у него прозвучали мечтательные нотки, не понравившиеся Каурову.
— Как казаков поднимать? Ты думал, Варсонофий? — спросил он, когда они в молчании проехали с добрую версту.
— А черт их знает! — Варсонофий повернулся в санях. — Думаешь, кому охота голову подставлять? На немца сперва, гляди, как шибко шли, а вот поостыли ведь. Нынче о мире только и толкуют.
— На немца? — Кауров подумал, сказал усмехаясь: — Пожалуй, это мысль. Ну, погоняй, Варсонофий. Погоняй.
Когда притомившиеся кони перешли на шаг, Тебеньков выпрыгнул из саней поразмять ноги.
— Мороз, черт его подери! Вот за хребтом выскочим на Уссури, он нам щеки пощиплет. Там с маньчжурской стороны всегда ветерок тянет. На, Степан Ермилович, держи вожжи.
— Да, пожалуй, и я пройдусь, — сказал Кауров, спуская ноги с саней и целясь половчее спрыгнуть.
Они шли рядом за санями, путаясь в полах длинных тяжелых тулупов.
— Иной раз едешь мимо фанзешки, а на тебя ханшином пахнет. С морозу выпить кто откажется? У купцов там чего только нет. Торговый народишко, — рассказывал Варсонофий. — Ну, случается, наши кто-нибудь втихаря пошарят. Да теперь многие зазорным это считают. Народ у нас все-таки чудной, ей-богу! Есть казаки — живут с китайцами душа в душу, соболевать вместе ходят, лопочут по-ихнему. У крестьян так и вовсе...
Кауров заинтересовался тем, как казаки-уссурийцы участвуют в пограничной службе.
— Проедет когда дозор для блезиру. А вообще стеречь границу чего? Не украдут, — рассмеялся Тебеньков. — Корчемная стража спиртоносов ловит, верно. Только попадаются больше дураки. Человек с умом на границе какие хошь дела обделает шито-крыто... Пробежим немного, а? — предложил он и крикнул на лошадей: — Н-но, пошли, родные!
Лошади потрусили рысцой. Варсонофий, подобрав полы тулупа, легко бежал в трех шагах за санями. Кауров начал отставать.
— Хватит. Придержи, Варсонофий, — взмолился он наконец, чувствуя, что дольше ему не выдержать такого темпа.
Тебеньков наддал шагу, чтобы ухватиться за вожжи. Но в этот миг лошади вдруг всхрапнули и понесли.
— Тпру! Тпру! — Варсонофий, нацелившись прыгнуть в сани, едва не сунулся носом в снег. Сбросив тулуп, он ринулся за убегающими санями.
Срезав угол на повороте дороги, он все-таки сумел повалиться в сани, больно ударившие его отводом на раскате. В лицо из-под копыт летели комья снега.
Натянув вожжи, Тебеньков сдержал бешеный бег коней, развернувшись, поехал навстречу далеко отставшему Каурову.
— Однако пробежка получилась знатная. Хоть рубаху отжимай, — досадуя и смеясь в то же время, сказал Варсонофий, когда запыхавшийся Кауров уселся позади него в санях на тулупе.
— Чего они шарахнулись?
— Не заметил. Должно быть, зверушка какая прыгнула. Ты, Степан Ермилович, тулуп надень, не гляди, что жарко. В таком виде быстро прохватит.
Варсонофий стегнул лошадей.
— Вот батя у меня однажды таким же манером отстал. Ну, наделал переполоху, — продолжал рассказывать он. — Кони примчались аж седые, в мыле. В санях банчки со спиртом гремят. Батя на ту сторону за товаром ездил.
Мать сразу в голос: убили!
Человек пятеро казаков коней заседлали, побегли дорогой — смотреть. Только в первую балку спустились, верстах в пяти от станции, — и такая перед ними картина: сидят в затишке под мосточком двое. Назвались рабочими с прииска. Сидят и к банчку по очереди прикладываются. Снегом закусывают.
«Вы чего, спрашивают, расселись?»
«Да вот, говорят, послал бог банчок спирту. Пробуем. Если закуска имеется, милости просим к нам в компанию».
«А, вас-то нам и надо, голубчиков! Сказывайте, куда девали тело убитого!»
«Да что вы, ребята, ошалели?»
«Молчать!»
Всыпали им малость сгоряча. Пригнали в станичное правление.
Отпираются.
«Банчок, говорят, верно, на дороге нашли. А человека — не видели. Хоть крест целовать».
Мытарили их, мытарили, — стоят на своем. Бить больше постеснялись. Заперли в холодную.
Как все разошлись, тут батя мой и нагрянул. Да прямо заявился в станичное правление. Он, как кони от него ушли, тропой ближней через пасеку подался. Заодно в омшаник заглянул. Кони, кроме дома, куда пойдут? Беспокойства на этот счет у него не было. А тут пакет ждали из округа.
Приходит он, значит, в правление. Никого. Только слышит за стеною гомон. Это те двое в холодной между собой переговариваются. Никак понять не могут, за что их посадили. Да и мороз, видно, донимать начал. Холодная при станичном правлении зимой не отапливалась. Соответствовала, значит, названию.
Батя отпер дверь, спрашивает:
«За какую-такую провинность, господа мазурики?»
«А ты, говорят, кто будешь?»
«Я, — отвечает он, — станичный атаман. И прошу не тыкать».
«Виноваты, говорят. Только войдите и вы, пожалуйста, в наше положение. Это же чистое самоуправство. Без всякой вины».
Обсказывают ему, как и что.
«Понятия, говорят, не имеем, кто и кого тут убил. Слыхом не слыхали. Совсем зря пристегнули нас к этому делу. А может, и убитого нет?»
«Как нет?! — батя аж вскипел. — Вы что на казаков поклеп возводите? Есть убитый, раз вас в холодную посадили. Признавайтесь, сукины сыны!»
Дело под вечер. Мать уж и слезы все повыплакала.
«Беги, просит, в правление, может, след какой объявился».
Открываю я дверь. Да так и прирос к полу, ей-богу! — Варсонофий коротко хохотнул. — Батя следствие наводит о самом себе. Ну, умора!.. Крестит нагайкой парня по плечам. Ногами топает. Кричит:
«Признавайся, кого убил? Засеку-у!»
Как все дело объяснилось, парни те с обидой к нему. Помню, у одного губа прыгала, совладать с собою не мог.
«За что били, господин атаман?»
А батя — человек карахтерный. Глазом не моргнул.
«Это вам впредь наука. Не шляйтесь, где не положено. Кроме того, с вас причитается за банчок спирта».
Они, конечно, артачиться. И пить не пили, только пригубили. И денег у них нет...
Но батя своим разве поступится?
«У меня, говорит, на берегу плавник лежит. С прошлого лета. Недели за две порежете на дрова — и с богом».
— Ну и что, порезали? — спросил Кауров. — Видать, колоритная фигура ваш старик.
— А куда же им деться? Две недели мантулили за одни харчи, — с усмешкой ответил Тебеньков, приподнялся и стал всматриваться в дорогу. — Если в Хоперский заезжать, тут как раз сверток.
— Гони прямо. Пошлем нарочного из Корсакова, — решил Кауров, зябко поеживаясь.
Его и в самом деле начал пробирать холод.
Над высоким берегом поднималась светло-серая полоса рассветного неба.
Как и предсказывал Варсонофий, они вкатили во двор корсаковского атамана как раз в то время, когда хозяева садились за стол. Кроме своих, в доме был гость — высокий однорукий казак, оказавшийся жителем поселка Хоперского. Пока хозяин о чем-то шептался с женой, однорукий недоверчивым взглядом рассматривал Каурова.
Сотник, покосившись на его пустой, подвязанный рукав, спросил:
— Фронтовое, а?
Он старался придать своему голосу оттенок сочувствия. Но казак, недавно потерявший руку, остро реагировал на любое упоминание о своем увечье.
— А не все ли равно? Был человек, а теперь — обрубок, — злым голосом ответил он.
Варсонофий с хозяйским сынишкой вышли, чтобы задать корму лошадям.- Когда он вернулся, Кауров, удобно расположившись за столом, громко и без запинки говорил:
— Совдепы вооружают немецких военнопленных. Командуют всем офицеры германского генерального штаба. Они открыто угрожают расправиться с казачеством. Вы представляете, какая может произойти резня.
— Ох, не приведи господи! — Корсаковский атаман, запустив пальцы в редкую бороденку, таращил округлившиеся глаза, переводя их с одного собеседника на другого.
Но вот он прикрыл один глаз, а другим так явственно подмигнул Каурову, что тому стало ясно: атаман ни одному сказанному слову не верит и сам превосходно знает, как в действительности обстоят дела. Однако выдумку Каурова он одобряет и не прочь поддержать его.
— Тут такая кровопролития будет, ужас! Хоть бы еще казаки были дома. А то ведь обороняться кому — нестроевики да бабы с малыми детьми, — продолжал он, пытливо глядя на Каурова и уже догадываясь, к чему тот клонит.
Однорукий казак насмешливо смотрел на них, видимо хорошо понимая все то, что ими не договаривалось. Он молчал. Но в его молчании Кауров не мог не почувствовать самого упорного сопротивления тому, чего он здесь добивался,
— Надо, господа казаки, дружно подняться, как один человек, — говорил он, избегая встречаться взглядом с одноруким. — Разве уссурийцы допустят, чтобы наш заклятый враг... здесь, на казачьей земле...
— Не, нельзя. Оборони бог! — Атаман кивал головой, выражая полное согласие и готовность делать все, что прикажут.
За свою долгую службу он насмотрелся всякого и был достаточно осторожен, чтобы не задавать лишних вопросов и не высказывать вслух своего мнения.
Кауров наконец отважился глянуть в глаза однорукому.
— Я приехал, чтобы помочь вам организоваться против немцев и большевиков.
— Вот спасибо! А то мы пропали бы тут не за понюх табаку, — сказал однорукий таким откровенным насмешливым тоном, что не заметить этого было никак невозможно.
— Вы, собственно, чему смеетесь? — покусывая в досаде губы, спросил Кауров.
— Да, далеко вы забрались, чтобы с немцами бороться. Раз уж так страшно, сигали бы сразу... в Китай. Тут рукой подать...
— Ох, вы еще пожалеете! Горько пожалеете, господа, да поздно будет, — сказал Кауров, понимая, что здесь на испуг никого не возьмешь.
— А чего мне жалеть? Чего я такого хорошего видел в этой жизни, будь она трижды проклята! — раздраженно и резко возразил однорукий. — Да мне все так опостылело, что любую перемену приму. Думаете, сладко казаку, ежели он только своим горбом себя подпирает? Вам-то что — пиши знай приказы: справу давай, конем обзаводись... Детей моих кормить — заботы нету. А я вот... с одной рукой! Изворачивайся теперь.
— Ну, не злобись, Коренев. Не злобись. Кого теперь винить, раз так случилось. Не ты первый, не ты последний, — сказал Тебеньков, думая урезонить разошедшегося казака.
— Молчи! Отсиделся, теперь пищишь. Ерой! — однорукий так глянул на Варсонофия, что тот сразу осекся, не находя больше, что сказать.
— Ты, Антон, все-таки того, легче. Здесь благородные люди сидят, — заметил хозяин, понимая, что пора вмешаться и предотвратить ссору.
Но было уже поздно.
— Благородные? Скажи, пожалуйста! — зло усмехнулся Коренев. — Это значит — на чужой шее через грязь еду, сапожки чистые? Так?
Поднявшись из-за стола, он с грохотом отшвырнул табуретку.
— Вот вы на одну доску поставили немцев и большевиков. На каком таком основании, спрашивается? — сказал он, надвигаясь на Каурова и заставляя того тоже подняться и даже попятиться. — Вам не нравится, что большевики за мир? Так я этого мира еще больше хочу. Вся Россия кричит: долой войну! А вам не терпится еще один фронт устроить. Брата на брата поднять. Нет на это моего согласия и не будет. Что вам немец? Что вам Россия?.. Да я вас насквозь вижу, чем вы дышите. Вы хотите нас обмануть, а мы, выходит, поумнели. И дороги у нас теперь разные. Так что, ваше благородие, лучше нам на них не встречаться. Иначе — вот! — и он поднял свой единственный, крепко сжатый кулак.
Кауров отшатнулся. Он не считал себя человеком робкого десятка. Но было что-то в пылающем взгляде стоящего перед ним человека, что повергло его в трепет.
В эту минуту хозяин решительно втиснулся между ними. Он успокаивающе помотал перед глазами Коренева бороденкой и, мягко напирая на него округлым брюшком, ловко оттеснил его к двери.
— Иди, Антон. Иди. Проспись, — говорил он, делая вид, что все это произошло только по пьяной лавочке.
— Все вы тут — одного поля ягода, — буркнул Коренев, беспрепятственно позволяя надеть себе на голову шапку и накидывая полушубок прямо на плечи. В дверях он обернулся и громко сказал: — Не пойдут казаки против большевиков! Разве каких дураков найдете. Все равно не поможет, — и так хлопнул дверью, что стены закачались.
— Сволочь! Изменник! Таких надо лишать казачьего звания, предать позору, — запоздало кипятился Кауров, обращая теперь свой гнев на корсаковского атамана.
— И разве он один! Такого наслушаешься, избави бог, — атаман спокойно отпарировал наскок. Впрочем, он был доволен. Пусть этот сотник узнает, как ему, атаману, приходится тут изворачиваться. — Вот ведь не поверите. До войны был самый смиренный казак в поселке. Будто подменили его там. Что деется, господи боже мой!
Впечатление от стычки с одноруким было таким, что в станице Казакевичево — самом крупном казачьем поселении вблизи Хабаровска — Кауров решительно отклонил предложение станичного атамана выступить перед казаками с речью.
— Не затевайте широких сборов. Дела должны вершить старики, такова казачья традиция, — посоветовал он атаману, пригласившему их на обед. — Сколько сабель предполагаете выставить?
Атаман мялся, не желая связывать себя твердым обещанием.
Эта уклончивость страшно бесила Каурова. Пока смутно, но он уже начал догадываться, что дело не только в отсутствии должного служебного рвения у станичных и поселковых атаманов.
Огромное вечернее солнце садилось над маньчжурской равниной. В окнах поселка, расположенного на взгорье, плясали отраженные кроваво-красные лучи. Казалось, все дома в Казакевичево охвачены пламенем. Варсонофий подумал даже, уж не пожар ли они оставляют за собой.
— Будто горит, — сказал он, глядя с дороги на поселок.
— А черт с ним, пусть горит! — Кауров даже не повернул головы.
Погруженный в свои думы, он равнодушно глядел на утесы, поросшие дубняком, на гряды ледяных торосов, отмечавших быстрины, где после ледостава долго еще пенилась и бурлила река, не желая поддаваться морозам.
Совсем близко от дороги видны покрытые лесом сопки. Хребет Хехцир обрывался возле реки довольно высокими длинными мысами. В распадках и долинных участках леса преобладали коричневые и красно-бурые тона. Выделялись среди деревьев своей светло-серой корой тополи.
Огибая Хехцир, скованная льдом Уссури терялась на темнеющей впереди равнине. Вдали светились редкие огни поселков.
В первом из них они заночевали.
Утром Кауров с любопытством разглядывал китайское поселение, мимо которого близко пролегала дорога. Невысокая глинобитная стена с двумя воротами. За стеной теснился десяток фанз. Виднелись два-три строения побольше.
— Купеческие лавки, — пояснил Варсонофий. — Не гляди, что с виду неказисты. Товару тут тысяч на двести. Город недалеко, контрабандный товар спросом пользуется. Купцы бойко подторговывают. Да и контрабандисты зарабатывают неплохо. Обоюдный, выходит, интерес.
— Что у них тут — гарнизон? — спросил Кауров.
— Гарнизон? — Варсонофий фыркнул. Как это было принято среди зажиточных уссурийских казаков, о китайцах Тебеньков говорил в пренебрежительном тоне. — Живут два-три солдата. Летом в огороде ковыряются, им казенный харч будто не положу. А может, воруют чины, не знаю.
— Так, говоришь, бойко торгуют, а? И наличность, видать, имеется? — допытывался Кауров, захваченный какими-то своими соображениями.
— Есть, конечно. Тут с нашей стороны всегда кто-нибудь толчется. А товар сюда доставляют на халках по Сунгари. Должно быть, здесь харбинская фирма орудует. Батя сказывал, эти купцы начальника корчемной стражи подкупили. Фуговали товар через границу обозами. Только этот корчемный чин зарвался, сместили его. Взятку дать пожалел. Сунул бы порядочный куш, так небось обошлось. Возможно, что его сами купцы выдали. С другим, глядит, дешевле сторговались. Тут чего только не бывает, — рассказывал Варсонофий со спокойным равнодушием человека, давно привыкшего к таким вещам и не видящего в них ничего зазорного.
На Уссури, как и предсказывал Варсонофий, действительно потянуло ветром. Кауров поглубже нырнул в тулуп. Вскоре дорога свернула в сторону от реки. Как только путники стали удаляться от Уссури, направляясь к станице Чернявской, расположенной в стороне от границы, у линии железной дороги, ветер отстал, затерявшись где-то среди бесчисленных, похожих один на другой перелесков.
Из-под снега торчали стебли вейника, сухой полыни, высокого дудника, рыжие космы прошлогодней травы.
Кто не дивился, видя, как тут буйно прут из земли травы, густеют, поднимаются в рост человека! Ветер гонит по травяному морю зеленые волны. К осени трава блекнет, желтеет. Зимой снег примнет ее, запрячет до весны под холодным белым покровом. Но сойдет снег, подсушит траву солнышко, и по ней огненным валом прокатится весенний пал. Глядишь, из-под пепла или старицы уже проглянула, радуя глаз, свежая зелень. И так из года в год.
Когда за деревьями близко просвистал паровоз и донесся шум поезда, бегущего по мосту, Варсонофий придержал коней, чтобы осмотреть и подправить сбившуюся сбрую.
Через сотню шагов с опушки открылся вид на станицу. За домами горбились четыре фермы железнодорожного моста. В стороне одиноко дымила труба бурминского лесопильного завода.
Варсонофий, привстав в санях, гикнул, свистнул, и кони понеслись вскачь по длинной извилистой улице, выходившей на небольшую площадь перед деревянной церквушкой.
Лошади сами свернули к просторному дому под железной крышей. Перед домом стояло несколько грушевых деревьев, позади тянулся довольно большой сливовый сад. С другой стороны к дому подступали многочисленные хозяйственные постройки — два крепких амбара, просторная конюшня, сарай, свинарник, огромный крытый сеновал. Прямо на улицу торцом выходило длинное бревенчатое строение с окнами — лавка, или магазин, как обычно называл свое торговое заведение сам Тебеньков.
За садом, ближе к реке, виднелась низкая крыша баньки, над нею поднимался голубоватый дымок.
«Вот кстати», — подумал Варсонофий, предпочитавший благоустроенным городским баням обычную деревенскую баньку, топившуюся по-черному, в которой можно было и попариться вволю и остудить себя холодным домашним квасом.
— Наши баню топят. Попаримся, Степан Ермилович! — весело сказал Варсонофий, придерживая лошадей.
Работник, узнав хозяйского сына, раскрывал ворота.
Соскочив с саней, Варсонофий кинул ему вожжи.
— Батя дома? — спросил он, заметив чье-то лицо, мелькнувшее в окне.
— Недавно в станичное правление ушел, — сказал работник, вводя коней во двор.
Варсонофий, молодцевато выпрямившись, зашагал к крыльцу.
— Идем, Степан Ермилович. Я тебя представлю да за батей побегу, — говорил он, чуть повернув назад голову.
Первым, кого увидел Варсонофий в канцелярии станичного атамана, был Василий Приходько. Он сидел сбоку стола на табуретке лицом к двери, положив руки со сцепленными пальцами на колени. Рядом с ним, но уже спиной к вошедшему Варсонофию, сидели еще три рослых человека, загородивших собой Архипа Мартыновича. Был только слышен его хрипловатый, осипший голос:
— Не от меня зависит решение вашей просьбы, господа крестьянские делегаты. Самолично распорядиться я не могу. Земля принадлежит войску. Нарезка производилась согласно высочайшего указа.
— Ну, высочайший, надо полагать, не обидится. Его самого, гляди, как подрезали, — под корень, — со смешком сказал один из делегатов.
Крестьянин-переселенец упорным трудом раскорчевывал себе три-пять десятин земли. Чаще он выбирал безлесную релку, чтобы по возможности обойтись без корчевки. Доходил с плугом до края зарослей и бессильно опускал руки. Целина! Черт ее распашет.
Самые удобные для пахоты земли в пойменной части Амура и Уссури царское правительство отвело казакам. Земли амурского и уссурийского казачьих войск тянулись вдоль границы на тысячи верст. Лишь незначительная часть этих угодий обрабатывалась самими казаками. Некоторое количество земель сдавалось в аренду крестьянам соседних деревень, обычно посаженным чиновниками Переселенческого отдела без особых раздумий о мужицких удобствах, или обрабатывалось исполу арендаторами — китайцами и корейцами. Благодаря такому землеустройству, казачья верхушка извлекала немалые выгоды из своего положения и стойко держалась за казачьи привилегии. Тем острее становился спор из-за земли между казаками и крестьянами.
Так было и в станице Чернинской, рядом с которой находилась крестьянская деревня Зоевка. Между зоевскими крестьянами и чернинскими казаками шел давний спор из-за так называемого «бугра» — громадного массива незатопляемой удобной земли, расположенного буквально возле околицы деревни Зоевки. Бугор, находящийся на другом берегу реки, казаками совершенно не использовался. Собственные же наделы крестьян почти каждый год затопляла река во время летних наводнений. Сеять хлеб на пойменных землях, хотя они давали в удачный год неплохой урожай, было рискованно.
— Нам, Архип Мартынович, без той земли на бугру — жизни нету. Ведь как наводнение — все чисто топит. Сами знаете. Даже в избах вода поверх полу плещется. Чистая беда. А тут на бугру — земля подходящая: от воды высоко и к дому близко. Вам она совсем не с руки, на отшибе за рекой. Пустует земля. Хоть бы для виду кто распахал там клочок. — Приходько, высказывая все эти соображения, думал, что можно убедить Тебенькова и повлиять на решение вопроса в их пользу. Мало ли удобной земли у чернинских казаков и без этого злосчастного бугра, отхваченного при размежевке землемерами от зоевского земельного надела?
Архип Мартынович кивком головы поздоровался с сыном.
— Садись. Зараз я кончу с ними разговор, и пойдем. Не могу, господа делегаты. Не в моей власти, — продолжал он, исподлобья глядя на сидевших перед ним крестьян. — Если хотите, перешлю вашу просьбу в канцелярию войскового атамана. Как там решат, так и будет.
— Э, ворон ворону глаз не выклюет! — Один из делегатов безнадежно махнул рукой.
— Нам земля эта до зарезу нужна, жить без нее нельзя, — упрямо настаивал Приходько. — Надо по всей справедливости... Войдите вы в наше положение.
— А шо тут толковать? Запашемо весной цю землю, та все. Бо воны, як та собака на сене, ни соби ни людям, — резко сказал старший из делегатов.
— То есть так — запашем? Казачью землю? — В голосе Архипа Мартыновича прорвалось давно сдерживаемое раздражение. — Ты, паря, больно прыток. Гляди! За таки штучки по головке не гладят.
— Та мы не малы диты, шоб нас гладить. Як потребуется, то и сдачи дамо. Не злякаемся. — Крестьянин поднялся, а вслед за ним встали и остальные делегаты.
— Архип Мартынович, лучше бы нам полюбовно договориться. По-соседски, — сказал Приходько, упорно ища пути к соглашению.
Тебеньков поглядел на них снизу вверх, — вставать он не стал, подчеркивая этим свое хозяйское положение.
— Закон не позволяет. Закон, — ответил он, решительно отсекая возможность дальнейших переговоров.
— Закон новый — о земле. Ленин писал. Як прикинуть на наше життя, то по всей справедливости бугор треба присоединить до нашего надилу.
— Я большевистских выдумок не признаю! — Архип Мартынович тоже вскочил, брызнул слюной. — Закон! Тьфу!
— А ты не плюй в колодец, пригодится воды напиться. Ишь развоевался. Это тебе не старый прижим. Поостерегся бы, — с мрачной угрозой сказал молчавший до сих пор четвертый делегат, судя по одежде бывший солдат, как и Приходько.
«Ну, теперь пойдет стучать-кричать, удержу не будет», — подумал Варсонофий, хорошо знавший неуемный характер отца.
У Архипа Мартыновича задергалась левая щека, что всегда служило признаком крайнего гнева. Но гром не грянул. Видимо, чернинский атаман уже усвоил ту простую истину, что в новой обстановке старорежимные привычки делу мало помогут.
— Идите, господа крестьянские делегаты. Идите. Ссориться нам ни к чему. Были мы соседями и останемся, — глухим сдавленным голосом выговорил он. — Вот сын из города приехал, тоже словом перемолвиться надо, — извиняющимся тоном добавил он, будто приезд Варсонофия что-то тут объяснял.
Варсонофий вышел на крыльцо вместе с Приходько.
— Устроился, Василий? Как жизнь?
— Тут устроишься...
— Ничего, наладится. Я поговорю с отцом.
Приходько с усмешкой поглядел на Варсонофия.
— Нет, видно, самим ладить надо. Самим, — убежденно повторил он. — Своя-то рубашка к телу ближе.
Он хотел еще что-то сказать, но только махнул рукой и быстро сбежал по ступеням крыльца.
— Видал, как хохлы подняли тут головы? В городе что слышно нового? — спросил Архип Мартынович, запирая станичное правление на большой висячий замок.
Варсонофий знал, что отцу за пятьдесят. Но сейчас, глядя на него, он в который раз поражался тому, как мало влияют на него годы. Невысокий, поджарый с виду, с бритым широким лицом, на котором выдавались обтянутые смуглой кожей скулы, Архип Мартынович походил на строевого казака среднего возраста, втянувшегося в походную жизнь и способного дать сто очков вперед какому-нибудь желторотому казачишке, впервые севшему на собственного строевого коня. Такое впечатление усиливалось благодаря ладно пригнанному на нем форменному казачьему обмундированию и шашке, нацепленной ради того, чтобы придать больше официальности разговору с делегатами соседней деревни.
— Да отдали бы вы им этот бугор. Действительно, он у нас на отшибе. Кто поедет пахать за реку? — сказал Варсонофий, припоминая, что он сам был в том краю один-единственный раз, разыскивая отбившуюся от табуна кобылицу.
Архип Мартынович, придерживая рукой шашку, бойко простучал сапожками по ступеням крыльца.
— Тут принцип прежде всего. Казачьи привилегии надо отстоять, — возразил он, догоняя сына, чтобы идти с ним рядом. — Я им предлагаю землю в аренду брать — не желают. Дай им волю, — сегодня они бугор просят, а завтра, гляди, хохлы на одну доску с казаками станут. Не могу я позволить, понимаешь.
— Тебе, батя, видней. Я не настаиваю.
— А хоть бы и настаивал. Я, паря, всегда по-своему делаю, знать должен. Смени ногу, слышь, — строго заметил он, и Варсонофий тотчас же наладился под его шаг. — Давеча у меня с мужиками спор был из-за расценок на дрова. Тоже надбавки просят. Со всех сторон смотрят, чтоб урвать. А я из какого интересу хлопотать должен? Пятьсот кубов нынче ставлю железной дороге да товариществу Амурского пароходства.
Архип Мартынович одним глазом покосился на сына: произвел ли на него впечатление размах его подрядной деятельности? В последние годы Архип Мартынович быстро шел в гору — построил паровую мельницу, открыл лавку, торговал вином (больше, правда, разведенным контрабандным спиртом), брал подряды на поставку дров и перевозку грузов, во время хода осенней кеты выставлял на Уссури и Чернушке более десятка неводов, держал даже собственного мастера-засольщика, умевшего и икру засолить и копчености приготовить. Подумывал он и о том, чтобы откупить по случаю в городе подходящий участок, построить свой дом с магазином внизу, со складом и хорошим ледником, чтобы можно было в летнее время торговать свежей рыбой, доставленной в садках с Уссури. Широкие были у него планы.
— Пятьсот кубов? Ты, батя, однако, развернулся, — Варсонофий угадал тщеславную мысль отца.
— Не пятьсот, а всего считай — полторы тыщи, — поправил Архип Мартынович. — Полторы тыщи кубов в сезон, вот как мы шагнули. — Ударом сапога он отбросил с дороги мерзлый катыш. — Что, Алексей Никитич много нынче собирается грузов отправлять на Незаметный? Тоже ведь заработок верный.
— Кто его знает. Ему, видно, и хочется и колется. Деньги-то затратить надо нешуточные, — ответил Варсонофий.
— Скажи на милость, развелась эта зараза скрозь. Куда ни кинь — всюду клин. — Архип Мартынович со злобой сплюнул, провел ребром ладони по острому кадыку. — Мне новые порядки — вот так поперек горла встают. Хуже, чем кость! Не знаю, что дал бы, чтобы вернулась старая власть.
— Вернется, батя! Вернется, — с беззаботной легкостью воскликнул Варсонофий. — Уже недолго ждать.
Архип Мартынович, нахмурясь, поглядел на него.
— Ни черта ты не понимаешь, балбес!
Обидевшийся Варсонофий несколько поотстал.
Архип Мартынович, твердо печатая шаг, шел посреди улицы, высоко подняв голову и поглядывая по сторонам зоркими, все подмечающими глазами. Когда ветер завертывал полу его шинели, на солнце сверкал желтый лампас. И Варсонофий опять невольно позавидовал отцовской самоуверенности и хватке.
Кауров, видимо, пришелся по душе Архипу Мартыновичу.
— Ну, слышал. Слышал. Доброе дело затевается, — поощряюще заметил он, отстегивая шашку и вешая ее на вбитый в стену крюк.
Пока хозяйка собирала на стол, Архип Мартынович выспрашивал Каурова о планах намечавшегося в городе переворота.
— Тут, паря, шибко много людей не соберешь, не рассчитывай, — предупредил он, довольно трезво оценивая настроение основной массы казаков. — Нынче каждому своя программа нужна. Такой программы, однако, чтобы и меня и Микишку устроила, — нет и быть не может. — Микишка был сосед Тебеньковых, многосемейный казак, вечно бившийся в нужде. — А раз нет, оно так и пойдет — кто в лес, кто по дрова. Значит, налетом брать надо. Налетел, шашку вон, размахнулся — голова с плеч. Потом уж разобраться, что переложить к себе в переметную суму, а что и вовсе зарыть. Как такая моя программа — подойдет?
Щуря хитроватые глаза, чернинский атаман пристально посмотрел на Каурова.
— Подойдет, подойдет, — сказал тот, впуская на лицо улыбку, как редкую гостью. «Вот старик, едреный корень!» — думал Кауров не без некоторого, впрочем, уважения.
Архип Мартынович не любил откладывать свои решения.
— Ты беги, Егоровна, покличь стариков. Пусть зараз же идут, — сказал он жене и назвал несколько фамилий. — Сама тут не мешай, разговор будет сурьезный. Проследи лучше, чтоб баньку как надо истопили. Им с дороги помыться следует. И мне белье приготовь. Да пусть овса зададут коням. — Сдвинув брови, он подумал немного. — Обе наши упряжки пойдут. Выедем завтра пораньше, на заре. Путь не ближний. — Перехватив тревожный взгляд жены, обращенный на сына, атаман усмехнулся. — Ничего не случится. Я тоже еду.
После бани и позднего обеда Варсонофий ушел к приятелю. Вместе они выпили полбутылки вина и отправились на посиделки. Слушали песни, лузгали семечки. Варсонофий захватил фунта два конфет и угощал девушек. Старинные казачьи песни, которые они пели, растрогали его почти до слез. Вспомнились детство, невинные ребячьи шалости.
Потом Варсонофий довольно долго простоял у соседских ворот с девушкой, которую вызвался проводить домой. Девушке неудобно было отказать ему, но она решительно не знала, как вести себя с офицером и атаманским сынком, односложно отвечала ему да посмеивалась. Еще некоторое время слышались голоса расходившихся с вечеринки парней и девушек. Затем тишина воцарилась в станице.
Варсонофий, неправильно истолковав смех девушки, слишком дал волю рукам. Девушка с силой оттолкнула его и захлопнула перед ним калитку.
— Послушай, я же не хотел тебя обидеть, — сказал обескураженный Варсонофий. — Вернись.
Ему ответили смехом.
Потревоженный разговорами, во дворе густо гавкнул тебеньковский пес, затем залаяли собаки на нижнем конце улицы. Через минуту лай доносился со всех сторон и так же неожиданно стих, как и начался.
Старики, собравшиеся у Архипа Мартыновича, еще сидели в горнице, поклевывая носами. Кауров сбросил китель, остался в брюках да в нижней рубахе. Почесывая волосатую грудь, он без любопытства, со скучающим выражением глядел на казаков.
— Немец — это, конечно, чепуха. Вот голытьбу следует вогнать в рамки, верно, — без обиняков говорил Архип Мартынович. — Нам, справным казакам, такое дело следует поддержать. Законную власть, значит. — Он глянул на вошедшего в комнату Варсонофия, молодцевато выпрямился: — Сына вот посылаю и сам иду, не хоронюсь! Поутру, казаки, с богом в дорогу, — и поднялся, давая знак расходиться.
Утром Варсонофий проснулся от легкого прикосновения чьей-то руки. Его осторожно гладили по голове, как гладят ребенка. Ощущение было волнующе знакомо: еще до того, как открыть глаза, он узнал мать.
Она сидела рядом на табурете и, наклонясь близко к нему, глядела на него тревожным взглядом. Свет из открытой двери падал на ее лицо.
— Ты чего, мать? Будто на войну провожаешь, — сказал он, заметив слезинку на ее щеке.
Она торопливо вытерла глаза кончиком платка, вздохнула.
— Сердце болит, не знаю чего. Тревожно. Ты бы поостерегся, сынок. Не лезь зря куда попало. Слышишь?
— Э, пустое! Страхи, мать, на себя нагоняешь, — беззаботно сказал он, потягиваясь в постели и с удовольствием ощущая свое сильное, здоровое и хорошо отдохнувшее тело. — Батя встал?
— На дворе коней ладит.
— Ну и мне вставать!
Она посмотрела на него еще раз и отошла. «Разве казаков удержишь?»
Варсонофий проводил мать взглядом. В том, как она шла, сгорбив плечи, как обернулась в дверях, большой черной тенью загородив свет, было столько скорбного, что даже у него шевельнулась вдруг мысль: «А не война ли это в самом деле? Черт его знает, как там в городе все обернется!»
Уже взявшись за край одеяла, он медлил, уступая желанию еще понежиться в теплой домашней постели. И столько воспоминаний, связанных с родным домом, запах которого он ощущал, сразу нахлынуло на него, что он даже не услышал, как со двора в горницу вошел отец.
— Варсонофий! — повелительно крикнул Архип Мартынович, пройдясь по скрипевшим половицам.
Варсонофий, будто ему не хватало этого окрика, как понукания лошади, боящейся прыгнуть с берега в холодный бурный поток, разом отбросил одеяло.
Завтракал он молча, слушая, как отец давал матери подробные наставления по хозяйству. Не знал Варсонофий, что больше не придется ему наслаждаться безмятежным покоем в родном доме, что жизнь закрутит, завертит его, как щепку, и выбросит в конце концов на чужой берег.
Прицепив наконец шашку, Архип Мартынович перекрестился на образа.
— Посидим по нашему казацкому обычаю, — предложил он.
В молчании протекла минута.
— Ну, Егоровна, жди! В скорости буду обратно. Товару привезу, должно быть, — бодро сказал Архип Мартынович.
Он не без расчета гнал в город две пароконные упряжки. Его не обескуражило и то, что в экспедицию в Чернинской собралось всего с десяток верховых да несколько подвод. Многие казаки, на которых они рассчитывали, за ночь, видно, передумали и не явились. Двое прислали сказать, что больны — маются животами.
— Лиха беда — начало, — утешающе заметил Архип Мартынович, когда Кауров хмуро пересчитал горстку людей, собравшихся во дворе станичного правления.
Солнце уже поднялось, и ждать дольше не имело смысла.
В других поселках было еще хуже: присоединялось по три-пять человек. Только в Казакевичево в отряде с грехом пополам набралась полусотня.
Кауров разбил отряд на два взвода, назначив взводными офицерами Варсонофия Тебенькова и казакевичевского атамана. Архипа Мартыновича он считал при себе начальником штаба.
Посовещавшись вчетвером, они решили пройти остальной путь в два перехода. Большой привал намечался в поселке Корсакове. Кауров послал туда нарочного с предписанием атаману собрать местных казаков к указанному часу. Туда же навстречу отряду должны были двинуться конники из более близкого к городу поселка Хоперского. Далее отряду предстояло действовать в зависимости от указаний полковника Мавлютина, который вышлет навстречу связных.
Кауров не сомневался, что дела в городе идут по заранее разработанному плану. План предусматривал, что в наступающий вечер командование округа в одном из залов города соберет якобы в целях переучета и подготовки к демобилизации весь офицерский состав. Участники заговора явятся с личным оружием, с гранатами в карманах шинелей. К этому времени со складов Интендантского управления доставят винтовки, пулеметы и патроны к ним. Вооружившись, офицеры двинутся к Хабаровскому Совету и городскому Бюро большевиков; другие — в казармы, чтобы там профильтровать солдат и не допустить выступлений в поддержку Совета; третьи будут производить аресты по квартирам. Предполагалось в первый же час занять главные стратегические пункты — вокзал, банки, казначейство, почту и телеграф. Воинские части намечалось двинуть против рабочих отрядов Красной гвардии с целью их разоружения. К сопротивляющимся беспощадно применять оружие. На казаков Каурова возлагалось патрулирование города и оказание помощи в подавлении очагов сопротивления.
В общих чертах сотник познакомил с боевой задачей и своих помощников. Он особенно напирал на то, что нужно действовать решительно и смело. Тогда успех обеспечен.
— Дай бог! Дай бог, — сказал казакевичевский атаман и беспечно подмигнул Тебенькову. — Заработаем, гляди, еще по кресту, Архип Мартынович. Старый-то конь борозды не портит.
— Бог-то бог, да и сам не будь плох. Надо нам угадать в самую тютельку. Вот задача, — ответил более осмотрительный и хитрый чернинский атаман. — Придем рано, нам же по шапке... Да и запаздывать не годится. Сообразить все следует, чтобы потом локти себе не грызть.
Они как следует закусили, выпили разведенного спирта, предложенного гостеприимным хозяином. Из Казакевичева выехали после полудня в самом отличном настроении.
Но уже в воздухе повеяло чем-то новым. Бывает, что, несмотря на чистое, безоблачное небо, ясно ощущаешь предстоящую перемену погоды. Именно такое ощущение возникло у Варсонофия Тебенькова, когда позади скрылись строения Казакевичева и отряд растянулся по извилистой лесной дороге.
Он не сразу понял, что именно пробудило у него тревогу. Наконец догадался: казаки перестали петь и смеяться. По мере приближения к городу трудности затеянного предприятия все больше вставали перед глазами. Двигаясь по дороге, казаки негромко переговаривались, но сразу замолкали, как только кто-нибудь из офицеров появлялся вблизи. А затем прекратились и эти разговоры.
В угрюмом молчании взводы двигались по верхней лесной дороге. Дорогу эту выбрали для того, чтобы передвижение отряда было скрытым.
Вспугнутая стая ворон кружилась над ними. Варсонофий посматривал на крикливых птиц и еле удерживал себя от желания пустить в стаю пулю из карабина. Затем его внимание привлекли следы на снегу. Через дорогу тянулся глубокий след, оставленный острыми копытцами кабарги. Видно, кабарожья стайка прошла тут не далее часа тому назад. «Вот бы подстрелить», — с азартом охотника подумал Варсонофий.
Обернувшись, чтобы посмотреть, не растянулся ли излишне взвод, Варсонофий заметил за кустарником несколько желтоверхих казачьих папах. «Ишь, ровно подсолнухи в цвету», — подумал он, не сразу сообразив, что казаки-то едут в направлении, противоположном движению отряда, показали затылки. Он поскакал назад, чтобы разобраться, что там происходит.
Группа казаков в самом деле повернула обратно.
— Куда? Что за самовольство? — Варсонофий, обскакав едущих шагом казаков, поставил своего коня поперек дороги.
— Куда? Домой. Не подходит нам эта музыка, — усмехаясь, сказал передний казак, однако натянул повод и остановился.
— Приказываю вернуться в строй! — строго распорядился Тебеньков. — Вы присягу давали, господа казаки.
— Кому? Царю Николаю? — сощурившись, спросил чернявый казак с сабельным шрамом через всю щеку. — Эй, ваше благородие, освободи дорогу.
Он махом пустил своего рослого серого коня, и тот грудью сшиб с дороги поджарого офицерского гнедого.
Вся группа двинулась дальше, увлекая за собой растерявшегося взводного.
— Казаки, подумайте о чести! Вас обманули, казаки, — взывал он.
В отчаянной решимости Варсонофий еще раз выскочил на дорогу.
— Стойте! — Он угрожающе схватился за кобуру нагана.
— Ну, хватит баловаться! — Чернявый батареец сильной рукой сдернул Варсонофия с седла и отобрал у него револьвер. — Пройдешься, ваше благородие, пешком с полверсты, возьмешь коня и эту игрушку. Счастливо оставаться!
Казаки, смеясь и оглядываясь на него, ускакали по дороге, уводя на поводу и лошадь Варсонофия.
Он в бессильной ярости погрозил им вслед кулаком.
Когда последний всадник скрылся за поворотом дороги, Варсонофий, весь красный от стыда и унижения, сутулясь, побрел в том же направлении.
Конь, привязанный к дубку, покосился на него карим глазом и фыркнул. Варсонофий огрел коня плетью, будто тот был в чем-то виноват.
Отряд он догнал уже на привале, в Корсакове.
Кауров, похлестывая по голенищу плетью, бегал взад и вперед по той самой горнице в доме корсаковского атамана, где они с Варсонофием завтракали в первый день поездки.
— Нет, каков мерзавец, а? Прохвост! — гневно восклицал он, каждый раз останавливаясь перед хозяйкой, невозмутимо глядевшей на беснующегося сотника.
— Уехал вчера с сынишкой по дрова и не вернулся. Чего там стряслось, не знаю, — бесстрастно, как заученный урок, повторяла она.
Архип Мартынович озабоченно хмурил брови.
— Скверное дело, парень. Сбежал корсаковский атаман. Этот ведь, не узнавши броду, не сунется в воду. Чего-то они тут прослышали, видать, — шепнул он Варсонофию.
Неясные слухи о неблагоприятном повороте событий роде взбудоражили отряд. В поселке у каждого нашлись знакомые. Некоторые корсаковцы только что вернулись из города, рассказывали о Красной гвардии, о матросских отрядах. Слухи относительно вооружения военнопленных немцев решительно опровергались. Один из лагерей военнопленных был рядом — на Красной Речке.
Казаки ходили из дома в дом, делясь сомнениями и тревогой. Наконец большая часть отряда собралась на плацу и потребовала к себе командира.
— Выходит, насчет немцев вранье, а? — строго спросил подошедшего сотника один из стариков.
— Возможно, что они не решились. Но нам следует предотвратить... — Кауров явно был в затруднительном положении.
Кто-то из молодых крикнул:
— Послать в город делегацию, узнать, как и что! Слыхали небось, что рассказывают жители, которые оттуда вернулись?
— Разъехаться по домам — и все! В городе, надо думать, без нас управятся.
— Верно!
Архип Мартынович выскочил вперед:
— Станичники, разве можно казаку нарушить приказ? Приказано идти в город — надо идти.
— Ну и шел бы себе... пешком. Так ведь две подводы гонишь, трофейщик, — крикнули ему.
Тебенькова, однако, дружно поддержали остальные подводчики.
Охрипнув от споров, решили ночевать на месте, а дальнейшие действия отряда сообразовать с вестями из города. Кауров скрепя сердце согласился. Что ему оставалось делать? В душе он проклинал теперь и Мавлютина, отправившего его в эту малополезную поездку, и Тебенькова вкупе с остальными осторожничающими атаманами.
Утром Кауров едва насчитал десяток человек. Он мрачно поглядел на них и махнул рукой:
— Поезжайте, казаки, по домам. Спасибо за службу!
Поразмыслив, Тебеньков и Кауров решили все же пробираться в город. Архип Мартынович с присущей ему энергией руководил сборами.
— Одежду форменную поскидать. На воз навалим чурбаков, будто ездили по дрова, — распоряжался он, быстро пристроив у кого-то из знакомых лишнюю поклажу и лошадей. — Замах был рублевый, да удар получился хреновый. Обскакали, выходит, нас. Ну, ничего, бывает. Чего-нибудь придумаем еще. Вот Алексею Никитичу будет подарок — воз дров, — говорил он, бодро вышагивая за санями, куда была впряжена та самая пара лошадей, на которой Кауров и Варсонофий выехали со двора Левченко.
Ехали по-прежнему верхней дорогой. В тихом морозном воздухе далеко разносился скрип полозьев. Спутники, погруженные в свои думы, почти не разговаривали.
Архип Мартынович размышлял о том, как он поведет переговоры с Левченко о доставке грузов на прииск. Прикидывая в уме цены на овес и плату возчикам, он соображал, нельзя ли, ссылаясь на обстоятельства, кое-что выторговать в свою пользу. Мозг его постоянно был занят такого рода подсчетами, соображениями, выкладками.
Кауров с досадой думал о своей неудаче и жалел, что не напился до чертиков. А не сделал он этого лишь потому, что его сильно тревожила мысль о судьбе заговора. Что, собственно, там произошло? Отложили выступление? Или большевики добрались до Мавлютина?.. В таком случае и ему, Каурову, надо вовремя скрыться.
Что касается Варсонофия, то мысли его подолгу ни на чем не задерживались. Он глазел по сторонам, пытался воспроизвести понравившийся опереточный мотив; застывшие губы, однако, плохо повиновались ему.
— Чего свистишь? Перестань, — оборвал наконец его упражнения Архип Мартынович.
Справа тянулись поросшие лесом холмы, постепенно повышающиеся, — предгорья Хехцира. Ближние сопки были видны отчетливо, различался даже лес на гребнях, а дальние, более высокие горы заволокло дымкой, и только их контуры слабо прочерчивались на мглистом сером небе.
«Погода будет меняться», — подумал Варсонофий и снова засвистел, пытаясь поймать ускользающий от него мотив.
Дорога вползла на узкую улочку поселка Хоперский, растянувшегося вдоль реки. У ворот третьего от околицы дома стоял однорукий Коренев и с усмешкой глядел на заторопившихся вдруг Каурова и Тебенькова.
— Эй, много войска набрали, Аники-воины? Ха-ха-ха!
Коренев давно так от души не смеялся, как сейчас.
Два съезда готовились в эти дни в Хабаровске: третий краевой съезд Советов Дальнего Востока и съезд представителей земских и городских самоуправлений.
Съезд Советов готовился широко, публично; ему предшествовали многочисленные собрания рабочих и солдат, митинги, сходки в деревнях, пленарные заседания местных Советов — и все они в один голос требовали покончить наконец с буржуазной властью в крае, осуществить на Дальнем Востоке декреты ленинского рабоче-крестьянского правительства, беспощадной рукой подавить контрреволюционеров, всюду поднимающих голову.
Съезд земских и городских деятелей собирался келейно и спешно. Устроители его не хотели даже дождаться приезда делегаций Владивостока, Благовещенска, Николаевска-на-Амуре — важнейших городов края.
В центре внимания обоих съездов стоял вопрос о власти. И если Советы, опираясь на мощную поддержку народных масс, выражая их волю, открыто и уверенно шли к решению судеб края, то организаторы земско-городской авантюры все расчеты строили на том, чтобы поставить население Дальнего Востока перед совершившимся фактом.
Потапов приходил в Совет рано, до того, как нахлынут посетители. Можно было спокойно разобраться в делах и наметить план действий на день. Михаил Юрьевич очень дорожил этими минутами. К тому же утром особенно ясна голова и свежи мысли.
Михаила Юрьевича уже поджидал его секретарь — Алеша Дронов, молодой парень из выпускников железнодорожного училища. Солдатская гимнастерка, туго перехваченная ремнем, синие брюки-галифе, начищенные сапоги — все ловко сидело на нем. Над высоким лбом вилась копна непокорных светлых волос.
Алеша приносил накопившиеся бумаги и пачку утренних газет. Пока Потапов знакомился с почтой, Алеша присаживался возле стола, клал рядом блокнот, карандаш и серыми внимательными глазами следил за выражением лица Михаила Юрьевича, стараясь угадать его отношение к тому или иному делу. Михаил Юрьевич часто советовался с ним, прежде чем что-то решить. Дронов дельно и немногословно излагал свою точку зрения. Для него Потапов был образцом революционера, который не знает сомнений и с первого взгляда может разобраться в самых каверзных и запутанных вопросах. Алеша втайне завидовал Потапову и не подозревал даже, как нелегко приходится тому.
Сложной и трудной была жизнь Потапова в эти дни. Оказавшись в центре событий, до глубины всколыхнувших народные массы, он и его товарищи должны были незамедлительно давать ответ на те разнообразные вопросы, с которыми шли в Совет десятки и сотни людей. Все почему-то считали Михаила Юрьевича человеком знающим, опытным. А он сам впервые брался за такого рода дела и многого не знал, не представлял себе достаточно ясно, как развернутся события, скажем, через месяц-другой. Это «незнание» не освобождало его от обязанности искать в каждом случае такое решение, которое было бы связано с будущим, с перспективой движения вперед. Может, в том и состояла самая трудная часть его работы.
Каждый день приносил неожиданности: обнаруживалось вдруг, что в городе иссякают и без того скудные запасы муки, не было топлива, скарлатина косила детишек. Продовольственная управа, обязанная заботиться о снабжении города продуктами, палец о палец не ударила, чтобы доставить в Хабаровск уже погруженный в вагоны хлеб из Амурской области. Из-за холода в больницу нельзя было класть заболевших детей, а в городской думе беспомощно разводили руками. Кажется, чиновники всех учреждений действовали по принципу: «чем хуже, тем лучше». В этом их поддерживал комиссар Временного правительства Русанов.
Потапову приходилось вести нудные и утомительные переговоры с саботирующими чиновниками, уговаривать, требовать, угрожать. Затем надо было поспеть на собрание грузчиков, которые по своей инициативе уезжали в ближнюю к городу хехцирскую лесную дачу для заготовки дров. Оттуда ехать к железнодорожникам и договариваться о вагонах. Потом на солдатском митинге ожесточенно спорить с эсерами и меньшевиками по вопросам войны и мира. К нему приходили с жалобами на самоуправство администрации, рассказывали о том, как хозяева прячут товары, затягивают выплату заработной платы и ставят рабочих прямо-таки в безвыходное положение. Молодые учительницы из Имано-Хабаровского союза народных учителей, забежав в Совет, рассказывали об успехах революционной агитации на селе, восторгались молодежью и жаловались на стариков. Требовали литературы, новых пьес для драмкружков, новых песен. А на смену этим милым, застенчиво краснеющим девушкам с пылающими глазами и неукротимой энергией, глядишь, появится какой-нибудь заскорузлый сухарь из городской гимназии и начнет протестовать против вовлечения малолетних в политику. Да еще от имени своих коллег нагло грозит забастовкой.
В этих вот разговорах, в жалобах, в злых или одобрительных репликах на митингах, в вопросах, которые задавались с галерки в полутемных залах во время собраний, в горячих, взволнованных речах простых людей и их бесхитростных рассказах Потапов чувствовал биение настоящей жизни, видел тот компас, посредством которого можно было проверить правильность взятого курса. И так ли уж важно в конце концов, кто первым додумался до того или иного решения? Революция — есть творчество самих народных масс.
Михаил Юрьевич перевернул желтоватую газетную страницу. В центре полосы броским заголовком выделялась статья Судакова.
— Ага! Так, так, — заинтересованно сказал Потапов и забегал глазами по строчкам. — «Большевики требуют передачи власти на Дальнем Востоке в руки Советов. Но могут ли они удержать власть? Можно ли справиться с разрухой путем новых разрушений?» — К удивлению Алеши, Михаил Юрьевич дочитал статью до конца. — «Рушится последний оплот российской государственности. Неминуема полная катастрофа. Впереди мрак!»
— Со слезой пишут, а? Плачут по отходящему старому миру. — Потапов отбросил газету.
— Я не читаю таких статей и не буду читать, — сказал Алеша с чисто мальчишеским упрямством.
— А между тем это может быть даже полезным, — возразил Потапов.
Он посмотрел затем меньшевистский «Призыв» и эсеровскую «Волю народа». «Последний оплот государственности» фигурировал на всех страницах. Всюду те же мрачные предсказания.
Какая-то неясная, не оформившаяся еще мысль беспокоила Потапова. Он на минуту прикрыл глаза и погладил рукой висок. Алеша бросил на него быстрый, недоумевающий взгляд и раскрыл папку с бумагами. Михаил Юрьевич жестом показал, чтобы он не спешил. «Что же из этого следует?» — думал он, имея в виду однообразие тона и мотивировок в сегодняшних газетах; обычно они лаяли на Советскую власть каждая на свой лад.
— Вот, Алеша, сговорились они между собой! Юнкера, меньшевики, эсеры. Весь синклит. Теперь попробуют нас за горло взять. А вот когда?.. Когда?..
Алеша хотя и не знал длинной цепи рассуждений Потапова, однако сообразил, что тот имел в виду. За эту быстроту соображения Потапов и ценил Дронова, поручая ему трудные и запутанные дела.
— Так можно узнать, Михаил Юрьевич. Непременно надо, — с готовностью откликнулся Алеша, для которого не существовало принципиальной разницы между понятиями «нужно» и «можно». — Сейчас я соображу, одну минутку, — продолжал он, смешно наморщив лоб и дергая себя левой рукой за мочку уха. — Завтра откроется съезд земств и городов. Там и отколют какой-нибудь номерок.
— Да, да. — Потапов подумал и согласился. — Относительно съезда земств проверь. Да надо выяснить: не затевается ли какой-нибудь сбор офицеров?
— Постойте, постойте, слышал я что-то, — сказал Алеша и начал быстро перелистывать свой блокнот. — Дано разрешение на проведение собрания по поводу предстоящей демобилизации.
— Это они нас демобилизовать хотят, — усмехнулся Михаил Юрьевич. Он быстро связал в одно и тон сегодняшних газет, и предстоящий съезд реакционно настроенных земских деятелей, и это так кстати подвернувшееся собрание офицеров гарнизона.
— Еще просили прислать представителя Бюро большевиков. Вас лично, если будете свободны, — продолжал Алеша.
— Вот как! — воскликнул Потапов. — Это очень важно, Алеша, что ты сообщил... Просят меня?.. А мы пошлем Савчука или Демьянова, — весело заключил он.
В то время как Алеша Дронов попытался связаться с Демьяновым, полковник Мавлютин направлялся в канцелярию Русанова.
Сделав нарочно небольшой крюк, он прошел мимо здания Совета, внимательным взглядом окинул подступы к нему, окна, подъезд. Ворота во двор были раскрыты настежь, и там стояла, понурив голову, запряженная в сани исполкомовская коняга. Никаких признаков тревоги он не заметил.
Мавлютин прежде не раз бывал у наместника царя на Дальнем Востоке и теперь с любопытством осмотрел кабинет Русанова, стараясь подметить происшедшие тут изменения.
Над столом, где прежде красовался портрет царствующего Романова, теперь помещалось более скромное изображение А. Ф. Керенского с выпяченной вперед грудью, узкими плечиками, в чужом, английском френче. Напряженное выражение глаз и поджатые тонкие губы придавали Керенскому вид человека, всерьез и навсегда обидевшегося. Подмену портретов легко заметить по видневшимся за рамкой темным полосам, которые выделялись на выцветшей стене.
В простенках между окнами нетронутыми висели портреты приамурских генерал-губернаторов. Галерею открывал сухощавый и энергичный граф Н. Н. Муравьев-Амурский.
Русанов любил смотреть на портреты бывших правителей. Ему нравилась величавая осанка, приданная этим сановникам художниками, и он старался подражать ей. Себя Русанов считал их законным наследником и уже заказал модному живописцу свой портрет. Первый простенок справа оставался незанятым.
Комиссар Временного правительства по делам Дальнего Востока восседал в удобном кресле за широким полированным столом. Перед ним массивный письменный прибор, альбомы с видами края. По гладкой зеркальной поверхности стола, будто в свежий ветер по морю, неслась, надув паруса, легкая резная шхуна с полной оснасткой — прекрасный образец работы искусных косторезов Чукотки.
Двойные окна с приспущенными шторами не пропускали в кабинет уличного шума. Здесь можно было почувствовать себя хоть на миг полновластным правителем края, не зависящим от кипения народных страстей и партийных разногласий.
Хорошо вышколенный адъютант неслышно входил и выходил, мягко ступая по ворсистому ковру.
Мавлютин, правильно уловив дух кабинета и не считаясь с революционными установлениями, почтительно титуловал Русанова «вашим превосходительством».
— Ах, полковник, к чему это теперь! — расслабленным, уставшим голосом сказал правитель и погладил темно-русую бороду. — Так вы утверждаете, что готовы? — продолжал он, переходя к делу и придавая своему лицу приличествующее случаю выражение. — Рад слышать. Однако... Кхм!
— Разрешите доложить, ваше превосходительство! — Мавлютин поднялся, строгий и официальный.
— Садитесь, садитесь, — замахал на него руками Русанов. — Вы в общих чертах, полковник... Имеется риск, как вы думаете?
Мавлютин, все так же стоя, сжато охарактеризовал расстановку сил в городе, как она ему представлялась.
— Я власти, врученной мне законным образом, большевистским совдепам не отдам, — заявил Русанов и даже несколько приосанился.
— Браво, ваше превосходительство! Браво, — Мавлютин беззвучно хлопнул в ладоши, — Итак, выступим сегодня в ночь.
Русанов молча наклонил голову.
— Сегодня, полковник, сегодня, — сказал он самоотречение. — Вы правы: время не терпит. Не будем дожидаться всех приглашенных делегатов. Вечером я официально передам съезду земских и городских самоуправлений всю полноту власти в крае. И с богом, полковник. — Переложив бороду на стол, Русанов решительно махнул рукой. — Остальное вы уж с командующим военным округом...
— Я действую от имени и по поручению генерала Хокандакова, — сухо заметил Мавлютин и оглянулся на кресло позади себя.
— Да вы садитесь. Садитесь. Курить желаете? — и Русанов достал из ящика коробку папирос.
На некоторое время воцарилось молчание.
Мавлютин чиркнул спичкой, затянулся, выпустил тонкую, как змеиное жало, струйку дыма. Он понимал щекотливость положения Русанова и отдавал должное его умению сохранять респектабельность.
Русанов же думал о том, что он сейчас, собственно, предопределил свою судьбу как правителя края. Представлять дальше низвергнутое народом Временное правительство было бессмысленно и глупо. Требовалась более подходящая власть. В обход требований народных масс такой властью намеревались сделать Бюро земств и городов Дальнего Востока, которое предстояло формально утвердить на съезде (если можно назвать съездом восемь-десять реакционеров, представляющих буржуазные по составу городские думы, да земских служащих — эсеров). Это бюро, поддержанное офицерами, должно было распустить Красную гвардию, разгромить большевистские организации и не допустить перехода власти в руки Советов. Было заготовлено и отправлено в типографию и редакции газет соответствующее воззвание от имени съезда к населению Дальнего Востока. Русанов немало потрудился над тем, чтобы подготовить переворот. И все-таки было жаль, что все кончится таким образом.
Итак, обратно к русской словесности! В памяти всплыли строчки из «Бориса Годунова»:
— Объективно для вас, ваше превосходительство, создалось исключительно трудное положение, — сочувственно сказал Мавлютин, догадываясь о направлении мыслей Русанова. — Вы не только подвергаетесь яростным нападкам слева — со стороны большевистских совдепов. Вас также критикуют справа. Это гениальная мысль: отойти и предоставить силам, кои вы сейчас по долгу службы обязаны сдерживать, сразиться в единоборстве. Мы достаточно подготовлены, смею вас уверить. Собственно, России нужна диктатура, — доверительно сказал полковник, наклоняясь через стол к Русанову и пристально следя за выражением его лица. — С Александром Федоровичем, ваше превосходительство, история сыграла злую шутку.
— Гм!.. Да. — Русанов замялся. — Временное правительство, однако, признается союзными державами в качестве единственного законного правительства России, — продолжал он затем. — Функция внешнего представительства с него не снята и не может быть утрачена. Вы знаете, когда я вступил на палубу крейсера «Бруклин», адмирал Найт... — И, отвлекшись несколько от забот дня, Русанов принялся рассказывать о том, с какой подчеркнутой любезностью встретил его американский адмирал, как гремели над бухтой Золотой Рог залпы приветственного салюта и какой великолепный ответный банкет он, Русанов, дал во Владивостоке в честь прибытия командующего Тихоокеанской эскадрой США. — У американцев колоссальная заинтересованность в делах Дальнего Востока. Мы здесь в большой степени зависим от их благорасположения. Я разрешил открыть отделение Американского Красного Креста. Вместе с адмиралом Найтом мы учредили во Владивостоке Русско-Американский комитет.
— С довольно узкими полномочиями, насколько я понимаю? — спросил Мавлютин, заинтересовавшись рассказом.
— Напротив. С почти неограниченными возможностями, — возразил Русанов. — Американцы просили пошире открыть для них двери, и я не вижу причин, почему бы нам не сделать это. Мы приняли железнодорожную миссию Стивенса, получили заем... Я действовал строго в рамках общей политики Временного правительства. Надеюсь, мои преемники сумеют извлечь выгоду из начатого дела. Видит бог, не о собственной карьере пекусь... — вздохнул он и умолк.
Мысль о преемниках была неприятна ему. Воспоминание о встрече с адмиралом Найтом, которую Русанов считал до некоторой степени венцом своей карьеры, лишь сильнее расстроило его. В те дни его имя впервые проникло в мировую печать.
— История надлежащим образом оценит мудрость вашего превосходительства.
Мавлютин поднялся и выразительно посмотрел в пустой простенок.
Правитель края устало прикрыл глаза.
— Да поможет, вам бог, полковник, — разбитым, упавшим голосом сказал он.
Щелкнули каблуки.
Русанов, откинувшись на спинку высокого губернаторского кресла, грустно глядел на стену перед собой...
На съезд земских и городских деятелей Русанов явился застегнутым на все пуговицы парадного сюртука, с торжественным и мрачным выражением лица, будто пришел на похороны близкого родственника.
Невольно замедляя шаг, как если бы он поднимался на эшафот, правитель края прошествовал наверх по гулкой, плохо освещенной лестнице, крепко прижимая локтем портфель с бумагами.
В зале с великолепными окнами было пусто и тихо.
Русанов направился в буфет, где в данный момент сосредоточивались все наличные земские и городские силы. Собралось не более десяти человек.
Толковали о событиях в Иркутске и Харбине.
— Миндальничаем мы, господа. Вот вам и корень зла, — говорил Бурмин, поправляя перед зеркалом крахмальный воротничок. — В Америке, батенька, — там порядок. Судебная система без проволочек... Электрический стул.
— Что же вы прикажете, выписать это кресло, а? — не без вызова спросил худощавый земец в очках.
— Гм!.. Можно обойтись и домашними средствами: веревкой и нагайкой, — с нехорошей усмешкой сказал Бурмин и в это время уколол себе палец булавкой. — О черт! Господа, нет ли здесь йоду?
— Наш долг, господа, надлежащим образом направить события, — громко произнес Судаков, сидевший за столиком с бутылкой лимонада. — Именно мы, трудовая интеллигенция, призваны сыграть в великой русской революции роль организующего государственного здорового ядра. Молодая, неокрепшая демократия России...
Русанов не стал слушать дальше и вслед за хабаровским городским головой, игравшим роль хозяина, вышел в смежную комнату.
— Что же мы тянем? — сказал он осипшим голосом.
— Еще минуту. Одну минуту, — городской голова поманил кого-то к себе пальцем. — Как прокламация, готова?
— Только что доставлена-с. Сию минуту, — сказал появившийся из-за дверей человек с начинающейся лысиной.
Вслед за ним вошел Сташевский с мокрыми еще оттисками. В комнате запахло типографской краской.
Земско-городские деятели гурьбой повалили сюда из буфета, заглядывали в текст воззвания.
— Вот теперь можно начинать, — сказал городской голова. — Господа, проходите в мой кабинет.
— Да уж не люстру зажигать в большом зале, — хихикнул Чукин и весело взмахнул над головой листом с воззванием. — Солнце на лето — зима на мороз. Вот он, наш зимний солнцеворот, господа!
Последним вошел и сел на свободное место у дверей высокий и плотный человек в косоворотке с коротко подстриженными усами, чем-то похожий на мастерового. Он огляделся, попросил у сидящих впереди текст воззвания и углубился в чтение. Брови у него сдвинулись.
Городской голова начал вступительную речь.
— Э-э, господа. Э-э-э... — бесконечно тянул он и трогал при этом себя за кадык, будто хотел пальцами протолкнуть застрявшее слово. — Полагаю, э-э... что данное собрание правомочно... сконструировать орган, способный... э-э-э... осуществить, направлять, содействовать...
В обычной речи он произносил слова без запинки. Русанов с удивлением поглядел на него, затем уставился на маленькую кучку людей перед собой. Бурмин слушал, чуть склонив набок голову. Чукин подался вперед и весело потирал руки. Судаков дожевывал бутерброд. Человек в косоворотке внимательно слушал, положив лист с воззванием себе на колени.
Судя по всему, неприятностей не предвиделось. Русанов мысленно еще раз прорепетировал свою речь. Занятый ею, он уже не мог следить за тем, как городской голова продирался дальше сквозь частокол междометий.
— Значит, нет возражений? — уже четко и ясно закончил тот.
— Есть возражение у меня, — сказал человек в косоворотке.
Все головы сразу повернулись к нему. Русанов увидел несколько плешивых затылков и жирные складки на толстых шеях.
— Э-э-э... Возражение процедурного характера? — с нескрываемой надеждой спросил председатель.
— Нет, возражение по существу дела, — громко сказал, как отрубил, человек в косоворотке. — Я не считаю данное собрание правомочным что-либо решать или конструировать. Тем более решать вопрос о власти. Почему? На каком основании? Кого вы здесь представляете, господа? — Голос его гремел под высокими сводами комнаты. — Единственный правомочный орган — предстоящий краевой съезд Советов! Вы что же, народа боитесь?.. Знать, черны ваши замыслы. — Он взмахнул перед лицом Чукина зажатым в кулаке воззванием.
Матвей Гаврилович боком-боком поспешно отодвинулся от него.
— Большевик! — взвизгнул он, очутившись на сравнительно безопасном расстоянии.
— Да, большевик, — спокойно подтвердил человек в косоворотке. — И пятнать себя сговором с реакционерами не стану. Пусть этим меньшевики занимаются.
— Господа, что такое, я вас спрашиваю? Кто пригласил? — сказал свистящим шепотом Русанов, поглядев на председательствующего.
Тот только беспомощно развел руками.
— Никольск-Уссурийская дума прислала. Вот, пожалуйста!.. Послушайте, я вам э-э... слова не давал! — закричал он затем.
— Лишить его сло-ова! — гаркнул Бурмин и затопал ногами.
— Как бы не так! — не напрягая особенно голоса, сказал человек в косоворотке. — Знайте: народ признает только Советскую власть. Другой власти в России быть не может. А то, что вы тут затеяли, — это разжигание гражданской войны. Братоубийство!.. Я заявляю категорический протест и ухожу!
— Ну и скатертью дорога! — крикнул Чукин, когда за ним закрылась дверь.
Инцидент произвел на присутствующих гнетущее впечатление. Особенно на Русанова.
— «Сейчас, когда в стране... полное отсутствие власти, Учредительное собрание соберется неизвестно когда... Острота международных отношений...» — читал он без всякого подъема и воодушевления заранее заготовленную речь.
Земско-городские деятели тупо глазели на трибуну. Русанов, блуждая рассеянным взглядом по их встревоженным лицам, монотонно жаловался:
— При создавшихся условиях мое положение крайне тяжелое. Я, господа, больше не могу оставаться на вверенном мне посту, — выговорил он и, будто перешагнув через препятствие, неожиданно бодро закончил, сорвав столь же неожиданные редкие хлопки: — Как последний представитель Временного правительства на территории России, слагаю свои полномочия и передаю власть данному собранию.
Он выпростал бороду из-за трибуны и бережно понес ее поближе к выходу.
— Господа, а этот большевик не приведет сюда матросов и красноармейцев? — спросил кто-то из собравшихся, высказав общую тревогу.
Решили прений не открывать, а сразу приступить к выборам временного бюро, которому и вручить исполнительную власть. Договорились о созыве в январе — феврале более широкого съезда земских и городских деятелей в Благовещенске. Избранное бюро в случае осложнений должно было перебраться туда под надежную защиту казачьего атамана Гамова.
Русанов, не интересуясь последующим, незаметно ускользнул.
Из-за домов поднималась смеющаяся луна. В се бледном неверном свете видны были спешившие по всем направлениям группы вооруженных людей.
По всему городу заливались тревожным лаем собаки.
«Ну молодец полковник! Молодец», — подумал Русанов и бодро зашагал к дому.
А полковник Мавлютин. бледный, с дрожащей отвисшей челюстью, медленно поднимал обе руки вверх, с ужасом глядя на тупое рыло пулемета «максим», выставившееся из-за разбитой стеклянной двери на балкон. За клубами морозного пара — фигуры вооруженных людей. Донесся властный приказ Савчука:
— Ни с места, господа офицеры! Руки вверх!
Вслед за Мавлютиным подняли руки и те полтораста человек, что сошлись сегодня в гарнизонное собрание. В зале после беспорядочного шума, когда все сразу вскочили, хватаясь за оружие, наступила мертвая тишина.
Рядом с Мавлютиным распростерся поперек стола длинный худой юнкер, успевший выхватить из кармана гранату, но тут же опрокинутый короткой очередью в упор. Тело его еще вздрагивало и билось. Зажатая в костенеющих пальцах граната, леденя Мавлютину кровь, стучала о край стола.
Где-то внизу сорвался одинокий выстрел. Захлопали двери. Множество ног затопало по лестнице. Должно быть, обезоружив караул, красногвардейцы бежали наверх.
Дверь в зал с треском распахнулась.
По широкому проходу легко и твердо шагал арсенальский кузнец Демьянов. Был он в кожаной куртке, в заломленной чуть набок солдатской шапке, с маузером в деревянном футляре у пояса. За ним шел Логунов в бескозырке с развевающимися сзади ленточками, с наганом в руке. «Ну, смотрите вы у меня! Тихо!» — предупреждал его взгляд. Позади человек двадцать красногвардейцев, солдат и матросов с примкнутыми к винтовкам штыками, с недобрым огнем в глазах.
Демьянов вскочил на подмостки сцены.
— Именем революции, собрание закрывается, — сказал он. — Предлагаю сдать оружие!
Эти простые понятные слова сбросили оцепенение, охватившее зал. Несколько человек переглянулось, измеряя расстояние между собой и пулеметчиками на балконе.
— Тихо! Тихо! — крикнул Логунов, внимательно наблюдавший за офицерами.
Красногвардейцы и матросы направили винтовки в зал. У всех выходов стояли вооруженные бойцы.
Теперь всякое сопротивление становилось бессмысленным.
Демьянов, отодвинув Мавлютина, деловито распоряжался:
— Граждане, подходи по одному! Клади оружие! Приготовить документы!
Обезоруженных офицеров отводил в сторону. Одни стояли, понурив головы, другие злобно посматривали на красногвардейцев.
Мавлютина мутило от острого запаха крови, шедшего от стола. Руки у него дрожали, и не было сил держать их над головой.
— Да вы опустите руки, — сказал Демьянов, обратив наконец внимание на его состояние.
Савчук разжал пальцы убитого и вынул из них гранату.
— Еще момент — и он бы шарахнул. Наделал бы делов. Шустрый! — оживленно заговорил подошедший вслед за Савчуком молодой красногвардеец.
Личный обыск задержанных подходил к концу. Отобранное оружие — большей частью браунинги или офицерские наганы, гранаты-лимонки — кучкой лежало возле рампы.
Убитого юнкера унесли; стол застелили новой скатертью.
Красногвардейцы, стуча молотками, заколачивали фанерой разбитую дверь.
Офицеры поеживались — и от холода и от неопределенности своего положения. Некоторые сидели, подперев головы руками, крепко задумавшись.
— Господин комиссар, куда же нас теперь — в тюрьму? — спросил Демьянова пожилой капитан, видно примирившийся уже с неизбежностью.
— Почему в тюрьму? Господа, я протестую! — истерично закричал молодой подпоручик.
Демьянов с усмешкой посмотрел на него. Он знал, как эти люди отнеслись бы к нему и его товарищам, если бы они поменялись ролями.
— А почему бы вам и не пойти в тюрьму? — спросил он, щуря глаза. — Что вы за цацы такие?
В ответ долгое, угрюмое молчание.
— Ваше счастье, что это не прежняя власть, — продолжал Демьянов. — Советская власть не мстит людям за прошлое. Совет рабочих и солдатских депутатов предупреждает, однако, что впредь будет строго взыскивать за подстрекательство к мятежу. Без ведома Совета ни одна воинская часть не может быть выведена на улицу. Прошу запомнить и потом не пенять. А сейчас каждый из вас даст подписку, что это ему объявлено, — и можно по домам. Извините, так сказать, за беспокойство.
Когда Демьянов и Логунов вывели Мавлютина на Муравьев-Амурскую, по улице с песней шли моряки. Куда-то скакали конники. У ворот домов стояли кучками люди.
Город не спал.
Хабаровский Совет в эту ночь был похож на прифронтовой штаб. У здания — вооруженные солдаты, красногвардейцы, матросы. Звонки телефонов. Несмолкающий гул голосов. Раскрытые настежь двери. Табачный дым.
С первого взгляда казалось, что здесь просто скопище случайно собравшихся людей. Мавлютин даже усмехнулся: «Митинг...» Но, присмотревшись, к удивлению своему обнаружил, что вся эта кажущаяся толчея имеет характер определенно выраженного, целесообразного движения. Центром была небольшая группа людей, собравшихся возле стола.
С краю у телефона сидел Потапов.
— Ну как, Демьян Иванович? Справились? — спросил он у Демьянова, когда тот, оставив Мавлютина под охраной парнишки-красногвардейца, подошел к ним.
— Полный порядок! Вот трофей привез, — и он показал на Мавлютина.
— А! Это он организатором у них? — Потапов глянул на смотревшего зверем полковника и тут же обратился к Логунову: — Федор Петрович, бери матросов и ступай на телеграф. Поставь охрану. Вызови своих телеграфистов, если нужно. За комиссара там пока учительница одна, поможешь. Ясно?
— Есть отправиться на телеграф! — Логунов побежал к выходу.
— А ты, Демьян Иванович, марш-марш в типографию. Видал эту штуку? — Потапов показал пробный оттиск заготовленного земцами контрреволюционного воззвания. — Исполком решил не допускать распространения этого документа. Отпечатанные экземпляры воззвания конфисковать, набор рассыпать. Да предупреди редактора «Приамурской жизни», чтобы воззвание не печатал.
— За ним постоянный глаз нужен, — сказал Демьянов. — Печатают черт знает что...
— Вот это правильно, — согласился Потапов. Он поискал глазами и подозвал невысокого рябого солдата:
— Будешь цензором в типографии. Гляди в оба.
Солдат схватился за голову:
— Михаил Юрьевич, уволь! Понятия не имею об этой работе.
— Постой! Ведь я тебе, помню, рассказывал, как царская цензура вымарывала у нас из статей каждое слово, зовущее к свободе?
— Ну?
— А теперь следует делать все наоборот, — сказал Потапов, завершая этим короткий инструктаж.
— Тогда лучше такие газеты закрыть. У них все против Советской власти, — убежденно сказал солдат.
— Погоди, погоди! — Михаил Юрьевич поглядел на него, соображая, не выкинет ли он действительно какую-нибудь несуразность, — Ты не допускай призывов к вооруженной борьбе. А остальное, — он махнул рукой, — пусть печатают. Вообще, товарищ, рекомендую руководствоваться велением революционного долга. Как совесть подскажет.
И Потапов, чуть сутулясь, зашагал к дверям.
— Пойдемте со мной, полковник, — сказал он Мавлютину, проходя в другую комнату.
Конвоир остался за дверью.
— Садитесь. Выходит, недооценили силы противника, полковник, а?
— Да, недооценили, — хмуро согласился Мавлютин. — Остолоп комендант не позаботился надлежащим образом проинструктировать караул.
— И вы серьезно думаете, что в этом причина вашей неудачи? — Потапов внимательно посмотрел на Мавлютина. — Да будь у вас самый распрекрасный комендант и самый бдительный караул, что изменилось бы?.. Вместо одного было бы десять убитых... Лишняя кровь. А результат в конечном счете один. Тут не столько вина ваша, полковник, сколько просчет всего вашего класса. Безнадежное дело нельзя успешно защищать.
— А! Вы уже философствуете? — кисло протянул Мавлютин.
— Да. У нас своя философия. Философия жизни. Мы вас одолели и в этой области, — сказал Потапов, изучающе глядя на сидевшего перед ним человека. — Во всех областях одолеем. Так что разумнее капитулировать.
— Агитируете?
Потапов отрицающе покачал головой.
— Нет. Я далек от того, чтобы вас агитировать. Политические убеждения — не перчатки, которые легко менять. Убеждают людей в конечном счете факты. Дайте нам время, и мы докажем неоспоримые преимущества нового, советского строя.
— Ну, знаете! — Мавлютин откинулся на спинку стула и хрипло рассмеялся. — По тем же самым соображениям в мире найдется достаточно людей, заинтересованных как раз в обратном:
— И вы один из них. Не так ли?
— Я этого не собираюсь отрицать.
— Что ж, по крайней мере откровенно. — Потапов опять посмотрел на Мавлютина. — Я хотел еще опросить, где вы прежде служили?
— Служил царю и отечеству верой-правдой и в меру способностей, — сказал Мавлютин с дерзким вызовом.
— А если поточнее?
— Для этого в соответствующем месте хранится послужной список. Там отмечены все передвижения по службе.
— Перестаньте крутить, — резко сказал Потапов. — Вы в корпусе жандармов служили?
— Никак нет, — голос Мавлютина дрогнул, что не укрылось от Потапова.
— Хорошо. Вашей биографией мы займемся позже. Сейчас нам нужны данные об организации, которую вы возглавляли.
— Помилуйте, какая организация?! Я вас не понимаю, — с деланным изумлением сказал Мавлютин.
Он лихорадочно пытался сообразить, что именно могло стать известным здесь, в Совете.
— От вашей искренности, полковник, зависит ваша собственная участь, — сказал Потапов и посмотрел на часы. — Во всяком случае, революция не станет руководствоваться мотивами мести. Но она не простит подлого удара из-за угла. Мы отпустили почти всех ваших людей. За исключением нескольких человек.
— Кого? — быстро спросил Мавлютин и сразу же по улыбке Потапова понял допущенный им промах.
— Вот вы и выдали себя, полковник! Если нет организации, то откуда у вас такая заинтересованность?
— У меня там были друзья, — пробормотал Мавлютин, чувствуя, что начинает увязать все больше и больше.
— О, разумеется! И кто-нибудь из них проговорится. Не так ли? — насмешливо заметил Потапов. — В конце концов мы тоже научились чему-то от вас.
Мавлютин промолчал. Ему не нравился этот допрос, и он не знал, чем все это может для него кончиться.
— Я вам больше ничего не скажу. Ничего! Я не обязан, — крикнул он сорвавшимся голосом и загородился рукой от света.
— Однако нервы у вас сдают, — усмехнулся Потапов. — Что ж, утешительного в сегодняшних событиях для вас нет. Сеяли ветер, пожнете бурю.
И он кликнул часового, намереваясь отправить с ним арестованного.
— Что вы намерены делать со мной? — глухим, хриплым голосом спросил Мавлютин, покосившись на парнишку-часового.
— Судить.
— То есть мне угрожает самосуд толпы?
— Революционный суд, который мы создаем.
— И тюрьма?
— Вас туда отведут, — коротко сказал Потапов.
В тюрьму Мавлютина вел тот же молоденький парнишка-красногвардеец, который стоял на часах у дверей. Разговора между арестованным и Потаповым он не слышал и относился к Мавлютину как к обычному задержанному, которых немало было в эту ночь. Он даже посочувствовал ему, когда они свернули на боковую улицу и навстречу потянул резкий леденящий ветер.
— Ну, дядя, продует нас! Беда.
Мавлютин молчал. Он думал о том, где и когда была допущена ошибка. Как могло получиться, что их тщательно законспирированная организация скандально провалилась? В конце концов он должен был сознаться себе, что имел довольно-таки превратное представление о силах противоположного лагеря.
Перспектива очутиться в тюремной камере страшила Мавлютина. Тем более, что могли обнаружиться такие новые обстоятельства, как его служба в охранке. Видно, неспроста Потапов задал вопрос о корпусе жандармов. А вдруг... Мавлютин знал, что политические заключенные никогда не прощали предательства. В его же биографии была и такая страница. Нет, в тюрьму ему садиться нельзя.
Конвоир не мог знать хода мыслей арестованного. Но по тому, как быстро озирался тот, когда они проходили мимо чьих-либо раскрытых ворот, он почуял неладное.
— Гляди, дядя! Побежишь — в спину ударю. Не уйдешь, — предупредил он, сокращая дистанцию между собой и арестованным.
— А куда мне бежать-то. Посижу день-другой — и выпустят. Разберутся, думаю, — подделываясь под народный говор, миролюбиво ответил тот.
— Разберутся, это уж точно. Не старое время, — сказал паренек.
Был предутренний час. Высоко в небе стояла луна, в ее белом свете все вокруг казалось застывшим и холодным: длинный ряд домов на окраинной улице, редкие заиндевевшие деревья, темная дорога, по которой они шли. Мороз давно загнал всех любопытствующих обратно в дома. Патрули тоже держались ближе к центру, справедливо полагая, что на окраинах некому бунтовать против Советской власти.
Конвоир и арестованный шли через пустырь. Миновали еще одну застроенную редкими домами улочку. Впереди сквозь морозный туман замаячили фонари, установленные вдоль каменной тюремной ограды. Когда арестованный вдруг остановился, конвоир чуть не налетел на него сзади. Отпрянув, он взял ружье на изготовку.
— Ты что? Иди...
— Оз-зяб я... Закурить бы. Спичек у т-тебя нет? — странным, дрожащим голосом попросил арестованный.
— Зажигалка есть. Я кину тебе, погоди, — конвоир отвернул полу шубенки, полез правой рукой в карман.
И в этот момент Мавлютин кошкой кинулся на него. Оба они упали на снег, закружились в отчаянной борьбе. Били, пинали друг друга.
Парнишка-конвоир, уступавший Мавлютину в силе, все старания прилагал к тому, чтобы не выпустить из рук винтовку. Тогда Мавлютин всей тяжестью тела навалился на него и стал душить. Мальчишка начал заметно слабеть.
Уже теряя сознание, он изловчился и нажал спуск. Гулкий выстрел прокатился в тишине. Сразу откликнулись тревожные свистки охраны у тюрьмы.
Вырвав наконец винтовку у конвоира, Мавлютин, не думая о том, что привлечет внимание патрулей, три раза выстрелил в него в упор и побежал.
Переулками, дворами он пробирался ближе к центру города, понимая, что там легче будет затеряться, чем в поле на окраинах.
За ним шли по пятам. Видимо, из тюрьмы по телефону предупредили центральные посты. По смежной улице проскакали конники.
Наконец кольцо преследователей сомкнулось вокруг него. Его окликнули на перекрестке. Он юркнул во двор, побежал, что было сил. Было слышно, как преследователи совещались у ворот, не зная, куда он скрылся.
К счастью для Мавлютина, двор оказался проходным. Но у выхода на улицу он сам напоролся на встречный патруль. А сзади уже шли за ним красногвардейцы, осматривая постройки и закоулки.
Почти безотчетным движением Мавлютин вскинул винтовку на плечо и шагнул из ворот навстречу, патрулю.
— Ну что, не видали? Вот ведь ушел, наверно, — сказал он, предупреждая вопросы патрульных.
Он с трудом переводил дух после бега.
— Я от самой тюрьмы за ним гонюсь, — запинаясь проговорил он, понимая, что надо как-то объяснить это.
— А что там случилось?
— Да офицер бежал. Убил конвойного, сукин сын! В тюрьму его вели, — сказал Мавлютин, тревожно прислушиваясь к приближающимся со двора голосам. — Вы, ребята, осмотрите соседний двор. А я пробегу той стороной, — предложил он и побежал через улицу.
Прыгая через забор, он видел, как из ворот вышли люди и сразу устремились за ним.
Перебираясь через какие-то доски, кучей сваленные во дворе, Мавлютин обронил винтовку. У него не было времени остановиться, чтобы подобрать ее. Да и много ли помог бы ему последний патрон, оставшийся в магазинной коробке?
Отбиваясь от насевшей на него дворовой собаки, Мавлютин заметил в одном из окон флигелька пробивающийся сквозь ставень свет. Выбора у него не было. Он трижды стукнул в ставень и взбежал на крыльцо.
Кто-то открывал внутреннюю дверь.
— Ради бога, отоприте! Скорей! — шепотом сказал Мавлютин, слыша погоню в соседнем дворе.
— Кто здесь? — спросила женщина за дверью.
— Человек, нуждающийся в помощи. Поторопитесь!
Дверь чуть приоткрылась. Мавлютин с силой потянул ее и тут же затворил за собой.
Перед ним, держа свечу, стояла Вера Павловна, сильно похудевшая, еще не оправившаяся после болезни.
— Вы? Вы в моем доме? — говорила она, отступая перед ним и загораживая другой рукой вход в квартиру.
— Тсс! — Он умоляюще приложил палец к губам.
Вера Павловна никак не ожидала появления Мавлютина — своего бывшего мужа. Он навсегда, казалось, остался там — далеко. Что ему еще нужно от нее? Как он смел показаться ей на глаза? Вся ее гордость возмутилась.
— Я прошу вас оставить меня! — резко и громко сказала она.
Он схватил ее за руки, зашипел:
— Ты с ума сошла! За мной гонятся. Погаси свет! — и сам дунул на свечу.
— Что вы такое натворили? — спросила она.
— Это политика. Я все объясню. Я уйду, как только минет опасность, — быстро и умоляюще шептал он.
— Прошу вас, не впутывайте меня в свои грязные дела.
— Но меня убьют, ты понимаешь! Не будь так жестока.
Он стоял перед нею жалкий, дрожащий. Она брезгливо отодвинулась от него к самой двери. Во дворе совсем близко послышались возбужденные погоней голоса:
— Может, он в доме спрятался?
— Спят, не видишь разве.
— А собака будто тут лаяла.
— Собак нынче по всему городу перебулгачили. — Голоса удалились.
— Я бы этого контрика сейчас на месте стукнул, — зло сказал кто-то у ворот.
— Н-да... матерый зверь!
Все стихло.
— Теперь ты видишь, что мне угрожало? — драматически спросил Мавлютин. — Но если ты желаешь моей смерти, я уйду.
Вера Павловна медленно отворила дверь в квартиру и сухо сказала:
— Пройдите в комнату.
К утру все важнейшие учреждения Хабаровска были заняты отрядами красногвардейцев, моряков и революционных солдат; Бывший комиссар Временного правительства Русанов находился под домашним арестом. На квартире у него перед дверью в спальню сидел на стуле молоденький красногвардеец с винтовкой и боролся е дремотой.
Русанов долго не ложился. Когда Демьянов объявил ему постановление Совета о домашнем аресте, он сразу понял, что затея с передачей власти Бюро земств и городов провалилась, и сильно струхнул. Побледнев как мел, он не скрывал своего страха. Губы у него дрожали. Он торопливо начал объяснять, что не может нести ответственности за действия неофициальных лиц.
— Мне некогда, извините, — сухо сказал Демьянов.
— Чует кошка, чье мясо съела! — заметил один из рабочих.
Русанов молча проглотил эту пилюлю.
Размышляя о последствиях провала, он мрачнел, сопел и сердито отвечал на причитания жены: «Да перестань! И без тебя тошно». Будущее представлялось ему крайне неопределенным. А к чувству страха, испытываемого им, примешались ненависть и отчаяние. Так попеременно они и владели им.
Жена, наплакавшись вдоволь, уснула не раздеваясь. А бывший правитель края все ходил взад и вперед по спальне и чего-то ждал. Воображение рисовало ему сладостные картины неожиданного избавления. Представлялось это так: застучат на крыльце сапоги, грянет выстрел, откроется дверь, и приятный знакомый голос дежурного адъютанта скажет: «Слава богу, поспели вовремя! Вы свободны, господин комиссар!»
Но ни шагов, ни выстрелов не было слышно. Часовой в соседней комнате сидел тихо, ничем не обнаруживая себя. «А вдруг все переменилось? Часовой, возможно, уже сбежал», — с воскресающей надеждой подумал Русанов.
У него сладко заныло под ложечкой. Надо только выйти в соседнюю комнату и проверить справедливость такого предположения. Русанов оглянулся на спящую жену, приложив для чего-то палец к губам. Поколебавшись, он снял бурки и в одних теплых шерстяных носках, неслышно ступая, подошел к двери. Заглянув в замочную скважину, он тотчас же отпрянул. Ему показалось, что часовой, по-прежнему сидевший перед дверью, угрожающе шевельнул ружьем. Потом он сообразил, что тот не мог видеть его в темной спальне, и снова прильнул глазом к замочной скважине.
С тайным любопытством и страхом вглядывался он в человека, стеснившего его передвижения в собственной квартире. Свет падал на часового сверху, и его глаза скрывались в тени. У него было широкое лицо, подбородок с ямочкой, чуть вздернутый нос — и все это вместе придавало ему вид самый простецкий. Сколько таких лиц прошло перед Русановым, не возбуждая в нем интереса или даже мимолетного желания узнать, чем жив и чего хочет такой человек! Люди проходили обезличенными, похожими друг на друга, как одинаково круглые нули в многозначной цифре, все значение которой определяется лишь стоящей впереди единицей.
Часовой мирно поклевывал носом. Время от времени он ожесточенно тер себе кулаками глаза, рассчитывая, что это поможет бороться со сном. Как ни покажется странным, но именно это открытое проявление человеческой слабости окончательно убедило Русанова, что тщетно ждать каких-либо новых перемен.
Русанов был человек представительный, склонный к полноте, и стоять согнувшись у замочной скважины ему было не только крайне утомительно, но и больно для самолюбия. В конце концов он рассердился на себя. «Господи, ведь я — государственный деятель! И меня довели до такого унижения... Все рушится на Руси. Все», — думал он, ковыляя от двери к постели.
Пружины под ним заскрипели, и жена проснулась.
— Ты не спишь? Который теперь час? — спросила она.
— Не знаю. Должно быть, утро, — грубо буркнул он. Потом, устыдившись, разыскал в темноте ее руку, прижался к ней лицом. — Я так боюсь. Так боюсь, — изменившимся голосом признался он. — Надо было нам сразу уехать в Харбин, к Хорвату, или к нашему послу в Пекин.
— Я говорила тебе, сколько раз говорила, — жена снова начала всхлипывать.
— Да замолчи ты, ради бога! Замолчи, — сердито прошипел он и оттолкнул ее руку.
Окна в спальне заметно посветлели. Над крышами домов серело небо; раннее утро пришло, как всегда, без спросу.
В служебном кабинете Русанова красногвардейцы снимали со стен портреты бывших генерал-губернаторов. Одна массивная рама сорвалась и с грохотом упала на пол, зазвенело разбитое стекло.
— Осторожнее, ребята. Не портить стены, — оглянувшись, сказал Савчук.
Он просматривал книги в русановском шкафу, выбрасывал на пол тяжелые тома Свода законов Российской империи.
Супрунов, опираясь на винтовку, с усмешкой наблюдал за тем, как эти красиво переплетенные книги падали к его ногам.
— Скажи на милость, фунта четыре будет, а? — удивился он, прикинув на руке вес одной из них. — Куда теперь эту рухлядь?
— Да свалите где-нибудь во дворе. В кладовую, что ли.
— Нет, Иван Павлович. В топку. Чтобы дымом по свету развеять.
Супрунов с охапкой книг вышел куда-то. Вернулся он повеселевший, с просветленным лицом.
— Ведь какое дело сделали, подумать только, — растроганно сказал он, садясь в кресло и ставя винтовку между колен. — Вот и царя нету. И дышится совсем по-другому, а?..
Савчук поглядел на него и вспомнил, как однажды, еще до войны, после погрузки баржи на одном из нижних плесов, усталые и голодные, стояли они вдвоем на высоком берегу Амура. Думали, куда им податься на зиму.
За рекой на луговой стороне пламенел долгий осенний закат. Причудливая игра красок, отражавшаяся в воде, заставила их на время позабыть все невзгоды. Поразительно, красивы закаты на Амуре! Но день отгорел, и сразу подул холодный низовый ветер.
«Эх, красавец Амур! Да жизнь наша каторжная!.. Разве есть на земле правда?» — с горечью воскликнул тогда Супрунов и заплакал, не стыдясь слез.
Жил он одиноко, без семьи. Приближалась старость.
«Дождался-таки правды, хоть на склоне лет», — с радостным волнением подумал Савчук и вышел проверить посты.
Когда он вернулся, красногвардейцев в кабинете уже не было. За столом сидел Демьянов и просматривал бумаги.
Чего только не пришлось ему делать в последние двенадцать часов: разоружать офицеров, разыскивать в типографии набор с текстом контрреволюционного воззвания, совещаться в исполкоме с товарищами и тут же снова мчаться куда-нибудь на вокзал или к винным складам. Пришлось даже собирать по квартирам столоначальников ключи от сейфов и запертых служебных столов, чтобы назначенные в учреждения комиссары могли начать знакомство с делами. Успевай поворачиваться, товарищ чрезвычайный комиссар по охране города!
И он поспевал куда надо. Ставил посты. Давал инструкции. Кого-то убеждал, кого-то ругал. Слал посыльных, когда телефонистки вдруг бросили работу, подбитые на забастовку подстрекателями из Согоса. К рассвету на телефонной станции распоряжались вызванные с базы флотилии моряки. Демьянов и не заметил, как пришло утро.
— А вы тут удобно устроились. По-губернаторски, — сказал он, увидев Савчука. — Знаешь, создана специальная комиссия по приемке дел от Русанова. Как он вчера перепугался! Белее стенки стал.
Савчук с ожесточением сплюнул.
— Бойтесь того, кто вас боится. Слышал такую пословицу?
— Ты прав, — согласился Демьянов. — Простить себе не могу, как это я обмишурился: отправил того полковника с одним конвоиром. Парень погиб. Вот надо идти к его матери. А этот гад как сквозь землю провалился. Утопили щуку, да зубы остались. И члены Бюро земского успели выехать.
— Надо было задержать, — сказал Савчук.
— Надо, надо. Откуда я мог предполагать! — Демьянов поморщился и махнул рукой. — А куда они денутся, в конце концов? От революции, брат, не спрячешься. В лес не убежишь, — сказал он и поочередно подергал запертые ящики. — Ключей у тебя нет, Иван Павлович? Неужели ящики ломать? Жаль портить хороший стол.
Демьянов внимательно осмотрел замки.
— Заставим самого Русанова прогуляться. Невелик барин. — И он принялся вертеть ручку телефона.
Утром было совещание по продовольственному вопросу. Комиссаром в городскую Продовольственную управу решили назначить старшину артели грузчиков Якова Андреевича Захарова. Ему поручили приступить к реквизиции запасов муки на купеческих складах. Надо было решительно пресечь спекуляцию хлебом.
Алеша Дронов, дописав протокол, предложил:
— Побегу-ка я в кочегарку за чаем. Позавтракаем, Михаил Юрьевич?
— Да, не мешает червячка заморить, — сказал Потапов и поглядел на разгорающуюся за окном зарю. — А знаешь, пожалуй, я схожу домой. Что, в самом деле, мы — каторжные?.. — засмеялся он и стал надевать пальто.
Михаил Юрьевич так и не осуществил намерение подыскать более удобную квартиру. Да и привык он к докторскому дому, порядки в котором оказались не так уж стеснительными.
Сережа носился по всему дому, лазал на чердак, Марк Осипович, видно, любил детей, смотрел сквозь пальцы на шалости. Наталья Федоровна помогала доктору: вела запись больных, ассистировала при небольших операциях, делала перевязки. Года два назад она закончила курсы сестер милосердия, и это была ее первая практика.
Потапов был в том приподнятом, бодром состоянии, которое отличает людей, когда дело у них спорится.
— Гляди, Наташа, какое солнце восходит. Прелесть! — восклицал он, останавливаясь возле окна и вытирая руки краем полотенца, перекинутого через плечо.
Наталья Федоровна несла к столу кипящий самовар. Поставив его на поднос, она с улыбкой поглядела на мужа.
— Да посмотри же, посмотри... Не часто приходится наблюдать такую игру красок.
Солнце чуть поднялось над крышами. В чистом голубом небе плыло прозрачное, тающее в ярких лучах одинокое облачко.
Михаил Юрьевич коротко рассказал о событиях минувшей ночи.
— Обедать придешь? — спросила Наталья Федоровна.
— Ой, вряд ли. Я теперь человек ужасно занятой. Пропащий человек, — сказал он, смеясь одними глазами, — Вот не знаю, где взять десяток возов дров для пяти школ, имеющихся в городе. Чем не проблема для новой власти!
В прихожей Михаил Юрьевич увидел одевающегося Твердякова. Они поздоровались.
— Так когда вы ко мне в качестве пациента? Мы тут с вашей женой целый заговор составили, знаете? — сказал доктор, поднимая воротник пальто и вооружаясь тростью.
— После, доктор. После.
Они вместе вышли на улицу.
Твердяков направлялся в больницу. Путь туда он проделывал пешком при любой погоде. И настойчиво рекомендовал такой же моцион своим пациентам.
— Скажите, Марк Осипович, я вас не очень стесняю как квартирант? — спросил Потапов, поглядев на размашисто шагавшего доктора.
— Меня нет, а вот других, кажется, стеснили, — ответил тот с присущей ему грубоватой простотой. — Если не ошибаюсь, у нас государственный переворот, а?
— Совершенно верно, государственный переворот, — весело подтвердил Потапов.
Оба они осторожно приглядывались друг к другу. Твердяков в такт шагам постукивал тростью.
— А это надолго? — спросил он.
— Надолго. Смею вас уверить, доктор.
— Ну, поглядим. Поглядим. — Пройдя молча десяток шагов, Твердяков неожиданно остановился. — Надеюсь, сударь, вам известно, что готовится всеобщая стачка государственных служащих? Мне, например, предлагают перестать лечить людей. Заметьте, из соображений высшего гуманизма. Вас это не пугает?
— Представьте себе — нет!
Согос давно грозил всеобщей стачкой служащих, и новость, сообщенная доктором, не была неожиданной для Михаила Юрьевича.
— Не пугает в силу привычки обходиться подсобными домашними средствами? — спросил Твердяков, внимательно посмотрев на Потапова: «Что он, не понимает серьезности положения?»
— Не будем упрощать, милый Марк Осипович, — сказал Потапов. — Лучшая часть нашей интеллигенции кровными узами связана с народом и не пойдет против него. Как бы там ни изощрялись краснобаи софисты. Следовательно, всеобщей стачки быть не может.
Твердяков с любопытством поглядел на своего квартиранта.
— Гм! Мне такие аргументы почему-то не пришли в голову. Но под рукой оказалась палка...
— И что же ваш софист? — смеясь, спросил Потапов, живо представив себе разыгравшуюся в доме сцену.
Твердяков, хохоча, сказал:
— Ну, разумеется, был бит.
«Однако занятный старик! Оригинал», — подумал Потапов.
Когда Дронов с мрачным видом положил на стол решение Совета государственных и общественных служащих об объявлении в городе политической стачки, Михаил Юрьевич с неожиданной для секретаря веселостью сказал:
— А ты-то чего нос повесил, Алеша? Грозит Согос — эка невидаль! А мы отберем у них армию. Честное слово, отберем.
Когда Мавлютин с актерским апломбом порывался уйти навстречу смерти, как он говорил, Вера Павловна почти безотчетно открыла ему дверь своего дома. Только позднее она сообразила, что готовность идти он выразил лишь после того, как преследователи покинули двор. Следовательно, опять было лицемерие. Как всегда.
Они познакомились года три назад на балу в Офицерском собрании. Мавлютин, тогда еще подполковник и член какого-то военно-закупочного, комитета в Петрограде, приехал на Дальний Восток ревизовать местные интендантские управления. Здесь он задержался почти на полгода: ездил во Владивосток, где вел переговоры с американскими поставщиками военного снаряжения; посетил Токио. Ему нетрудно было вскружить голову мечтательной и жаждущей счастья молодой девушке. Они поженились.
Примерно через год Вера Павловна начала понимать, что сделала не совсем удачный выбор. Ей не приходилось жаловаться на невнимательность мужа или его супружескую неверность. Дело не в том. Попривыкнув к жене, Мавлютин, обычно скрытный и недоверчивый, при ней почти перестал таиться. Постепенно она начала узнавать о разных неблаговидных поступках: то о подозрительной сделке, где был сорван хороший куртаж, то о подлогах, когда заведомо недоброкачественные материалы принимались от поставщиков как первосортные — за взятку, конечно. С циничной откровенностью он сговаривался при ней с другими дельцами. Он вел операции в широких масштабах, хотел и ее втянуть во все эти сомнительные дела. Однажды, как она поняла из разговора, он предложил устранить человека, который знал слишком много и мог раскрыть их махинации. Через несколько дней тот погиб во время автомобильной катастрофы.
Она потребовала от Мавлютина объяснений. «Милая, все так живут. Все, — равнодушно зевая, сказал он. — Когда и наживаться, как не во время войны? Для тебя стараюсь, для наших детей».
И он принялся рассказывать ей о других своих сослуживцах, членах военных комитетов, приемщиках. Истории были одна грязнее другой. «Боже, в какой мир я попала! Как уберечься от этой грязи?» — думала потрясенная и подавленная Вера Павловна.
На этой почве и начались размолвки с мужем. Стяжательство Мавлютина между тем возрастало. Чем больше нищал народ, чем обильнее лилась кровь на фронте, тем разнузданнее и наглее вели себя люди, пристроившиеся к военному пирогу. Человек, которого Вера Павловна по девичьей неопытности считала честным, благородным и, разумеется, талантливым, на деле оказался полной противоположностью тому, что она о нем думала. Совместная жизнь становилась невозможной, немыслимой.
В довершение всего она узнала о связях Мавлютина с царской охранкой. Свою карьеру Мавлютин начинал в жандармерии, дослужившись до чина ротмистра. По каким-то соображениям он потом перешел в военное ведомство и необычайно быстро стал продвигаться по служебной лестнице. Знакомые глухо поговаривали, что не без участия Мавлютина в 1916 году была разгромлена социал-демократическая организация военного завода. Мавлютин сумел втереться в доверие к одному инженеру, соприкасавшемуся с организацией. На квартире у себя он вел архиреволюционные разговоры, подчеркивал свое недовольство существующими порядками и жаловался на отсутствие смелых и решительных людей, которые могли бы повторить подвиг Пестеля и Рылеева. После ареста инженера и других членов организации он не проявил никакого беспокойства и даже ни разу не вспомнил о них. Сопоставив все эти факты, Вера Павловна с ужасом убедилась, что слухи о его связях с охранкой имеют серьезное основание.
Воспитанная в небогатой интеллигентной семье, где всегда высоко ценили людей, беззаветно служивших народу, она с детских лет приучилась презирать жандармов и ненавидеть предательство. А тут обнаружилось, что ее собственный муж — полицейский провокатор. Это было страшным ударом для нее.
Вера Павловна, однако, не обладала решительным характером. Она одна мучительно и долго переживала семейную трагедию. С точки зрения окружавших ее людей, но было никакого повода для драмы. Но Вера Павловна твердо верила, что, кроме опостылевшего и ненавистного ей мира насилия, лжи и обмана, в котором она вращалась, есть где-то другой мир — мир настоящих человеческих отношений. Она не совсем ясно представляла, как найдет дорогу туда и найдет ли вообще, но у нее хватило мужества, чтобы искать. Рождение сына только укрепило ее в этом решении: она хотела воспитать его честным человеком.
И вот, когда, казалось, она уже выбралась на новую дорогу, на пороге ее дома снова встал Мавлютин.
Вера Павловна содрогнулась, когда в темной комнате услышала за спиной его шумное дыхание.
— Здесь диван. Можете лечь. И прошу, ради всего святого, оставьте меня в покое! — дрожащим голосом сказала она.
— Сама судьба привела меня к тебе. — Мавлютин, выставив вперед руки, осторожно шел по темной незнакомой комнате к стене, возле которой стоял диван. — Нам нужно серьезно поговорить, Вера. Твой уход — недоразумение. Я приехал сюда, чтобы найти тебя, объясниться. Из-за этого рисковал жизнью. Ты знаешь, как относятся теперь к офицерам.
— Не надо больше лгать.
— Клянусь!.. Неужели ты не понимаешь, что мне гораздо проще было уехать в Финляндию, в Швецию, чем тащиться сюда через всю Россию? Только ради тебя...
— Между нами все кончено, навсегда, — отрезала она и вышла, щелкнув с той стороны дверной задвижкой.
— Вера, ты, кажется, говорила с кем-то? Или мне во сне послышалось? — сонным голосом спросила Олимпиада Клавдиевна.
Вера Павловна негромко сказала:
— Спи, тетя. Это я к сыну вставала.
— А утро скоро, не знаешь? — Олимпиада Клавдиевна громко зевнула.
И опять в доме наступила тишина. Только часы мерно тикали в темноте.
— Да, ситуация, черт побери! — пробормотал Мавлютин и беззвучно рассмеялся.
Михайлов и Логунов шли по улице, когда Даша Ельнева показалась из калитки и. почти столкнулась с ними.
— Федор Петрович, наконец-то! Вы как в воду канули, — воскликнула она, радостно улыбаясь и протягивая ему руку в перчатке.
— Здравствуйте! — сказал Логунов, осторожно пожимая ей пальцы.
Сердце у него забилось. Откровенно говоря, он не случайно свернул на эту улицу. Но в этом Логунов не признался бы сейчас и самому себе.
— А ты молчишь, что у тебя знакомые есть! — Михайлов локтем толкнул Логунова в бок. — Разрешите представиться, поскольку товарищ нас не знакомит. Вы в какую сторону направляетесь?.. Вот и нам туда же, — сказал он, предложив Даше руку.
Михайлов на каждом шагу сыпал шуточками, Даша смеялась. Логунов шел позади них и в эту минуту мучительно завидовал товарищу, его умению легко и просто вести разговор. «Вот такие и нравятся девушкам», — думал он.
Даша несколько раз оглядывалась на него, и это еще больше будило в нем чувство досады.
Дойдя до угла, Даша остановилась.
— Так когда вы зайдете к нам, Федор Петрович? — спросила она, коротко глянув на Логунова, и потупила взор. Должно быть, она угадала его состояние, щеки у нее сразу зарделись.
— Зайду, как будет время, — сказал он угрюмо.
— Вера часто спрашивает про вас, Федор Петрович, — продолжала Даша, глядя куда-то мимо Логунова. — Она долго болела, лишь недавно поднялась. И тетя вас вспоминала, правда, правда, — заторопилась она, подумав, что Логунов не поверит этой непроизвольной лжи. — Правда, вспоминала, — повторила она упавшим голосом.
Будь Логунов более наблюдательным, он легко бы разгадал ее маленькую хитрость. Но Логунов все принимал за чистую монету, каждое со слово.
Теперь они шли рядом, а Михайлов молча шагал позади. Логунову хотелось взять Дашу под руку, как это делал Михайлов, но он почему-то робел и ограничился лишь тем, что раз или два поддержал ее за локоть на скользких местах.
— Скажите, вы сейчас очень заняты? — спросила Даша, адресуясь почему-то к Михайлову.
— Нет, мы не торопимся, — сказал тот. — Можем дрейфовать хоть до обеда.
— Тогда пойдемте к нам. Пойдемте, Федор Петрович, — просительным тоном сказала Даша и потянула Логунова за рукав. — И товарищ ваш пусть зайдет. Вера очень обрадуется. Вы же столько хорошего сделали для нас. Пойдемте.
— В самом деле, Федор. Почему не зайти, если просят, — поддержал Михайлов.
Теперь, когда Даша стояла рядом, Логунов понял, что все время ждал встречи с нею. Но мысль об Олимпиаде Клавдиевне останавливала его.
— Тетя сейчас уйдет, у нее урок в гимназии, — сказала Даша, угадав его мысли. — Дома только я и Вера. Мы будем пить чай со свежими булочками. Вы знаете, — она повернулась к Михайлову, — он у нас в прошлый раз стакан разбил. И боится, что тетя станет его пилить. А она только с виду строгая...
— Ага, стакан! — Михайлов круто повернул Логунова к калитке и подтолкнул в спину. — Иди, брат. Придется просить прощения.
У Ельневых в это время происходила очень бурная сцена.
— Нравится тебе или нет, а я останусь здесь. Буду жить сколько понадобится. Гляди не вздумай фортели выкидывать, — угрожающе говорил Мавлютин после неудачных попыток воздействовать на Веру Павловну просьбами или лестью.
Она категорически отказывалась его слушать.
— Вы не смеете. Оставьте мой дом!
— Как бы не так. Нашла дурака, — нагло ухмыльнулся он, думая, что надо задержаться тут дотемна.
— Тогда я позову соседей, — сказала Вера Павловна и пошла к двери.
Он грубо схватил ее за руку и отбросил назад.
— Чертова баба! Хочешь, чтобы я тебя побил, а? — в бешенстве зашипел он. — Сиди и не двигайся. Имей в виду, мне терять нечего.
В этот момент в комнате появилась разгневанная Олимпиада Клавдиевна. Она уже давно прислушивалась к ссоре, готовая прийти на помощь. Вера Павловна утром рассказала ей об обстоятельствах появления Мавлютина в их доме.
— Всеволод Арсеньевич, мне, старой женщине, стыдно за вас. Стыдно, да! Вы, офицер, угрожаете женщине. Ну, меня вы не запугаете, нет! — решительным тоном заявила она и храбро подступила к нему.
Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы в это время не постучали в дверь.
— Даша вернулась, — сказала Олимпиада Клавдиевна. Она безошибочно угадывала племянницу по стуку.
Даша не знала, что в доме ночевал Мавлютин. Тетушка и Вера Павловна не сочли нужным сказать ей об этом. Но сейчас обе обрадовались ее приходу.
О Мавлютине этого нельзя было сказать.
— Я сам открою. Оставайтесь здесь, — сказал он и быстро вышел в прихожую.
В окошечко Мавлютин увидел матросов и сразу почувствовал слабость в коленях. «Это за мной пришли. За мной», — подумал он в панике.
Он заметался в поисках выхода. Ну конечно так. Мавлютин быстро нахлобучил шапку, сорвал с вешалки пальто, но второпях никак не мог попасть в рукава. Отодвинув засов входной двери, он беззвучно отпрянул в соседний чулан.
— Проходите, пожалуйста. Проходите, — говорила Даша.
В коридорчике зашаркали ногами.
Мавлютин стоял рядом в чулане и трясся как осиновый лист. Что, если кому-нибудь вздумается открыть эту дверь? Нет, кажется, пронесло!
Оба матроса прошли за Дашей прямо в дом. Теперь, пока они ищут его там, нельзя терять ни секунды. Он мигом выскочил на крыльцо и побежал через двор, волоча по снегу пальто.
Только на другой улице Мавлютин одумался. Почему он предположил, что матросы пришли за ним? Скорее случайное совпадение. А, все равно — назад не возвращаться!
Но куда идти?
А в доме разговор явно не клеился. Даша никак не могла понять причину внезапной холодности сестры. Она будто и не рада была приходу Логунова.
Олимпиада Клавдиевна с воинственным видом расхаживала по гостиной.
«Немудрено, что Федор трусит. Видать, задористая тетка», — поглядывая на нее, думал Михайлов. Как и Логунов, он видел, что они пришли не вовремя.
Даша в меру своих сил старалась поддерживать разговор.
— Я видела здесь флотский оркестр. Наверно, устраивается вечер? — спросила она.
— Похороны, — мрачно сказал Логунов.
— Какие похороны? — Олимпиада Клавдиевна остановилась перед ним.
— Сегодня ночью один офицер убил конвоира, ведшего его в тюрьму, и скрылся. Конвоиру семнадцати лет не было — мальчишка, — пояснил Михайлов.
Вера Павловна страшно побледнела.
— Убил? Он убил...
Олимпиада Клавдиевна поспешила к ней со стаканом.
— Вера, выпей воды. Хочешь, я брому накапаю?
Но Вера Павловна отстранила ее.
— Я знаю, кто убийца! Он здесь, в этом доме, — твердым, окрепшим голосом сказала она.
— Вера, что ты говоришь! Одумайся, — в ужасе вскричала Олимпиада Клавдиевна.
— Нет, я должна... Я перешагну через это, — все так же громко и твердо говорила Вера Павловна. — Он мой бывший муж — Мавлютин. Прибежал сюда ночью. За ним гнались. Я не знала, что он натворил. Задержите его.
Повинуясь ее взгляду, Михайлов кинулся в переднюю
Даша только теперь поняла все, всплеснула руками. Вот так новости!..
Олимпиада Клавдиевна была похожа на переполошившуюся наседку, выведшую утят и видящую, как ее питомцы вдруг пустились в плавание по бурной быстрой реке. Она ахала и вздыхала.
Михайлов вернулся.
— Он, видно, как мы пришли, сразу же улизнул. Гнаться бесполезно.
...Михайлов шел по улице и улыбался людям. Улыбнулся и Мавлютину, повстречав его на одном из перекрестков.
Мавлютин заметил, как невысокий матрос сказал что-то своему товарищу и при этом указал рукой на него. «Узнали», — с пробудившимся страхом подумал он.
А Михайлов говорил Логунову:
— Ты знаешь, какая это женщина? Нет, ты не знаешь!.. На твоих глазах человек второй раз на свет родился, а ты даже этого не заметил. Какую, брат, целину вспахала революция! Какие всходы будут! Вот так глядишь на человека, — он показал на уходящего Мавлютина, — и разве разберешь, кто он такой? Сложная, брат, штука — жизнь. Человека понять — это не траву скосить.
Мавлютин еще раз оглянулся на них и свернул в первый же проходной двор.
После второй встречи с моряками он некоторое время бродил по улицам, размышляя, у кого из знакомых легче укрыться. Идти к Левченко нельзя, к Бурмину или Чукину тоже. За их домами, несомненно, ведется наблюдение. Варсонофия Тебенькова нет в городе, и квартира у него заперта. В гостиницу не пойдешь. Ввалиться к кому-нибудь из местных обывателей? Мавлютин усмехнулся, представив себе, как его вежливо станут выпроваживать. Черт возьми, выходит, и податься некуда.
Он догнал неторопливо идущего куда-то Хасимото.
— О, здравствуйте! — сердечным тоном поздоровался японец и вопросительно посмотрел на него.
— Извините. С моей стороны будет неосторожностью стоять и разговаривать с вами, — хмуро сказал Мавлютин.
— Пустяки, — возразил японец. — Вас постигло разочарование. Но не следует отчаиваться. Счастье переменчиво, как говорит народная мудрость.
Судя по внешнему виду, Хасимото пребывал в отличнейшем настроении.
— Мне удалось бежать после ареста, — пояснил Мавлютин, оглядываясь.
— Это другое дело, — согласился коммерсант и достал свою визитную карточку. — Рад счастливому случаю помочь вам. Это рекомендация. — Вы видите дом с зеленой крышей? Там японское консульство. Идите смело, вас укроют. До свидания!..
Когда Ельневы остались одни, Олимпиада Клавдиевна против обыкновения не разразилась упреками. Она молча ходила по комнате, передвигала вещи, вздыхала. Гнев ее против Мавлютина еще не остыл. Если она не во всем одобряла поведение Веры Павловны, то в главном ее племянница была безусловно права. И как он втерся в доверие, такой подлец!
Даша восхищенными глазами глядела на сестру: такой она ее еще не знала. Очень удачно, что она позвала матросов. Бог знает, что тут могло произойти.
Ночь прошла тихо.
Утром Олимпиада Клавдиевна ушла в школу на занятия.
Даша только взялась за книгу, как услышала в передней громкие возгласы, звуки поцелуев. Заинтригованная, она помчалась в гостиную. Сквозь полуоткрытую дверь она увидела незнакомую пожилую женщину, снимавшую платок и шубенку.
— Насилу разыскала вас. Уж я ходила, ходила. Думала, адрес не тот, — говорила она немного хрипловатым голосом. — Как вы тут — живы-здоровы?.. Что-то ты исхудала, милая... Болела, а? Болезнь не красит. А малыш ничего? Ну, слава богу! Матери было бы дитя здорово — сама все стерпит.
— Даша, это Анфиса Петровна, стрелочница, что мне помогла, — сказала Вера Павловна, заметив сестру и поманив ее в прихожую.
Анфиса Петровна глянула на Дашу светлыми, ясными глазами.
— Похожи. Сразу можно сказать, что сестры.
Она вынимала из корзинки какие-то узелки, свертки.
— Это — мороженое молоко, на холод надо вынести. Здесь — яички... А где руки помыть? — И покончив со всем этим, сказала: — Теперь, Вера, показывай мне твоего сына. Каков молодец?
Анфиса Петровна сама развернула пеленки, потрогала щечки, ножки ребенка, подняла его на руки.
— Подрос!.. Парень крепкий, — веско сказала она. — Будет матери кормилец.
— Когда еще! — улыбаясь, польщенная ее похвалой, заметила Вера Павловна.
— А не заметишь, как подтянется. Особенно, если они друг за дружкой идут. Я, милая моя, семерых выходила, — с горделивой радостью сказала она. — Да ты ведь видала. Чем плохие парни? Сколько лет возле них, не разгибая спины. Пеленки, распашонки... Хоть дитя и криво, а все матери диво... Вот нынче мне говорят: поезжай, Анфиса Петровна, на краевой съезд — делегаткой. Свою Советскую власть ставить. У меня дети, разве я им худого пожелаю — поехала. Такое уж дело, что надо идти смело...
Даше Анфиса Петровна понравилась. В устах этой женщины самые обычные слова и понятия вдруг обретали глубокий смысл. Просто интересно было следить за тем, как она умела неожиданно повернуть разговор. Даша перебралась со своими учебниками на кухню и жадно прислушивалась к беседе.
— Ты что, егоза, не идет ученье на ум? Учись, учись, — заметила Анфиса Петровна, отвечая ей дружеской улыбкой. — Твое дело молодое, ты нас, баб, не слушай.
— Да какая же она баба, Вера наша? — Даша закрыла учебник и рассмеялась.
— Все одно баба, — сказала Анфиса Петровна. — Девкам этого не понять. Ветер у вас в голове.
— Ступай, Даша, к себе. Ты же ничего сегодня не приготовила, — вмешалась Вера Павловна.
Даша покорно собрала учебники. Но какой-то бесенок, видно, вселился в нее сегодня. Уходя, она крепко обняла сестру и зашептала ей на ухо:
— Знаешь, мне ужасно понравился твой Логунов! Ты только не сердись, пожалуйста.
Вера Павловна только руками развела.
Едва она успела напоить гостью чаем и приняться за мытье посуды, как в передней раздался звонок. Вернулась Олимпиада Клавдиевна.
— Ну, милая, столько новостей, — начала она и осеклась, заметив мывшую полы Анфису Петровну.
Подоткнув юбку, та ловко гнала перед собой тряпкой пенистую грязную воду.
— Здравствуйте! Поздно у вас, в городе, убираются. Как раз подоспела к этому делу, — сказала она, когда Вера Павловна представила ее хозяйке дома.
— Зачем же вы, право... Веруша, как ты могла допустить? — Олимпиада Клавдиевна была несколько смущена.
— Я за свою жизнь столько полов этих перемыла, что один лишний мне не повредит.
Анфиса Петровна быстро закончила начатую работу, Вера Павловна тем временем приводила в порядок вещи, передвигала вазочки, статуэтки.
— Представьте, у нас преждевременные каникулы. Учителя гимназии решили присоединиться к забастовке служащих, — говорила Олимпиада Клавдиевна, тоже вооружаясь тряпкой и принимаясь тереть стекла книжного шкафа.
— Зачем же вам бастовать? — Анфиса Петровна недоуменно посмотрела на хозяйку.
— Милая, я сама толком не знаю. Тут — политика, там — дети. И все это, оказывается, ужасно трудно совместить.
Олимпиада Клавдиевна удивилась, узнав, что Анфиса Петровна является делегаткой краевого съезда Советов.
— Вы, простая женщина... без специальных познаний? Как же вы можете разобраться во всех этих политических программах? У меня от них голова кругом идет.
— Наши понятия известные — нужда да горе. Маемся, маемся, без просвета впереди. — Анфиса Петровна подобрала распустившиеся волосы, вздохнула. — А уж как хочется, чтобы хоть дети по-человечески жить стали.
— Ах, дети, дети! Как часто мы ограничиваем себя ради них, — Олимпиада Клавдиевна старательно водила по стеклу тряпкой. На мгновение перед ее взором мелькнули русые и темные головки, серьезные детские лица с пытливыми глазами. — Милая, не позволяйте толкнуть Россию в пропасть.
— Да кто толкает, кто? — неожиданно раздраженным тоном спросила Вера Павловна.
— Ты сама прекрасно знаешь, — Олимпиада Клавдиевна покосилась на Анфису Петровну и, не договорив, оборвала фразу.
— А я теперь не уверена в этом. Нет! — резко возразила Вера Павловна.
Олимпиада Клавдиевна удивленно и строго посмотрела на племянницу.
— Странно, что у тебя вдруг обнаружились такие симпатии.
— Ничего нет странного. Я просто пытаюсь составить собственное мнение о происходящем.
Повыше переносицы у Веры Павловны появилась упрямая вертикальная складка; она спокойно выдержала взгляд тетушки.
— Ты, видно, хочешь прослыть в нашей среде белой вороной. Существуют все-таки твердо установившиеся понятия, взгляды... В конце концов политика — не женское дело, — сказала Олимпиада Клавдиевна.
— Почему не женское? Кому же устраивать жизнь, как не нашей сестре — женщине? Чай, тяготы первыми на ее плечи ложатся, — возразила Анфиса Петровна.
— Удел женщины — семья. Не станете же вы это отрицать.
— Семья. Да с семьей-то не на острове живешь — среди людей. А с людьми жить — заботы делить. Как же иначе? — Анфиса Петровна улыбнулась широкой, доброй улыбкой женщины, повидавшей разного на своем веку. — Нынче много развелось охотников учить, как жить надо. Иной хлопочет, хлопочет, не сразу поймешь, чего хочет. На словах — что на гуслях, а на деле — что на балалайке. По бабьему своему разумению я так полагаю: кроме большевиков, о простом человеке никто не позаботится. Большевиков и буду держаться. С этого меня никто не собьет.
Присев на стул и покачивая правой рукой, будто она у нее затекла, Анфиса Петровна рассказывала о жизни на их станции, людской нужде, горестях и надеждах. Была в ее суждениях та неумолимая логика фактов, перед которой не могла не спасовать Олимпиада Клавдиевна.
— Вот вы говорите: народу учиться сперва нужно. Верно! К свету всякая травинка тянется, человек — к знанию. — Анфиса Петровна усмехнулась. — Что ж, потянулись, а нас сразу по рукам — хлоп. Забастовка... Детишек, видишь, и тех учить отказались. Это правильно?
Олимпиада Клавдиевна почувствовала, что щеки у нее залились краской.
— Милая, не нужно упрощать! — с досадой и некоторым смущением сказала она.
Анфиса Петровна переглянулась с Верой Павловной, и обе рассмеялись.
Третий краевой съезд Советов рабочих и солдатских депутатов Дальнего Востока открывался в тот же день вечером (двенадцатого декабря по старому стилю). Прибывали делегаты — представители Владивостокского, Никольск-Уссурийского, Спасского, Благовещенского, Зейского и других местных Советов. Ждали также несколько человек из Харбина, где контрреволюция по указке консульского корпуса уже приступила к разоружению революционно настроенных ополченческих дружин. Всего к открытию съезда прибыло семьдесят два делегата. Часть товарищей, в том числе энергичный председатель Владивостокского Совета Константин Суханов, задержалась в связи с проведением Приморского областного земского собрания. Решался вопрос о том, за кем пойдет дальневосточное крестьянство.
С августа, когда проходил второй краевой съезд Советов, многое изменилось. Победа социалистической революции в центре и первые же декреты рабоче-крестьянского правительства в Петрограде, подписанные Лениным, — декрет о мире, о земле, о восьмичасовом рабочем дне — не оставляли камня на камне от злостных измышлений врагов Советской власти. Они отвечали самым сокровенным желаниям простых людей.
«Вся власть Советам!» — в этом пламенном призыве партии большевиков были сконцентрированы надежды и чаяния народных масс. И эти же слова вызывали ненависть и страх у эксплуататоров не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. Два мира вставали друг против друга — мир трудящихся, угнетенных вчера и ставших свободными сегодня, и мир обреченного с этого часа на гибель капитализма.
Не всем было дано видеть, как решительно и неуклонно склонялась стрелка на весах в пользу нового, только что народившегося общественного строя. Видные публицисты, писатели, знатоки социальных проблем, попы и философы пророчествовали, что Советская власть не продержится и двух недель, во всяком случае, просуществует не дольше месяца, что она есть исчадие ада и рухнет по гневу божьему, что ей надлежало бы родиться по меньшей мере лет сто спустя. Советскую власть предавали анафеме в церквах, поносили ее на страницах газет, уверяли, что с нею совершенно не нужно считаться.
А в то же время немецкие и австрийские рабочие и венгерские крестьяне, одетые в шинели, братались с русскими солдатами. Металлисты из Ланкастера, докеры Лондона, трамвайщики Чикаго, потомки парижских коммунаров из предместья Сен-Дени, моряки Сиднея и шанхайские кули слали Ленину письма и телеграммы, приветствовали русскую революцию и первое в мире государство трудящихся. Американский писатель Джон Рид по свежим впечатлениям русского Октября писал о «десяти днях, которые потрясли мир».
Показательным для изменившегося соотношения сил в крае был уже сам состав съезда, перед которым должен был выступить и отчитаться соглашательский краевой исполком. Более половины мест принадлежало большевикам. Именно их облекли высоким доверием пролетарии Дальнего Востока. К ним примыкали левые эсеры. Фракция же меньшевиков едва собрала девять мандатов, большей частью за счет представителей Благовещенского Совета. Там позиции правых эсеров и меньшевиков были пока прочными.
Обстановка в городе в момент открытия съезда была напряженной. Только накануне исполком Хабаровского Совета ликвидировал русановскую авантюру. Русанов и его секретарь эсер Граженский находились под домашним арестом. В некоторых учреждениях и городских гимназиях началась политическая стачка служащих и учителей. Хабаровск по существу был лишен нормальной связи с центром. Очень запутанным и острым был продовольственный вопрос. Амурский продовольственный комитет, располагая значительными излишками хлеба, упорно препятствовал доставке его в Приморскую область. Завоз хлеба из Маньчжурии становился фактически невозможным из-за вмешательства империалистов, начавших осуществлять голодную блокаду Советской России. Предприятия простаивали ввиду нехватки топлива и сырья. Владельцы нарочно запутывали учет, снабжение, закрывали предприятия якобы из-за убыточности. Почти полностью была дезорганизована работа золотодобывающей промышленности. В рыбном деле ключевые позиции были захвачены иностранцами — японскими рыбопромышленниками. Они стремились прибрать к рукам и рыбалки на Нижнем Амуре. Английский капитал внедрялся в горное дело. Американцы монополизировали торговлю и снабжение сельскохозяйственными машинами и начали устанавливать свой контроль над железными дорогами. Ко всему этому добавлялись трудности, связанные с пограничным положением края, с демобилизацией запасных солдат из армии. Наплыв в край бегущих из центральных губерний царских офицеров, чиновников, буржуазных дельцов заметно активизировал местных контрреволюционеров.
Распространялись слухи о близком вмешательстве иностранцев в политическую жизнь края, об интервенции. Поведение консульского корпуса во Владивостоке, Харбине и Иркутске нельзя было назвать иначе, как враждебным. Это соответствовало позиции, занятой послами великих держав в Петрограде. В Вашингтоне, Лондоне, Париже, Токио и Харбине плелись нити большого антисоветского заговора, в планах которого предусматривалась первоочередная оккупация русского Дальнего Востока и Сибири. Уже английская разведка направляла царского адмирала Колчака в Пекин, чтобы в подходящий момент он мог сразу появиться на сцене. Гучков, Путилов, Хорват — эти «столпы» рухнувшего царского режима — начали серию совещаний с дипломатами стран Антанты и Японии. Казачий есаул Семенов, будущий палач трудящихся Забайкалья, формировал на станциях Чжалайнор и Маньчжурия банды головорезов. Американские конгрессмены обхаживали сибирских кооператоров и областников, подбивая их на объявление автономии под вывеской «Дербер и К°».
Обстановка была сложной. Но не тревога и опасения, а твердая уверенность в победе революции характеризовала настроение подавляющей части делегатов съезда.
Это настроение Потапов почувствовал сразу, едва открыл дверь помещения, где собралась фракция большевиков. Заседание уже началось. Михаил Юрьевич взял стул и сел позади, высматривая, у кого бы узнать о принятых здесь решениях.
Рядом сидел пожилой плотный человек в кожаной тужурке, похожий на заводского механика или железнодорожного машиниста. Сложив большие рабочие руки на коленях, он внимательно слушал очередного оратора.
— Скажите, порядок съезда уже обсудили? — шепотом спросил Михаил Юрьевич.
— Да, — коротко ответил сосед, повернув к Потапову круглую лобастую голову.
Лицо у него было бритое, черные усы и небольшая узкая бородка аккуратно подстрижены. Из-под густых бровей глянули живые выразительные глаза. Потапову он смутно кого-то напоминал.
— Мы не встречались прежде?
— Возможно, возможно, — сказал сосед глуховатым баском. — А вы кто будете?
Михаил Юрьевич назвал себя.
— Рад познакомиться. Я — Мухин, — приветливо сказал человек в кожанке и протянул Михаилу Юрьевичу крепкую жилистую руку.
— Федор Никанорович! — обрадовался Потапов. Он много слышал об этом известном революционере-подпольщике, руководителе амурских большевиков.
— Совершенно верно — Федор Никанорович... Так в церкви нарекли, — с доброй усмешкой подтвердил Мухин. — А вы что же опоздали, товарищ дорогой?
— Опоздаешь тут! — Потапов с горечью махнул рукой. — Битых три часа проторчал на телеграфе, саботажников убеждал. А тут вкладчики осаждают банк и сберегательную кассу. Кто-то пустил слух, что ночью мы будем изымать из кредитных учреждений всю денежную наличность. Иначе говоря, грабить банк.
— Старые приемчики. Провокация. — Мухин покачал головой, брови у него почти сошлись над переносицей. — Меня вот так однажды в компанию фальшивомонетчиков зачислили. Без зазрения совести. И чуть не упекли на каторгу по вздорному обвинению. Знают, подлецы, на какой струне играть.
Они разговаривали негромко, но мешали сидящим впереди. Кто-то шикнул на них.
— Ну, послушаем, — Мухин сложил опять руки на коленях и сощурил глаза. Но уже через минуту снова повернулся к Потапову: — У меня к вам есть некоторые просьбы. Я уж воспользуюсь встречей, не обессудьте.
— Эй, «Камчатка»! У вас там отдельное совещание, да? — спросил председатель, строго блеснув глазами.
Это был Губельман — представитель областного комитета партии, подвижной чернобровый человек. Ни одной минуты он не сидел без дела: то пошепчется с кем-нибудь за столом, то настрочит записку или слушает выступление и в такт словам покачивает большой кудлатой головой, Видно, он тоже присматривался к людям, прощупывал настроение.
Повстречавшись глазами с Потаповым, он взглядом спросил: «Как дела?» — «В порядке», — также взглядом ответил Михаил Юрьевич.
— Ну, кажется, по всем вопросам договорились. Будем кончать, — посмотрев на часы, сказал председатель. — Держаться твердо, товарищи! Теперь соглашателям из краевого исполкома некуда податься. — Он крутнул головой, пробежал быстрым взглядом по лицам. — Будем открывать съезд, товарищи!
Послышался шум отодвигаемых стульев.
— Да-а, вот так и решится проблема. Помните: «Из искры возгорится пламя...» — сказал Мухин, идя вместе с Потаповым к выходу из зала. — В газетах кричат о неминуемом крахе большевиков. А Советская власть в это время утверждается на берегах Тихого океана. Хорошо мы угадали родиться в такое время.
Тревожно было в городе в эту ночь. Кто-то ловко и умело пугал обывателя грозящими бедами. Слухи, шепотки ползли из дома в дом.
Возле городского банка волновалась толпа. Помимо вкладчиков, здесь немало зевак и разных подозрительных личностей.
Рабочие и солдаты, проходя мимо, с усмешкой посматривали на озябших старух и дородных лавочников.
Падал редкий снежок, мягко похрустывал под ногами.
— Граждане, расходитесь! Право, не о чем беспокоиться, — уговаривал публику невысокий человек в коротком осеннем пальто. — Вот разберемся с делами, и банк начнет нормально действовать. Никто ваших денег не тронет.
— Зачем же тогда комиссара поставили?
— А затем, чтобы народное добро зря не растаскивали, — терпеливо разъяснял человек в пальто. — Мы знаем, что вашими деньгами хотят заплатить саботажникам.
— Ло-ожь!
— Нет, это правда.
— Пусть скажет об этом сам комиссар.
— А я и есть комиссар, — сказал человек в пальто. Достал папиросу, повернулся спиной к ветру и чиркнул спичкой. Вспышка осветила на мгновение его худое лицо с запавшими щеками и большим сабельным шрамом наискосок через левую бровь к середине лба. — Я вам точно говорю. Бели угодно, можете сейчас выделить двух-трех человек. Пусть посмотрят документы, — продолжал он тем же спокойным, убеждающим тоном.
— В самом деле. Почему не принять предложение? — заколебался кто-то в очереди. — Я бы пошел.
— Вот-вот! Таких и ищут — доверчивых... Не верьте ему! Он за немецкие деньги совесть продал, — истерично закричала разодетая в меха женщина. Протолкавшись вперед, она оказалась лицом к лицу с комиссаром. — Вы только посмотрите на его рожу! У, разбойник!.. Вы посмотрите, — продолжала она высоким сварливым голосом, хватая комиссара за плечи и поворачивая его лицом к фонарю, горевшему над входом в банк. — Из какой шайки тебя сюда прислали, грабитель!
— Ну, дура! Дура-а, — сказал комиссар, сбросил с плеч ее руки и отступил на шаг. — Шрамом я царю обязан. Казак полоснул шашкой в тысяча девятьсот пятом году.
— Бог шельму метит! — с веселым злорадством крикнул подобравшийся вслед за женщиной верзила.
— Слышь, народ, у него, должно быть, ключи, — быстрой скороговоркой сказал кто-то.
Очередь сразу придвинулась и зашумела.
— Еремей, дай ему разок в ухо. Небось станет сговорчивее, — предложил тот же ехидный голос.
Налетевшим порывом ветра качнуло фонарь; по лицам столпившихся возле комиссара людей пробежала черная тень.
— Может, отдадите ключи по-хорошему? — глухим голосом спросил верзила.
Опять качнулся фонарь, тень метнулась, но уже в обратном направлении.
— По-хорошему я мог бы тебя сейчас уложить на месте. И следовало бы, — спокойно и тихо сказал комиссар, не обнаружив растерянности или страха. — Да вижу, чужим умом живешь. Ох, не доведут тебя до добра такие советчики. Посторонись-ка, парень! — И он с укором обратился к остальным: — Вы вот уши развесили, а вам такое напоют — закачаешься. Толкают на нехорошее дело.
— Нехорошее... Верно, — согласился голос из толпы. — У вас ведь охрана.
— А как же! — весело подтвердил комиссар. — Ей на такое безобразие спустя рукава нельзя смотреть. Есть воинский устав.
— Станете стрелять?..
— Будем защищать банк от громил. Имейте это в виду, — сказал комиссар и постучал в калитку.
Проводив вечером Анфису Петровну до здания, где открывался съезд, Вера Павловна и Даша долго ходили по улицам, прислушивались к разговорам.
Обеих поражало разное настроение людей. Одни — преимущественно люди с окраин — открыто высказывали свое удовлетворение. Молодежь из Арсенальской слободки, невзирая на мороз, пела песни и лихо отплясывала под гармошку. Зато чистая публика громко высказывала возмущение. Только усиленные красногвардейские патрули на улицах сдерживали готовые прорваться наружу страсти.
Наслушавшись всякого, сестры с чувством тревоги вернулись домой.
Дома оказался неожиданный гость — Сташевский.
— Политическая стачка служащих поставит большевиков в безвыходное положение. Не пройдет и месяца, как они запросят пардону, — говорил он, беспокойно озираясь по сторонам.
Всегда уверенный в себе, импозантный, Сташевский сейчас казался пришибленным. Видимо, он сам не очень верил тому, что предсказывал.
Олимпиада Клавдиевна состояла с ним в дальнем родстве, но не любила заважничавшего сверх меры начальника почтово-телеграфной конторы. Встречались они редко.
— Боже мой, где вы ходите так поздно? Я чего только не передумала, — воскликнула она, когда племянницы одна за другой вошли в столовую.
Сташевский поздоровался с ними снисходительным кивком головы.
— Тетя ваша совершенно права, выражая беспокойство. Сейчас можно ожидать любых эксцессов, — сказал он с важностью и положил себе в стакан еще один кусок сахару. — На глазах у нас человеческая личность превращается ни во что, — продолжал он, помешивая чай ложечкой и присматриваясь исподволь к сестрам, похорошевшим после прогулки по морозцу. — Человека могут оскорбить словами или действием, обобрать до нитки, лишить его имущества я самой жизни. Короче говоря, вас экспроприируют в интересах светлого будущего. Слуга покорный. Такая перспектива меня нисколько не привлекает.
— Ах, это ужасно! — сказала Олимпиада Клавдиевна. — В конце концов жизнь человеческая так коротка.
— Вот начнется террор, так ее еще укоротят, — с угрюмым видом изрек Сташевский.
— Ну, вы сегодня просто не в духе, я заметила сразу. — Олимпиада Клавдиевна не хотела принимать всерьез его мрачных предсказаний. — Вера, ты почему торопишься?.. Сколько раз говорю ей, чтобы не глотала горячий чай. Это вредно.
— Может быть. Но я так люблю, — сказала Вера Павловна. — Крепкий горячий чай — моя страсть.
— Конечно, ты уже в таком возрасте, когда со мной можно больше не считаться. Я этого ждала, ждала, — сказала Олимпиада Клавдиевна; все ее давние невысказанные обиды прорвались в смешном и нелепом упреке. — Вот современная молодежь, — продолжала она, обращаясь к Сташевскому. — Дома они глотают кипяток и политическую литературу, на улице готовы примкнуть к любой демонстрации, лишь бы под красным флагом. Их идеал — матрос.
— Гм... Да... — мычал Сташевский, глотая такой же горячий чай. — Позвольте, почему... матрос? — удивился он.
— Не меня об этом спрашивать.
Даша, опустив глаза к тарелке, чувствовала, что неудержимо краснеет.
— А ты что цветешь, как маков цвет? Погляди, Вера!.. Что с Дашей? — сказала Олимпиада Клавдиевна, внимательно посмотрев на смутившуюся до крайности племянницу.
Впрочем, неприятной темы больше не касались. Даша, допив чай, незаметно выскользнула из столовой. Ушла в детскую и Вера Павловна.
Сташевский не торопился уходить.
— Ах, какие все прыткие. Зажечь мировой пожар, создать то, что самой историей предопределено лет так, примерно, через сто. Так нет. Мы — азартные люди. Нам подай сейчас же социализм... — желчно говорил он. — Сказка о рыбаке и рыбке вечно следует за нами. А мы, зная ее мораль, все же творим без конца одни и те же ошибки. Спешим да людей смешим.
Олимпиада Клавдиевна недоумений посматривала на засидевшегося гостя. Не ради же этих рассуждений он пришел к ней.
— М-да! Вот так и живем... На краю разверзшейся пропасти, — продолжал жаловаться Сташевский, не зная, как приступить к делу. — Я ведь, Олимпиада Клавдиевна, пришел по-родственному, — решился он наконец, и заискивающая улыбочка появилась на его холеном, немного одутловатом лице. — Вы слышали об аресте Русанова и Граженского? Мне тоже грозит сия участь, — упавшим голосом сказал он и сложил крест-накрест руки на животе.
— Бог с вами, Станислав Робертович! Уж вы-то что плохого сделали? — воскликнула Олимпиада Клавдиевна.
— Предвижу и такой случай, — тоном примирившегося с неизбежным сказал Сташевский. — Как член стачечного комитета я должен заблаговременно принять меры. Да-с. Если я оставлю у вас на сохранение... Нет, не пугайтесь! Никаких бумаг, — он предупреждающе поднял палец, затем приложил его к губам, давая понять, что все останется между ними. — Столовое серебро, золотой браслет и кольца жены... еще кое-какая мелочь. Один маленький чемоданчик. О, благодарю! Я знал, что могу на вас рассчитывать. — Сташевский рассыпался в благодарностях, хотя Олимпиада Клавдиевна не успела и слова сказать.
— Станислав Робертович, я, право, не знаю... — она никак не могла придумать приличный предлог, чтобы отклонить эту странную просьбу.
— Фу, как гора у меня с плеч! — не слушая ее, повеселевшим голосом сказал Сташевский. — Значит, завтра жена занесет чемоданчик. Позвольте ручку, Олимпиада Клавдиевна! Вот так, — он изогнулся, чмокнул губами ее руку повыше запястья и поспешил откланяться.
Когда вернулась гостья, Олимпиада Клавдиевна так и не слышала. Сон сразу сморил ее, едва голова очутилась на подушке.
Дверь Анфисе Петровне открыла Вера Павловна. Она проводила ее в свою комнату, где на диване была приготовлена постель,
— Уж извините, пожалуйста! Только что кончилось собрание, — сказала Анфиса Петровна, расплетая косы.
Погасив свет, они не скоро еще смогли заснуть.
— Народу, народу сколько! — с наивным удивлением говорила Анфиса Петровна. Она со всеми подробностями стала рассказывать об открытии съезда, выборах президиума и о том, как меньшевики хотели без публики на закрытом заседании поставить вопрос об отношении съезда к заговорщику Русанову, а большевики не дали им это сделать, заявив, что от народа таить тут нечего, и как были избраны уполномоченные, чтобы принять ключи и дела от старой власти. Рассказывая об этом, она вдруг всхлипнула в темноте, сглотнула слезы и рассмеялась: — Дура я, дура! Радоваться надо, а я плачу...
На втором заседании съезд обсуждал отчет Дальневосточного краевого комитета Советов.
— Бородка Минина, а совесть глиняна, — коротко отозвалась Анфиса Петровна о докладчике. — Еще хотели, чтобы им благодарность вынесли.
— Но ведь работали же люди, старались, — сказала Олимпиада Клавдиевна, знавшая председателя краевого исполкома меньшевика Вакулина.
— Старались. Да для кого? От их стараний не счесть страданий.
Анфиса Петровна не стеснялась прямо высказывать свое мнение и умела облечь это в живую, образную форму.
Олимпиада Клавдиевна не без интереса приглядывалась к своей гостье. Ее поражало то, как легко и просто эта женщина вошла в их дом и сколько новых мыслей принесла она сюда. Невольно она сравнивала ее слова с тем, что здесь накануне говорил Сташевский, и не знала, кому из них следует больше верить. Сама она в известной мере разделяла опасения Сташевского.
Между обеими женщинами установились довольно сложные, но в основе дружеские отношения.
— Бастуете? Ох, ругать вас некому, — говорила напрямик Анфиса Петровна, когда хозяйка пожаловалась на скуку.
— Боже мой, не могу же я одна из всей гимназии идти заниматься. Кстати, ученики тоже примкнули к стачке, — оправдывалась Олимпиада Клавдиевна.
— Пороть их некому, сорванцов!
— Поймите, милая. Как от других оторваться? Нельзя. У нас ведь своя корпорация...
— Чего, чего? — Анфиса Петровна выслушала объяснение, покачала головой. — Уж действительно... Народ в одну сторону, а они поперек дороги! Вот в деревне учителя не чудят... учат детишек да еще спектакли представляют. Они за народом, как нитка за иглой.
— Милая, вы не представляете себе всей сложности положения интеллигенции, — защищалась Олимпиада Клавдиевна. — Под угрозу поставлено само существование культуры. Представьте, что в школьный комитет придет недоросль комиссар... Что ему Моцарт или Чайковский!
— А это кто? — с присущей ей непосредственностью спросила Анфиса Петровна. Она жадно впитывала новые понятия, старательно запоминала неизвестные ей имена.
— Как, вы не слышали о Чайковском?! — Олимпиада Клавдиевна всплеснула руками.
— Матушка, а где ж мне слышать? Как поднимешься с зарей, так и топчешься до первых петухов. За стряпней, шитьем да пеленками вся жизнь прошла, — сказала Анфиса Петровна, показав своя натруженные руки. — А летом огород, покос. Коровенку подоить, избу побелить — все женская работа.
— Да, да. Я понимаю... — Олимпиада Клавдиевна сочувственно кивнула головой.
— Только и радости, что песню споешь, когда дитя в люльке укачиваешь. — Строгое лицо Анфисы осветилось улыбкой. — Я песню душевную ой как люблю! И голос был. Уж муж, на что суровый, сурьезный мужчина, а запою — у него, верите, иной раз слезы в глазах. «Эх, говорит, Анфиса! Загубил я твою долю». Станем рядом, поглядим на деток. Какая у них жизнь?.. Вот разве революция выведет на дорогу.
— Учить надо непременно. Старайтесь изо всех сил, — посоветовала Олимпиада Клавдиевна.
Анфиса Петровна с доброй улыбкой матери поглядела на нее. Кажется, она лучше понимала Олимпиаду Клавдиевну, чем та ее...
Четырнадцатого декабря (двадцать седьмого по новому стилю) вечером съезд приступил к обсуждению главного пункта повестки дня — вопроса о текущем моменте и организации центральной власти.
В этот день был исключительный наплыв публики. В зале поставили дополнительно несколько рядов стульев, но их не хватило. Люди сидели на подоконниках, стояли в проходах.
Анфиса Петровна достала два пригласительных билета. Олимпиада Клавдиевна, однако, идти на съезд отказалась.
— Нет, нет! Что обо мне подумают...
— Ну тогда вы собирайтесь, девчата! Не пожалеете, — сказала Анфиса Петровна.
Даша от восторга захлопала в ладоши.
Пришли они пораньше.
Пока зал наполнялся, Даша с интересом рассматривала помещение. Все было просто и обыкновенно. На сцене стоял стол для президиума, покрытый синим сукном. На нем — графин с водой, два стакана. Тремя ровными стопками лежали бумаги.
На красном полотнище аршинными буквами призыв: «Вся власть Советам!»
Разговоры делегатов тоже показались Даше самыми обыкновенными. Она была несколько разочарована. Съезд представлялся ей событием чрезвычайно пышным и торжественным.
Прямо перед Дашей сидел адвокат Кондомиров — хорошо упитанный брюнет с холеной бородой. С ним шептался пожилой, плохо выбритый человек в темной тройке. У себя на коленях он держал портфель и все время щелкал замком, из чего Даша заключила, что он сильно нервничает.
— Постановка данного вопроса на обсуждение съезда преждевременна и с юридической стороны неправомерна — это отправной тезис. Я с ним согласен, — мягким воркующим голосом говорил Кондомиров, поглаживая воздух перед собой округлыми движениями руки. — Передача всей полноты власти местным Советам — анахронизм... новое дробление Руси на уделы.
— Вот именно... анахронизм! — сосед Кондомирова снова щелкнул замком. — Ну, вы меня ободрили. А вот и наш дражайший председатель! — воскликнул он с заметной неприязнью.
Даша повернула голову и увидела идущего с озабоченным лицом высокого широкоплечего человека в темно-сером хорошо выглаженном костюме. Он скрылся за дверью на сцену.
«Так это Краснощеков», — подумала она и стала внимательнее наблюдать за теми, кто направлялся туда.
Недалеко у окна группа людей продолжала ранее начатый спор. Среди них обращал на себя внимание маленький стройный военный в зеленом френче, такой аккуратный, будто он только что сошел с учебного плаката. Засунув большой палец за борт френча, он с хмурым видом смотрел на жестикулирующего перед ним тоже невысокого брюнета с растрепанной шевелюрой и заметно обозначившимся брюшком.
— Ну и что, если мы в одной партии? — спросил военный, нетерпеливо барабаня пальцами. — Или вы хотите связать мою совесть? — и он сделал движение, чтобы уйти.
— Постойте! — брюнет схватил его за рукав. — Зачем торопиться? Подождем, что скажет Учредительное собрание... — он понизил голос, и дальше Даша слышала одно монотонное бормотание.
— Ах, оставьте! — с досадой оборвал военный. — Коалиция с большевиками?.. Ну и прекрасно!
Тут в разговор вступил молчавший до этого высокий горбоносый человек с орлиным взглядом, чем-то напомнивший Даше портрет Багратиона.
— Что такое Учредительное собрание, мы еще посмотрим. А линию Ленина я тоже одобряю. Я за Советы, за то, чтобы немедленно брать власть! — громко и уверенно сказал он.
— Но вы забываете о пограничном положении края, — воскликнул брюнет, взмахнув обеими руками. — Как отнесутся к акту съезда иностранцы? Нам ведь у них хлеб просить.
— Да, что скажет княгиня Марья Алексевна? — иронически протянул горбоносый.
Даша вспомнила, что видела этого человека на вечере в Учительском доме. Он являлся одним из руководителей городского Бюро профессиональных союзов.
Молоденькие учительницы из школы при Народном доме, усевшись позади Ельневых, порицали городских учителей за участие в политической стачке. Они были в синих форменных платьях, с одинаковыми короткими прическами, начинавшими тогда входить в моду.
— Нет, в Имано-Хабаровском союзе другая обстановка! Сельский учитель ближе стоит к народу. Он сам знает нужду, — говорила бойкая веснушчатая девушка с льняными кудряшками.
— Как думаете, господа, прибавят нам с нового года жалованье? — спросила вторая. — Щепетнов обещал.
— Что Щепетнов. Как решит съезд.
— И решит. Вот увидите.
— А как е учебниками?.. Неужели по старой программе...
— Это определит школьный комитет.
Даша сперва слушала без особого внимания. Затем она сообразила, что тут решаются вопросы, которые и ее близко касаются. Постепенно она начинала входить в атмосферу съезда, в случайных репликах почувствовала скрытое напряжение, борьбу, прониклась, как и все, ожиданием чего-то важного, значительного, что должно произойти в ближайшее время.
Вдруг она услышала голос, который заставил ее затрепетать. Не поворачивая головы, еще не видя подошедшего человека, она догадалась, что это Логунов. На нем красная повязка дежурного, сбоку револьвер. На лице у него тоже выражение ожидания.
Логунов поздоровался с Верой Павловной, улыбнулся Даше. Она же, коротко взглянув на него, с серьезным выражением лица смотрела теперь прямо перед собой на бритый затылок Кондомирова, на пустую сцену.
Странное состояние было у нее в эту минуту. Нечто похожее испытывает пловец перед тем, как с прогретого солнцем берега прыгнет в чистую и прохладную глубь реки. Она манит к себе, зовет отдаться ее течению, но что-то еще удерживает пловца, все нервы и мускулы которого напряжены для броска. Еще миг, и не будет возврата назад.
Логунова кто-то позвал, и Даша свободно перевела дух. «Да что это со мной происходит?» — подумала она со страхом и радостью.
Сзади одинокий голос нерешительно запел «Варшавянку».
Чей-то сильный чистый тенор мгновенно подхватил мотив:
Заглушая споры, песня, как лавина, захлестнула зал. Она давала выход напряженному ожиданию и сама как бы вновь родилась здесь.
Даша почувствовала, как к горлу у нее подступил какой-то комок. Радостное возбуждение захватило и ее. Она с силой сжала пальцы сестры, ощутила ответное пожатие.
От дверей к столу президиума пронесли знамена рабочих организаций.
Зал гремел:
Когда показались члены президиума, Даша захлопала в ладоши. Она не слышала слов председателя, не разобрала фамилии оратора, которому он первому предоставил слово. В ее ушах еще звучали слова песни, поразившие ее глубоким смыслом: «Смелей, друзья! Идем все вместе, рука с рукой, и мысль одна!»
«Как это хорошо! Как хорошо», — подумала она и оглянулась, ища Логунова.
Ее удивило отчужденное, враждебное выражение, с каким смотрели на сцену обе учительницы.
— Ты слушай, не вертись, пожалуйста, — сказала Вера Павловна и дернула Дашу за руку.
Даша растерянно посмотрела вперед и только сейчас заметила на трибуне того человека в тройке, который недавно шептался с Кондомировым.
Говорил он бойко, взмахивая рукой и выдерживая паузы.
— Прошлое дает очертания будущего, и необходимо дать контуры будущего для оправдания прошлого, — оратор посучил в воздухе пальцами, как бы ловя невидимую нить. — Мы, марксисты, мыслим социалистический переворот только в мировом масштабе. В Западной Европе, может быть, имеются экономические предпосылки для социального переворота, но зато там еще не созрели предпосылки психологические. У нас же как раз наоборот...
Оратор, как жонглер, помахивал руками, будто перебрасывал словечки: «социальная революция», «террор», «социалистический эксперимент», «утопия».
В зале нарастал шум. Председатель посматривал в зал, на оратора, но пока не вмешивался. Зато один из его заместителей — чернобородый широкоплечий человек — всем своим видом выражал готовность немедленно ринуться в бой.
— Как фамилия оратора? — спросила Даша у сестры.
— Разве ты не узнала? Это Вакулин.
— А тот, с черной бородой?
— Моисей Губельман, — сказала учительница с льняными кудряшками. — Вот он сейчас ему задаст.
Но следующим на трибуну поднялся не он, а Потапов.
— Меньшевики предлагают нам соглашение, если мы откажемся от утопических взглядов, — сказал он, выждав, пока уляжется шум. — Что же они считают утопией? Социалистическую революцию... Что разумеют под «экспериментом»? Декрет о мире. Но он нужен народу, как хлеб, как воздух, — это голос простых тружеников, протестующих против бессмысленной, бесчеловечной войны, затеянной ради прибылей господ капиталистов. Или декрет о рабочем контроле? О земле?.. Спросите любого рабочего, крестьянина, отдадут ли они эти завоевания революции? — гневно сказал Потапов. — Не отдадут ни за что! Мы ответим вам одно: большевики не боятся слов «социалистическая революция»!
— Верно-о!
Выступавшие делегаты говорили о требованиях рабочих собраний, крестьянских сходов, зачитывали резолюции митингов воинских частей. Все требовали передачи власти Советам и немедленного проведения в крае декретов Совета Народных Комиссаров — декретов Ленина.
Маленькая группка меньшевиков оказалась изолированной.
От нее на трибуну вышел Соломон Левитас. Хриплым, срывающимся голосом он стал зачитывать декларацию меньшевиков, полную злобных выпадов и нелепых обвинений по адресу большевиков.
Зал выслушал его до конца. Все понимали, что вопрос, собственно, уже решен. Понимал это, видно, и Левитас, потерявший на трибуне последний остаток выдержки.
— Я хочу сказать еще несколько слов от себя, — заявил он и начал браниться под шум и смех делегатов. Тогда он брякнул: — Большевики говорят, что они хотят завоевать социализм. Но зачем они это делают, когда мы социализма не хотим в настоящее время?
Даже единомышленник Левитаса Вакулин схватился за голову. Адвокат Кондомиров неодобрительно крякнул.
Зал хохотал.
— Вот уж доподлинно: язык мой — враг мой! И нечего валить с больной головы на здоровую, — тоже смеясь, сказал Потапов.
— Мне слово! Мне, — крикнула Анфиса Петровна и, не ожидая, пока председатель назовет ее фамилию, уверенная, что в слове ей не откажут, пошла к трибуне.
Зал сразу стих.
— Я, мать семерых детей, голосую за Советскую власть! За мир! И еще хочу передать земной поклон товарищу Ленину и сердечное спасибо ему, — сильным звучным голосом сказала она и низко поклонилась собранию.
Ей аплодировали до самозабвения, до боли в руках. Многие вскочили с места. Кто-то кричал:
— Вот русская женщина, а? Браво!
— Не оратор я. Извините...
Анфиса Петровна возвращалась на свое место, спокойно и строго глядя перед собой, сознавая, что самое важное и нужное в ее жизни сделано. Она согласно кивала головой, когда председатель стал зачитывать проект решения съезда, предлагаемый от имени фракции большевиков:
«Признавая Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов несокрушимым оплотом защиты завоеваний революции и борьбы против контрреволюционных попыток, 3-й краевой съезд Советов Дальнего Востока провозглашает единственным представителем центральной власти краевой комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Как таковой, Совет должен проводить неуклонно и немедленно в жизнь все декреты, постановления и распоряжения рабочего и крестьянского правительства в лице его Совета Народных Комиссаров, бороться имеющимися в его руках мерами с контрреволюцией, продовольственной, железнодорожной, почтово-телеграфной и финансовой разрухой и установить твердую власть, опирающуюся на широкие массы трудового народа. Все местные Советы, входящие в состав нашей краевой организации, объявляются правомочными органами центральной власти на местах».
Голосовали дружно. Только четыре голоса было подано против.
Губельман вскочил, поднял руку. Глаза у него увлажнились. Должно быть, припомнились ему и шествие каторжников в кандалах мимо их дома в Нерчинске, и многодетная нищая семья отца, и первые листовки, отпечатанные им в Чите по поручению старшего брата, известного деятеля большевистской партии Емельяна Ярославского, и первый арест, жизнь поднадзорного человека. Вспомнил Нерчинский завод, Кадаин и Горный Зерентуй в Забайкалье — страшные каторжные тюрьмы, сожравшие восемь лучших лет его жизни.
— Товарищи! — взволнованно сказал он. — Вот и свершилось. Поздравляю с установлением на Дальнем Востоке Советской власти!
Ему ответили троекратным «ура». Делегаты в гости обнимались, шумно выражали свою радость.
— Дожили... дожили, — говорила Анфиса Петровна, целуясь с Верой Павловной.
Михаил Юрьевич пожимал руки Калнину и Мухину. К ним подошел улыбающийся Михаил Чесноков — делегат от Свободненского Совета.
— Ну, тезка, давай и мы обнимемся! — сказал он Потапову.
— Жаль, что нет с нами Арнольда Яковлевича, — заметил Калнин.
И они заговорили о Нейбуте, недавно уехавшем в Петроград в качестве члена Учредительного собрания, прошедшего на выборах по списку № 5 большевиков.
В трудное лето 1917 года Арнольд Яковлевич Нейбут сплачивал партийную организацию Дальнего Востока. Он много сделал для большевизации Советов в крае и был одним из тех, кто деятельно готовил этот съезд, Потому и вспомнили его сейчас товарищи теплым, добрым словом.
...Был поздний час, но почти все остались смотреть концерт, подготовленный кружковцами Народного дома.
Домой сестры Ельневы возвращались на заре.
— Ох, и устроит нам тетя проборку, — сказала Вера Павловна. — Я тоже хороша. Бросила сына. Ушла.
— Да ведь не привязанная. Такое раз в жизни видишь, — возразила Анфиса Петровна.
Даша молча улыбнулась и поглядела на меркнущие редкие звезды.
Алело утреннее небо. Где-то над Тихим океаном зарождался новый день.
 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |