"На восходе солнца" - читать интересную книгу автора (Рогаль Николай Митрофанович)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
 |
Гудок в Арсенале зычный. В утренней морозной тишине далеко разносится его могучий рев. По гудку в городе проверяли часы.
В Арсенальской слободке гудок поднимал на ноги, гнал из домов почти все взрослое мужское население. В кривых улочках, упирающихся в овраги, поскрипывал под ногами снег.
Арсенальцы жили скученно, тесно, не отгораживались друг от друга высокими заборами. Жизнь каждого протекала у всех на виду. Бывали, конечно, нелады между соседями: подерутся ребятишки, поссорятся женщины, не поделив нужду и горе. Но мужчины в слободке умели постоять друг за друга.
Изо дня в день, в дождь и пургу, ясным, погожим летним утром и холодной зимней ночью, когда с реки дует пронизывающий ледяной ветер, шли они к воротам завода, всегда чувствуя рядом плечо соседа. Дни бывали похожи один на другой: долгие часы изнуряющей работы, тяжелые думы о семьях, голодных, раздетых и разутых.
Теперь слободка шила новой, невиданной еще жизнью. Шире, свободнее расправились плечи мужчин. Когда они возвращались с работы, чаще звучали смех и веселая шутка. Вечерами в лачугах подолгу горел свет. И о чем только не говорили у огонька! Сколько надежд и чаяний пробудила весть о победе Октябрьской революции!
За тяжелыми створками арсенальских ворот во дворе фыркали кони снаряженного обоза. От заиндевевших конских морд валил густой белый пар. Негромко переговаривались возчики.
Груза в санях немного; сверху он прикрыт брезентом.
Часовой у ворот, обняв руками винтовку и косясь на проходивших во двор рабочих, читал накладную. Читал он медленно, напряженно всматриваясь в неясные буквы и беззвучно шевеля губами.
— Братцы, кто табаком богат? — спрашивал тем временем высокий старик возчик в брезентовом плаще.
— Допустим, я богат. Могу поделиться, — сказал подошедший Чагров, останавливаясь и доставая кисет. — Куда собрались в такую рань?
— Да вот... подымут ни свет ни заря. Проклятая жизнь! Еще бы одежа была справная. Так ведь шуба — на рыбьем меху... — возчик невесело рассмеялся, сбросил рукавицу и подставил Чагрову горсть. — На дворе, парень, зимой работа неласковая.
— Поезжа-ай! — часовой разрешающе махнул рукой.
Железные створки ворот раздвинулись шире. Послышался торопливый сипловатый голос старшего возчика:
— Трогай живее! С богом...
Мирон Сергеевич сыпанул возчику в горсть табаку и шагнул в сторону, освобождая дорогу. Передние сани уже выезжали за ворота.
— За табачок благодарствую, — простуженным голосом проговорил возчик и тряхнул вожжами.
Рослый, сильный битюг налег грудью на хомут. Но сани пристыли к земле — ни с места. Новый рывок. Затем конь всей тушей навалился на одну из оглобель, сани тяжело стронулись.
— Эй, друг! Папаша!.. Что везешь? — крикнул обеспокоенный Мирон Сергеевич. Догадка поразила его. — Сто-ой!
Брезент сдернули с саней. Под фонарем тускло заблестели уложенные рядком, похожие на кирпичи, чушки червонной меди, пластины баббита.
— Эге! Ловко...
Кто-то уже побежал за ворота, с бранью заворачивал назад выскочившую со двора головную подводу.
Вокруг саней сгрудились возмущенные рабочие. Лошади косились на людей, настораживали уши. Откуда-то вынырнул начальник охраны.
— В чем дело? По какому случаю сборище? Р-разойдись!..
— А вы что... потакаете воровству?..
— Позвольте... Как вы смеете?!
— Фа-акт. С поличным попались...
— Граждане, не волнуйтесь. Я... расследую. Одну минуту, — начальник охраны сбавил тон. Пошептавшись со старшим возчиком, он бодро выкрикнул: — Все в порядке, ребята! Разрешение на вывоз груза имеется. Прошу не мешать возчикам следовать по назначению. Часовой, пропустить подводы!
Но дюжие арсенальскпе парни крепко держали лошадей под уздцы.
— Вы объясните, пожалуйста, зачем вывозят металл?
— А вам, собственно, какое дело?
— Стало быть, дело есть, если спрашиваю. Мы — хозяева...
— Хозяева? Ха-ха!.. Вот турну тебя за ворота, — вспылил вдруг начальник охраны.
— Поберегись, дядя! Как бы самого не прокатили на тачке.
Теперь уже добрая половина рабочих утренней смены толпилась у ворот. Оживленно обсуждали происшествие.
— От чужого вора — засов на замок. А как уберечься от своего... охранника?
— Прогнать взашей! И на их место поставить Красную гвардию.
— Верно!
Кто-то из молодых парней настойчиво допытывался у Чагрова:
— Мирон Сергеевич, вот ты, как большевик, скажи: что теперь делать? Как быть с этим добром?
— Что делать? — Мирон Сергеевич ненадолго задумался, решительно проговорил: — Подводы пока вернем обратно на склад. Придется как следует разобраться в этом деле.
Начальник охраны петухом наскакивал на него:
— Ты кто такой? Кто тебе дал право тут командовать? За самоуправство знаешь... Вот прикажу арестовать...
— А мы вас сами сейчас заарестуем, — задорно выкрикнул кто-то за спиной Чагрова.
— Кто я такой? — Мирон Сергеевич расправил усы, со спокойной усмешкой посмотрел на кипятившегося начальника охраны. — Извольте. Я — рабочий Арсенала. Десять лет хожу через эту проходную... И хочу, чтобы наш Арсенал жил, трудился. Чтобы народное добро не раскрадывалось, а в дело шло.
— Почему же вы полагаете, что металл пойдет не в дело? Странная манера всех в чем-то подозревать, — внушительным басом заметил подоспевший инженер, начальник отдела снабжения. Он шагнул внутрь образовавшегося круга, водрузил на нос пенсне и с любопытством уставился на Чагрова. — Не посмотрев в святцы, сразу бух в колокол, а?.. Но я готов дать необходимые разъяснения. Пожалуйста... Итак, почему вывозим медь и баббит?.. Излишки, только излишки... Мы передаем их Амурской флотилии. У них из-за отсутствия цветного литья застопорился ремонт боевых кораблей. Баббит нужен для заливки подшипников, не мне вам, металлистам, это объяснять. Вопрос, разумеется, согласован с главным артиллерийским управлением. Телеграфно. Что-с?.. Довольно конфузное положение, да? Ну, это бывает, — инженер снисходительно улыбнулся, вполне доброжелательно поглядел на Чагрова. — Вы еще сомневаетесь? Вот телеграмма...
Телеграмма пошла по рукам.
— Откуда излишки? Чепуха! Быть того не может, — недоверчиво сказал Чагрову сухощавый медник. — Тут, брат, махинация...
Но многие уже заторопились в цехи. На морозе в худой одежонке долго не выстоишь.
За холодными стеклами инженерского пенсне — скрытая тревога. Пока Мирон Сергеевич размышлял, держа телеграмму, начальник снабжения рысцой протрусил к воротам и сам распахнул их настежь. В его чрезмерной торопливости было что-то вороватой, нечистое.
— Поезжайте, голубчики! Поезжайте! Поторапливайтесь... А вы, ребята, можете положиться на меня, на мою совесть, — ласково журчал он, мелкими шажками семеня вокруг возчиков и рабочих.
Чагров решительно шагнул к воротам, загородил выход.
— Прошу прощения, гражданин инженер. Поскольку у нас сомнение, будьте любезны вернуть подводы обратно на склад.
— Что-с? — пенсне блеснуло под фонарем, погасло, отступило в тень. — Это самоуправство. Да-с.
В затылок ему ударил злой выкрик:
— Выкормили змейку на свою шейку!
— Гони, ребята, подводы обратно на склад. А ты поглядывай тут у ворот. — Чагров указал на молодого рабочего.
На темной половине двора его догнал старик возчик, потянул за рукав.
— Слышь, товарищ! Инженеру не верь. Не верь, говорю, — шептал он, обдавая щеку Мирона Сергеевича теплым дыханием. — По документам груз значится для Амурской флотилии, а возим в город. Чукинскую мельницу знаешь? Позади нее цинковый склад. А оттуда, говорят, американцам.
— Что?.. Возили уже? — Мирон Сергеевич схватил старика за плечо, стиснул железные пальцы.
— Ты меня не цапай, — обиделся старик. — Виноваты, конечно. Да кто знал? Опять же платят нам хорошо, как за сверхурочную работу. Обещали продукты выдать. Ты уж не суди строго, слышь. Повинную голову меч не сечет, — вздохнув, сказал возчик.
— Ну-ну! — Чагров не сдержался, обругал возчика. — Тоже хорош гусь. Молчал, пока за руку не схватили. Тьфу!.. Уйди от греха, слышь...
Возчик обиженно шмыгнул носом и поотстал. Над заводским двором отрывисто, точно команда, — три коротких гудка...
Рабочее место Чагрова — у дальней стены, рядом с конторкой мастера. От шумного цеха конторка отделена невысокой перегородкой из фанеры и стекла. Сверху она покрыта листами железа. Постепенно туда навалили всякой дряни: обрезки металла, остатки разбитых ящиков, поломанный табурет.
Верстак Чагрова втиснулся в узкое пространство между конторкой и капитальной стеной. Из окна скупо падал косой свет. Было темновато, но удобно: не меняя положения головы, стоило только поднять глаза, Мирон Сергеевич мог отсюда обозревать весь цех.
За спиной у него в темном углу скрывалась совсем незаметная со стороны маленькая дверь. Через нее легко было выйти на глухую и заброшенную часть заводского двора. Дверь долгое время стояла заколоченной наглухо, так как сообщаться с другими цехами через нее было неудобно: приходилось делать изрядный крюк в обход главного корпуса.
Мирон Сергеевич сразу оценил возможность иметь под рукой запасной выход. Еще в начале своей конспиративной деятельности он сам отремонтировал дверной замок, снабдив кого надо ключами. Этим выходом часто пользовались, если нужно было передать листовки или незаметно вынести из цеха раздобытое для организации оружие.
Большевистскую литературу Чагров обычно прятал среди хлама, на крыше конторки, справедливо полагая, что никакому охраннику не придет в голову сунуть туда свой нос.
Теперь прятаться уже не было нужды. Но Мирон Сергеевич так привык к своему месту, что переменить его ни за что не согласился бы.
Прищурясь, он неторопливо размечал предварительно зачищенный кусок листовой стали — накануне мастер велел ему изготовить несколько новых шаблонов — и думал о той сложной обстановке, которая создалась в Арсенале. Видимо, не одного Чагрова одолевали такие мысли. Привычный размеренный шум работающего цеха сегодня был Нарушен. Поднимая глаза от тисков, Мирон Сергеевич видел, как рабочие сходились небольшими группами, разговаривали.
«Плохо дело. Надо собрать сегодня заводской комитет», — подумал Чагров, зажимая стальную пластину в тиски.
Через цех в конторку тяжелыми, грузными шагами проследовал цеховой мастер Яковлев. Против обыкновения он даже не взглянул на простаивающие станки и ничего не сказал. Из этого Чагров заключил, что мастер не на шутку чем-то расстроен.
Мастера Яковлева считали службистом, не любили. Кое-кто в цехе побаивался его и заискивал перед ним. Но старые рабочие уважали мастера за знание дела. Яковлеву шел шестой десяток; был он слегка седоват, массивен, громогласен и не сдержан на обидное слово.
— Ну что тебе, Чагров, надо? Что? — нетерпеливо спросил он у Мирона Сергеевича, когда тот, придумав предлог, зашел в конторку.
Чагров спокойно объяснил, что ему нужно опиливать шаблоны, но нет краски для поверочных плит.
— У меня тоже нет... Голландская сажа? А я что ее — рожу? — буркнул Яковлев. Затем спросил: — Дома печь березовыми дровами топишь? Так потруси дымоход. Смешаешь сажу с минеральным маслом — вот тебе и краска.
Мирон Сергеевич подосадовал, что не получается у него разговор с мастером по душам, как хотелось, и спросил еще что-то относительно подготовки шаблонов к закалке. Яковлев недоуменно и хмуро посмотрел на него и с обидной терпеливостью, как новичку, объяснил.
— Все?
— Все, — сказал Мирон Сергеевич.
— Ты мне, Чагров, очки не вкручивай. Не за этим приходил, — с грустной усмешкой заметил Яковлев.
— Не за этим, Герасим Федорович. Верно.
— Ну? — мастер вопрошающе уставился на Чагрова. Кончики усов у него, всегда приподнятые вверх, сегодня обвисли. В глазах тоска.
Мирон Сергеевич знал, что Яковлев вернулся с экстренного совещания у начальника Арсенала. Что же там случилось такое, что могло так расстроить мастера? Но спросить об этом прямо было неловко. И Чагров, указав жестом на взбудораженный цех, промолвил:
— Не ладится у нас сегодня работа. Беспокоится народ.
— Вижу, — Яковлев подтверждающе мотнул головой, вздохнул. — А что я могу поделать? Что? — Неловко переступив с ноги на ногу, он еще раз вздохнул и уже другим тоном, тихо, избегая взгляда Мирона Сергеевича, закончил: — Арсенал, Чагров, видно, закрыть придется.
— Закрыть Арсенал?.. Что вы, Герасим Федорович! Как можно? — Мирон Сергеевич потянулся за кисетом, но рука его все проскакивала мимо кармана.
— Да так уж пошло у нас все через пень-колоду. Доработались! На свалку пора! На свалку, — усталым голосом продолжал Яковлев и сел, по-стариковски сгорбив спину. — Завтра будет объявлено о первом увольнении.
Чагров достал наконец кисет, свернул папиросу.
— Много людей... увольняют?
— Порядочно. Половина из нашего цеха.
— Значит, списочек будете составлять?
— Об этом контора сама позаботилась. У них там свои соображения.
Большие узловатые руки мастера то сжимались в кулак, то разжимались. Мирон Сергеевич глядел на его потемневшие от металла и машинного масла пальцы и думал, что этот хмурый, одинокий человек, привыкший командовать и отделять себя от других, сейчас, пожалуй, как и он, Чагров, не желает, чтобы в цех пришли тишина и запустение. Захотелось сказать мастеру что-то хорошее, ободряющее.
— Ничего, Герасим Федорович! Не согласятся рабочие с таким решением администрации.
— Приказ остается приказом, Чагров. Порядки у нас военные, сам знаешь.
— Ну, порядки менять придется. Иной порядок во сто раз хуже беспорядка. Выбросить людей на улицу — дело нехитрое. А надо всех к месту поставить. Вот помогите нам, Герасим Федорович.
...Час спустя большевики Арсенала сходились в конторку литейного цеха.
Начальник Арсенала полковник Поморцев подписал приказ о свертывании работ в Арсенале и увольнении одной трети рабочих. В список увольняемых включили наиболее активных арсенальских большевиков. Утром в проходной охрана должна была отобрать у них пропуска.
Но события пошли совсем не так, как рассчитывала администрация. У ворот сразу же возник митинг. Выслушав ораторов-большевиков, рабочие смяли охрану, не посмевшую противиться им, и растеклись по цехам. Все уволенные также стали на свои рабочие места.
Поморцев был еще на квартире, когда дежурный подпоручик сообщил по телефону, что в канцелярии его ждет делегация рабочих.
— Гоните их в шею! — побагровев, выкрикнул Поморцев.
В голосе подпоручика слышалась растерянность.
— Невозможно, господин полковник... К чему излишне раздражать людей?
— Тогда скажите им, что меня сегодня не будет. Я занят, болен!.. Я, черт возьми, именины праздную!
Поморцев в сердцах швырнул на диван шашку с темляком.
— Поздравляю, полковник! Кажется, и тебя не минула чаша сия? — невесело усмехнувшись, сказал сидевший у окна Лисанчанский.
Опасаясь гнева матросов, капитан 2-го ранга на днях сбежал с базы Амурской флотилии и скрывался пока на квартире у Поморцева, жена которого приходилась ему дальней родственницей.
— Я их все-таки сломлю! Они у меня... попляшут, — кипятился полковник, широкими шагами меряя кабинет.
— И кончится тем, что тебя поднимут на штыки. Не вижу в этом никакой необходимости, да и геройства тоже, — холодно заметил Лисанчанский.
— Что же мне делать, по-твоему?
— Маневрировать, дорогой мой. Не забывай, что ты находишься в сфере действительного огня. Идти на таран можно, но только в подходящий момент.
Капитан потянулся за папиросами. Закурив, он молча наблюдал за тем, как у Поморцева постепенно менялось выражение лица: из решительного и злого оно становилось растерянным и вялым.
— В нашей тактике саботажа гораздо больше смысла, чем это кажется на первый взгляд. У нас монополия знаний. Это — громадное преимущество, — продолжал Лисанчанский, когда Поморцев плюхнулся на диван и с болезненной гримасой схватился за голову. — Управлять производством они неспособны. Абсолютно. В этом ахиллесова пята большевиков...
— Допустим. А дальше... дальше что?
— Когда яблоко созреет, оно само упадет на землю... К сожалению, нам не всегда хватает выдержки.
— И тогда мы бежим с поля боя, — язвительно заметил полковник. — В конце концов я махну на все рукой.
— Ну, знаешь! Кораблем управляет тот, у кого руль в руках, — Лисанчанский похрустел пальцами, наклонился вперед, заговорил убеждающе: — Лавируй. Если угодно, описывай полную циркуляцию. Но держись за штурвал... Придется уходить — оставь руль в руках надежного человека. Иначе при такой штормовой погоде нам не дойти до спокойной гавани.
«Сам-то ты... удержался?» — со странной смесью злости и удовлетворения думал Поморцев, вспоминая, каким испуганным и жалким предстал на днях перед ним его родственник, когда ночью ему отперли дверь.
Принесли почту. Полковник, поднявшись, подошел к зеркалу, посмотрел пристально на себя, удивился своему нездоровому виду. Вздохнув, он тихо отошел к окну и выглянул из-за шторы на улицу.
— Дожили, черт возьми! В собственном доме — как в осаде.
Лисанчанский, посапывая носом, шелестел газетными страницами.
— Гм! В Амурской флотилии собираются приступить к ремонту судов. Рабочий контроль... Ага, вот нечто более интересное! Протесты за границей против аннулирования царских долгов. Заявление представителя государственного департамента Соединенных Штатов...
Несмотря на потрясения последних дней, Лисанчанский был настроен весьма оптимистически.
— Парижская коммуна продержалась семьдесят два дня... Для России я допускаю полгода. Ну, на худой конец — год...
— Не думаю, чтобы это продолжалось так долго, — сказал Поморцев и позвонил к себе в приемную. — Что, эти чумазые ушли?
— Никак нет. Ждут, — приглушенно ответили в трубке.
— Вы что, не можете спровадить их ко всем чертям? Я не желаю встречи. Вы меня поняли, подпоручик?
— Дело в том, полковник, что сейчас с вами говорит Чагров, слесарь механического цеха.
— О, черт! А где этот болван подпоручик? — Поморцев поперхнулся, поспешно отстранил трубку и поглядел на нее так, будто держал возле уха змею. — Чего вы, собственно хотите, Чагров?
— Нам нужно встретиться. Не будем играть в прятки.
Кто-то другой на том конце провода зло добавил:
— Скажи ему, Мирон, что если он не явится, так мы ввалимся к нему на квартиру. Придем оравой в пятьсот человек.
Поморцев поежился, растерянно посмотрел на Лисанчанского.
— Через полчаса я к вашим услугам, господа.
Служебный кабинет начальника Арсенала обставлен мебелью в английском стиле. В кабинете по обыкновению прохладно. Но у Поморцева от волнения потели ладони, и он с досадой комкал в руке носовой платок.
— Не вижу сейчас иного выхода, господа. Не вижу, — говорил он, откинув назад голову и в упор глядя на сидящего перед ним Чагрова светлыми, редко мигающими глазами. — Чтобы не закрывать предприятие совсем, мы должны максимально растянуть выполнение имеющихся у нас заказов военного ведомства. Уволить часть; рабочих, сократить расходы — это диктуется экономической целесообразностью. Вам, конечно, трудно понять.
— Нет, почему? Мы понимаем, — Мирон Сергеевич посмотрел на своих двух товарищей; они напряженно, злыми глазами следили за Поморцевым.
— Обстановка вынуждает нас идти на жертвы. Революция всегда связана с жертвами, господа, — продолжал полковник. — Увы! Я бессилен что-либо изменить.
— Для кого жертвы? — негромко спросил председатель заводского комитета токарь Алиференко.
Поморцев недовольно поморщился и промолчал.
— Раз необходимость, так почему Арсеналу не взять заказы со стороны? У железной дороги, например, — предложил Мирон Сергеевич. — Да мало ли работ подходящих. Стоит поискать. Я убежден, что дело можно повести по-иному.
Поморцев чиркнул спичкой, зажег папиросу.
— Гробы, что ли, делать в столярной мастерской?
— А хоть бы и гробы! Некоторые, видать, в них нуждаются, — вызывающе громко сказал солдат Горячкин, самый молодой из трех делегатов.
— Видите ли, не все так просто, как кажется с первого взгляда. — Поморцев осторожно выдохнул дымок, сбросил с папиросы пепел. — У нас оборудование приспособлено к выпуску военной продукции. Да и люди привыкли к такого рода работам. Из-за копеечной выгоды нельзя ломать установившийся технологический процесс.
— Вот уж неправду вы говорите!
— Я говорю то, что подсказывает мне мой многолетний опыт инженера.
— Попробуйте посоветоваться с рабочими. Они многое подскажут.
— Сомневаюсь, чтобы они могли видеть дальше своего станка.
— И напрасно сомневаетесь. Напрасно, — заметил Чагров.
— Извините, может, это было резко сказано, — поправился полковник. — Но я привык считаться с фактами.
— Превосходно! — воскликнул Алиференко. — Есть Советская власть — власть рабочих и крестьян. Совершенно новый факт...
— Гм!.. — Поморцев медленно загасил папиросу, положил окурок в пепельницу и отодвинул ее на край стола. — Это область политики. Не моя компетенция.
Алиференко бросил на него колкий, насмешливый взгляд.
— А это не политика, что вы хотите под шумок уволить арсенальских большевиков? Только шита она белыми нитками, ваша политика.
— Напрасно вы думаете, что увольнение связано с политическими мотивами, — сказал Поморцев; глаза его беспокойно забегали.
— Да ведь, знаете, как говорят: лиса все хвостом не покроет. По следу видно, что за зверь бегал.
— То есть вы хотите сказать, что я лгу? — повысил голос полковник.
— Не всякая песня до конца допевается, — с усмешкой ответил Чагров.
Он видел перед собой лысеющего человека с начальственной осанкой, выработанной за долгие годы общения с подчиненными. Человек этот пытался говорить с ними иронически-покровительственным тоном, но это ему плохо удавалось.
— Я буду откровенен с вами, — продолжал Поморцев. — Конечно, считаться с обстановкой надо. Не спорю. Но я не вижу связи между большевистским правительством в Петрограде и оперативными вопросами работы Арсенала. Управление производством не терпит вмешательства со стороны. Я не могу допустить анархии. Мои усилия направлены к тому, чтобы предотвратить, вы понимаете, — он многозначительно поднял палец кверху и опять посмотрел на Чагрова, — предотвратить полный паралич.
— И для этого вы приказали вывозить цветные металлы?
Поморцев достал портсигар, дрожащей рукой выудил папиросу.
— Первый раз слышу об этом, — сказал он.
— У нас имеется документ за вашей подписью.
— Что толковать! У него совесть в перчатках ходит, — возмущенно крикнул Горячкин.
— Как вы смеете говорить со мной в подобном тоне! Я не позволю! — Поморцев мигнул глазами, густо покраснел. Левая щека у него подергивалась нервным тиком, — Прекратим ненужный разговор. Вы свободны.
— Отмените свой приказ, начальник. Добром просим.
— Нет! — коротко отрубил Поморцев.
— Мы требуем этого, как рабочий контроль, — решительно поддержал Мирона Сергеевича Алиференко.
— Что-о? — Поморцев круто обернулся к нему, голос у него взвизгнул: — Какой контроль?.. Не допущу! — Он нажал кнопку звонка. — Немедленно двух солдат из охраны сюда. Для начала — марш на гауптвахту, господа рабочие контролеры!..
На некоторое время в кабинете установилась напряженная тишина. Затем вошли два красногвардейца, стали у дверей, стукнув прикладами.
Поморцев выпучил глаза:
— Что это значит?..
— Дело в том, начальник, что с сегодняшнего утра охрану Арсенала несет Красная гвардия, — спокойно пояснил Чагров. — А теперь продолжим наш разговор. Подумаем вместе, как выйти из трудного положения. Садитесь, начальник!..
И Мирон Сергеевич первым прочно уселся на стул.
Для Чагрова настали хлопотливые дни. Поднимался он за час до гудка. Жалея Пелагею, здоровье которой начало серьезно пошаливать, он до ухода на работу колол дрова, носил воду из колодца.
В свободное время Мирон Сергеевич тихонько присаживался на край кровати, потеплевшим взором глядел на видневшиеся из-под одеяла три детские головки. Старшему — Николеньке — недавно исполнилось десять лет; каждый из следующих за ним мальчиков был на два года моложе предыдущего.
Мирон Сергеевич любил повозиться с детьми. Он охотно рассказывал им разные истории из своей жизни, нарочно путая суровую действительность с красивым вымыслом. Но случалось и так, что ему приходилось подолгу задерживаться на сверхурочной работе, и тогда на протяжении недели он видел детей только спящими. Зато сколько обоюдной радости бывало в воскресенье!
В зимнее время, позавтракав, они вчетвером — «мужской компанией», как говаривал Мирон Сергеевич, — отправлялись с санками на крутой берег Амура. Под веселый ребячий визг санки вихрем мчались под гору, замедлял» бег далеко на льду. Мирон Сергеевич, приложив ладонь козырьком к глазам, всматривался в копошившуюся внизу шумную толпу ребятишек. По-молодому пружиня ногами, оп сбегал навстречу сыновьям до половины горы, подхватывал санки, весело вскрикивал: «А ну, садись... Эх, прокачу!»
Младшие — Миша и Павлик — с радостной готовностью валились в санки, потешно отдувались, кричали: «Н-но!» Щеки у них румянились, глаза блестели.
Николенька никогда не садился с младшими. Он с серьезным выражением лица подпрягался к отцу и вместе с ним тащил санки до самой вершины. «Настоящий помощник отцу», — одобрительно говорил кто-нибудь из случившихся рядом взрослых. Для мальчика это было лучшей наградой.
Сейчас Николенька спал, положив под щеку ладошку. Это был худенький мальчик с вьющимися светлыми волосами. На чуть приоткрытых губах у него блуждала улыбка. Длинные ресницы вздрагивали.
«Постричь надо ребят в воскресенье», — подумал Мирон Сергеевич, ощущая, как в груди у него разливается приятное чувство отцовской гордости.
Он осторожно прикрыл одеялом плечи сынишки и задумался. Каким-то будет наступающий 1918 год?
Пелагея тем временем готовила завтрак. Руки у нее всегда были заняты какой-нибудь работой: чистили, мыли, штопали. Вести хозяйство при такой семье и вечных нехватках — дело нелегкое.
— Ичиги у Николеньки развалились. Ты хоть бы посмотрел, Мирон! — сказала она, переставляя кастрюли и подбрасывая в печь дрова.
Мирон Сергеевич задумчиво повертел в руках прохудившуюся обувь сынишки. Сосчитал дыры в подошве. Проще было бы выбросить эти изношенные вконец ичиги и купить новые.
— Барышев Егор Андреевич ремень от трансмиссии принес, такие подошвы вышли — за два года не стопчут, — перетирая вымытую посуду, говорила Пелагея.
— Барышев? — Мирон Сергеевич удивленно поднял брови, нахмурился: «Значит и Егор Андреевич... поддался».
— Да ведь казна... Обеднеет она, что ли?
— А что казна?.. Что казна? — Мирон Сергеевич осуждающе покачал головой. — Казна теперь — не царская, народная. Всяк тащить начнет — добра не будет. Учиться тебе надо, Поля.
— Учи своих дружков. А я и без тебя грамотная.
Пелагея скрепила заколкой рассыпающиеся волосы и подала мужу завтрак.
— Ешь. Я потом с детьми чаю попью.
Препирались они часто, но жили дружно. Мирон Сергеевич прежде был домосед. Пелагея не раз хвалилась перед соседками своим мужем. Был он человек степенный, непьющий, мастер на все руки. Он и оконную раму приладит, и печь сложит, и хлеб, если нужно, замесит. Но теперь Чагров, что называется, от дому отбился. Вечно занят, спешит. Тянутся к нему люди от всей слободки, только успевай дверь открывать. Выстудят комнату за какой-нибудь час. Пелагея ворчала: «Хоть бы кто догадался полено дров с собой принести», но в глубине души она гордилась мужем. Постепенно она стала проникаться его интересами, была в курсе дел Арсенала и нередко сама, как умела, объясняла соседкам происходящие события. Мирон Сергеевич заметил эти перемены в ней.
— Ох, трудно, Поля, — говорил он. — Ведь это махина — Арсенал. Сколько угля, металла разного, лесу идет. А где его брать — ума не приложу. Заказчиков нет, В конторе все позапутали, позатеряли — и концы в воду. И как вести себя с этими людьми — не враз догадаешься. Горьким быть — расплюют, сладким быть — проглотят.
К гудку Чагров по-прежнему приходил в свой цех. Час-другой он работал за верстаком, потом отправлялся в соседние литейный и кузнечный цехи, заглядывал в котельную, толковал с механиками и мастерами. К одиннадцати он приходил в контору, доставал из кармана потрепанную записную книжку. С ним спорили, ссылались на отсутствие нужных материалов. Не раз он уличал работников администрации в недобросовестности, в сознательном запутывании отчетности. В конце концов за день он многое успевал протолкнуть и продвинуть.
Алиференко, напротив, почти безвыходно сидел в конторе. В свое время ему удалось окончить высшее начальное училище, он много читал, изучал механику и математику, знал зачатки бухгалтерии. Теперь он с утра до ночи рылся в конторских книгах, выписывал что-то, рассматривал длинные колонки цифр, размашистым косым почерком писал свое мнение на бумагах, поступавших к начальнику Арсенала. С ним серьезно начали считаться после того, как он в получасовом разговоре вогнал в пот главного бухгалтера Арсенала — самоуверенного нагловатого человека, умевшего погреть руки на крупных заказах. Алиференко с фактами в руках доказал, что бухгалтер брал взятки сам и прикрывал незаконные махинации. Бухгалтера отстранили от работы, и это укрепило пошатнувшуюся дисциплину среди служащих.
Солдат Горячкин занимался ревизией складов. В три дня он успел выяснить фактическое наличие материалов, измучив за это время всех кладовщиков. Впрочем, сделать проверку было не так трудно: склады давно не пополнялись.
Горячкин был молод, отличался веселым нравом и смекалкой. Он ходил теперь с полевой сумкой на боку, в лихо сдвинутой набок солдатской шапке, из-под которой выбивались белокурые вьющиеся волосы. В полевой сумке у него постепенно накапливались данные о наличия нужных Арсеналу материалов на складах других организаций города. Как умудрялся Горячкин разузнать про это — оставалось тайной. У него завелись дружки даже среди заносчивых и недоступных писарей окружного интендантского управления.
Во второй половине дня все трое сходились в маленькой полутемной комнатке заводского комитета, расположенной в начале коридора, сразу у входа. Здесь в присутствии многочисленных посетителей они обсуждали дела, выслушивали советы и замечания, спорили и без конца курили. К концу дня дым тяжелым облаком повисал над столом.
— Нет, что вы ни говорите — башковитый у нас народ! Такое придумает — ну и ну! — восторгался Горячкин, слыша какое-нибудь особенно сногсшибательное предложение.
— Пустая бочка пуще гремит, — спокойно возражал Алиференко и камня на камне не оставлял от прожекта.
Но было много и дельных предложений. Литейщики настаивали на поочередной остановке вагранок, на предупредительном ремонте их. Долго и горячо спорили о том, можно ли наладить выжиг древесного угля в ближайшей к городу хехцирской лесной даче, чтобы возместить нехватку кокса; обсуждали положение с режущим инструментом. Разговор, начатый в заводском комитете, перебрасывался затем в цехи.
Мирона Сергеевича до глубины души трогала эта бескорыстная, искренняя забота рядовых рабочих о нуждах предприятия. Чагров постоянно чувствовал поддержку товарищей, и от этого он становился во много крат сильнее и зорче, был тверд, напорист и вынуждал начальника Арсенала отступать шаг за шагом, ломать свои тайные планы.
— На вагранке номер два может произойти авария. Надо немедленно остановить ее на ремонт, — предлагал Чагров.
— Месяц-другой она еще протянет. У меня сейчас нет ассигнований на такие расходы, — возражал Поморцев, хотя превосходно знал, что вагранка работает на полный износ.
Мирон Сергеевич упрямо настаивал на своем.
— Что ж, создадим техническую комиссию. Пусть ее возглавит главный инженер, — предлагал наконец начальник Арсенала. — Кого еще?
— Мастера Яковлева, а от литейщиков — начальника первой смены, — быстро нашел Чагров.
— Хорошо, договорились, — и Поморцев подписал приказ, рассчитывая, что комиссия провозится по меньшей мере неделю.
Но уже на другое утро Мирон Сергеевич принес акт осмотра вагранок.
— Я же говорил вам: нельзя откладывать. Вот, пожалуйста...
Только дома начальник Арсенала давал волю своему бешенству, бегал взад-вперед по кабинету, ругался площадной бранью. Потом в изнеможении валился на диван и хмуро жаловался Лисанчанскому:
— Меня запрягли, как ломовика в оглобли.
— Что ж, вези их под гору, — флегматично посоветовал капитан 2-го ранга.
— А ты представляешь, что такое, когда за тобой следят сотни глаз? Бр-р!.. У дверей моего кабинета сидит красногвардеец с пистолетом у пояса, и я не знаю, то ли он меня охраняет, то ли я у него под арестом? К сожалению, я связан в своих действиях.
— Могу тогда тебя обрадовать, — сказал Лисанчанский, поглядев для чего-то в окно. — Ни Уссурийская железная дорога, ни товарищество Амурского пароходства не подпишут предлагаемых вами контрактов. Для Арсенала, насколько я понимаю, потеря таких заказов равносильна экономической катастрофе. Не мытьем, так катаньем. Ха-ха!..
На следующий день начальник Арсенала, чисто выбритый, сияющий, сам пригласил членов заводского комитета.
— У меня, граждане, неприятное известие, — сообщил он отнюдь не печальным тоном. — Вопреки нашим надеждам, контракты с железной дорогой и пароходством подписать не удалось. Увы! Наши контрагенты не согласны. Теперь, надеюсь, вы видите, что я был прав, предлагая сократить объем работ.
Алиференко тревожно переглянулся с Мироном Сергеевичем.
— А в чем дело? Все как будто было договорено.
— Железная экономическая необходимость, — снисходительно и неопределенно пояснил Поморцев и предложил курить. Собеседники отказались. Тогда и он не стал зажигать папиросу и продолжал: — Калькуляция, расчет себестоимости и все такое прочее... Жаль, что вы смутно представляете себе это. Короче, им невыгодно сдавать заказ на сторону. Своя рубашка ближе к телу. Вообще ваша ошибка состоит в том, что вы предполагаете некую общность интересов. Кто-то протянет нам руку и вызволит из беды. И это в мире, где конкуренция движет всем! Ха-ха! По меньшей мере наивно...
— А не кажется вам, начальник, что теперь калькуляция другая нужна? — суровым тоном спросил Алиференко. — И чему вы, собственно, радуетесь?
— Я радуюсь? Да что вы! — Поморцев схватился за голову. — Боже! Опять политика! Политика... У меня от нее голова болит. В конце концов я не могу так работать. Я снимаю с себя ответственность.
В канун Нового года с утра небо заволокло тучами. Солнце показалось ненадолго и скрылось. В хехцирских горах шел снег, на город с амурской равнины надвигалась белесая мгла. Скоро на улицах закружились первые снежинки, затем снег повалил крупными хлопьями.
В это утро во Владивосток прибыл японский крейсер «Ивами», с вызывающей наглостью, без разрешения бросил якорь в бухте Золотой Рог на виду города, угрожая русской тихоокеанской твердыне пушками.
Демьянов докладывал Потапову о происшествиях в городе. Ходил он теперь в полувоенной форме: солдатской гимнастерке, брюках галифе, через плечо — наган с ремнем, с другого боку — потрепанная полевая сумка.
— Мы, к сожалению, опоздали. Грабители успели скрыться. В гостинице они назвали себя представителями милиции, пришли будто для обыска и проверки документов. Утром мои хлопцы вроде напали на след. Проследили двоих, похожих по описаниям. Один на углу Лисуновской улицы встретился с коммерсантом Хасимото, и оба пошли в японское консульство. А другой, — тут Демьянов поднял глаза и выразительно посмотрел на Потапова, — другой прямехонько отправился в Американский Красный Крест... Там где теперь концы искать?
— А не ошиблись твои люди, Демьян Иванович?
— Возможно, что ошиблись, я допускаю, — согласился Демьянов.
Оба не были удивлены тем, что преступники укрылись у иностранцев. Еще за месяц до прихода «Ивами» на рейде Золотого Рога стоял американский крейсер «Бруклин». Адмирал Найт вместе с владивостокскими буржуа учредил Дальневосточный русско-американский комитет и грозил прекращением американских поставок России, открыто призывал к борьбе с революцией. Неделю назад консульский корпус во Владивостоке в протесте против реквизиции продовольственных товаров у иностранных фирм нагло подчеркивал, что «местный рынок почти полностью зависит от заграничных источников снабжения». Господа консулы писали: «Если не учтете это, то товары, уже направленные по Владивосток, в том числе такие нужные, как обувь, подошвенная кожа, сало, будут задержаны и не будут доставлены...»
В кабинете прохладно; Потапов зябко поеживался. Демьянов снял с вешалки пальто и накинул ему на плечи.
— Ты, брат, храбриться храбрись, да гляди не свались! Экое поднялось на дворе, — сказал он.
Снег валил все сильнее. Постепенно разыгрался ветер. Вьюга за окном злилась, скулила по-собачьи и скреблась по стеклу мохнатыми лапами.
Демьянов рассказывал о предстоящем вскоре в Имане Войсковом круге уссурийских казаков.
Без стука ввалились запорошенные снегом Алиференко и Чагров.
— Ну и метет! Едва добрались... Добрый день, Михаил Юрьевич! Наследили вам, не обессудь, — сказал Чагров, пожимая руку Потапову, а затем Демьянову. — Зазнался, Дмитрий Иванович... как комиссаром выбрали, в Арсенал носу не кажешь.
— Да еще какой комиссар, прими во внимание! Как она, твоя должность, именуется? — смеясь, спросил Алиференко, пододвигая стул поближе к столу и опасливо косясь на его тонкие резные ножки.
— Должность обыкновенная. Комиссар по борьбе с пьянством и охране города.
— Вот-вот... по борьбе с пьянством. Эх, мне бы такую должность!
Тут все четверо разразились неудержимым хохотом.
— Смех-то смехом, а мы к тебе, Михаил Юрьевич, по серьезному делу. У нас крупная неприятность, — сказал Чагров.
Алиференко тоже принял озабоченный вид.
— Контракты с вами не хотят подписывать? Знаю. — Михаил Юрьевич посмотрел на арсенальцев. — Железнодорожники помогут вам, а вы могли бы взяться за ремонт вагонов. Это и будет началом той товарищеской взаимопомощи рабочих коллективов, которая поможет нам быстрее выпутаться из затруднений.
— Видать, там тоже саботажники сидят, — заметил Алиференко.
— Сидят, сидят. Был бы омут, а черти сыщутся. — Потапов принялся расспрашивать арсенальцев об их планах по загрузке предприятия местными заказами.
— Хорошее дело затеяли, товарищи! — одобрительно говорил он. — Будете ремонтировать вагонные скаты, судовые механизмы, делать костыли, бочки. Все это необходимо позарез. В большом хозяйстве и гвоздик сгодится. Но я просил бы вас подумать, чем может Арсенал помочь деревне? Крестьянский инвентарь вконец износился. Сделать сотню-другую лемехов к плугам, изготовить зубья для борон, отлить шестеренки для конных приводов к молотилкам — как это было бы кстати.
— Михаил Юрьевич, а если мы скомплектуем бригады — кузнец, слесарь, столяр — да пошлем в ближайшие волости? — предложил Чагров.
— Превосходно! И то и другое... Бригады и лемеха к плугам, — весело заключил Потапов.
...Зимний день короток, за окном начало темнеть.
Ветер где-то порвал провода. Прекратилась подача тока. Алеша Дронов сбегал в дежурку, чтобы заправить лампу керосином.
Михаил Юрьевич думал об ушедших арсенальцах. За сложное и трудное дело приходится браться им. А разве менее сложна задача привести в порядок разоренное войной и хищничеством капиталистов народное хозяйство края?
На громадном пространстве Восточной России, от холодного Берингова пролива на севере до залива Посьет, у границы Кореи, хозяйничали иностранные фирмы: американские, английские, немецкие, японские, бельгийские, шведские... «Олаф и Свенсон», «Денни, Мотт и Диксон», «Маккормик», «Стандарт ойль», «Р. Мартенс и К°», «Кунст и Альберс», «Судзуки»... Наживались, богатели, жирели, грабя, хапая, хватая русское добро. Они уцепились за эту землю и готовы залить ее кровью, лишь бы не поступиться своими прибылями.
Не для того ли воровски бродят у наших берегов крейсеры «Ивами» и «Бруклин»?
Потапов вышел на улицу. И тотчас ветер подхватил его, завернул полы пальто, мягко подтолкнул в спину и повлек куда-то в белую слепящую мглу.
На улице творилось нечто невообразимое: ветер и снег кружились в такой дикой пляске, что у Михаила Юрьевича дух захватывало.
— Врешь, не возьмешь! — азартно кричал он в темноту, и высоко поднимая ноги, упрямо шагал через сугробы.
На одном из перекрестков ветер, переменив направление, неожиданно кинулся навстречу, да так свирепо, что Михаил Юрьевич остановился. Он раскашлялся, постоял у чьих-то ворот и тихо побрел дальше.
В доме Твердякова сквозь щели в ставнях пробивался свет. Во дворе за оградой было сравнительно тихо. Идя через двор к крыльцу, Михаил Юрьевич отдышался.
Дверь открыл ему доктор.
— Загуляли, батенька. Загуляли, — сказал он с улыбкой. — Сын не дождался — уснул.
Михаил Юрьевич прошел к себе в комнату. Топилась печь; тепло волнами шло от нее.
Он не стал зажигать свет, отворил дверцу печки и, пододвинув стул, присел возле нее. Охватив руками колени, покачивался взад-вперед, как маятник, и глядел на огонь.
Дрова были сырые, горели плохо и дымно. Огонь мелкими желтыми языками робко лизал бурые поленья; кора на них корежилась, свертывалась в трубочки, пенилась и вдруг ярко вспыхивала, наполняя комнату шипением и треском.
Однообразный треск горящих поленьев навевал дремоту.
Пришла Наталья Федоровна. Ее голос слышен был за стеной. Что-то говорил Твердяков. Наверно, о Сереже. Балует доктор мальчишку.
— Ты хорошо здесь устроился, — сказала вдруг Наталья Федоровна, щелкнув за спиной Потапова выключателем.
— Фу! Всю поэзию нарушила, — заметил он.
— Поэзия?.. Да. А вот я видела сегодня прозу. Грубую прозу жизни, — незнакомым ему голосом проговорила Наталья Федоровна.
Он зорко и с любопытством поглядел на нее.
Жена вышла, внесла шумящий самовар и, расставляя посуду, продолжала рассказывать:
— Ужас, что творится в этом приюте! Дети грязные, голодные, раздетые. Постельного белья нет. Антисанитария. Со стороны персонала совершенно непонятное равнодушие, хотя люди, кажется, неплохие. Заведующий — негодяй и подлец. Тупая, жирная морда. Клянет большевиков и, наверно, обкрадывает своих несчастных питомцев. У него совершенно свиные глазки, заплывшие жиром. Представляешь? Я поглядела на него и не решилась сказать, что я твоя жена. Он бы меня на пушечный выстрел к приюту не подпустил. Но теперь я оттуда ни за что не уйду! — сказала она.
— Ты, конечно, постараешься перевернуть там все вверх дном, — полуиронически, полуодобрительно заметил Михаил Юрьевич.
— Непременно. Я уже толковала об этом с женщинами.
— В таком случае предсказываю: неизбежен острый конфликт с заведующим.
— Этот мерзавец... он уже предлагал мне взятку, — дрожащим, от негодования голосом сказала Наталья Федоровна. — «Вы, говорит, мадам, не надрывайтесь. Я ваше рвение и так ценю. Подите к завхозу, и он выдаст вам к празднику паек из продуктов Американского Красного Креста». Так хотелось плюнуть ему в жирную физиономию.
Задумчиво пошумливал угасающий самовар. Наталья Федоровна убирала посуду.
Дрова в печке догорали ровно, осталась красноватая груда углей, из нее вырывались золотые искры, а поверх псе бегал, выискивая что-то, жадный синий огонек.
В этот день Алексея Никитича Левченко вызвали повесткой в Совет. Покряхтывая, жалуясь на непогоду и боль в пояснице, а на самом деле охваченный смутный беспокойством, пришел он к указанному часу в здание бывшей канцелярии приамурского генерал-губернатора.
Его тотчас пригласили в кабинет к Потапову. Оба с минуту испытующе смотрели друг на друга: Левченко — дичась, исподлобья, Михаил Юрьевич — открытым, дружелюбным взглядом.
— Решено открыть прииск Незаметный. Мы хотели бы просить вас возглавить его, — сказал Михаил Юрьевич.
Алексей Никитич поднял голову, сердито сверкнул глазами.
— Золотишко понадобилось?
— Разумеется, — подтвердил Потапов. — Но дело не только в золоте. Народ хочет, чтобы наша техническая интеллигенция служила ему. Служила честно. Это вопрос принципиальный. Его надо решать. Ваше сотрудничество для нас было бы особенно желательным и ценным. Дело перспективное. Со временем придется объединить разрозненные сейчас прииски, создать, скажем, краевой трест золотопромышленных предприятий. Технически переоборудовать прииски, усилить разведку, проложить дороги. Увлекательное дело... Я, разумеется, не тороплю вас с ответом.
— Гм!.. И вы рассчитываете выполнить эту программу, опираясь на лопату и обушок? — спросил Левченко.
— У нас будет техника.
Алексей Никитич пожал плечами и посмотрел на Потапова, как на безнадежно больного.
— В России едва начался технический прогресс, как вы безрассудно оборвали его своей никому не нужной революцией.
— Почему оборвали? Это сказки, которые могут распространять враги социализма. Притом злонамеренно, — возразил с живостью Михаил Юрьевич. — Капитализм создал современную технику, в этом вы правы. Но он же ставит пределы ей, исключая разве область военного дела. Технический прогресс буржуазия охотнее всего использует для массового убийства людей. Тогда как техника по своему назначению призвана облегчить жизнь людей. Революция разбила цепи, сковывающие науку. Она породит золотой век техники — век химии и электричества.
— Хорошо. Но не безграмотные же, голодные мужики сотворят ваш «золотой век», — усмехнулся Левченко. — Я ставил три ведра водки и заставлял их нырять в ледяную воду, чтобы достать утонувшие при аварии машинные части. Варварский способ. Но благодаря ему на Незаметном заработала первая драга. Прогресс всегда идет бок о бок с варварством. Не будем морализировать по этому
Потапов делал вид, что не замечает вызывающего тона Левченко.
— Народ тоже хочет быть сытым, образованным, хочет приобщиться к сокровищам культуры. И, конечно, не таким зверским способом, как вы предлагаете, — сказал он тем же ровным, спокойным голосом. — Вот почему мы и обращаемся к вам, специалистам в области техники и организации производства, — помогите нам. Помогите народу сделать жизнь более счастливой и более достойной человека!
— А я всегда скажу одно: нет! — сердито отрезал Левченко. — Я не верю в ваш социалистический эксперимент! Я привык работать при старых порядках, когда чувствуешь себя в деле хозяином. Наконец, мне лично это более выгодно. Я, как видите, откровенен с вами.
— Ценю вашу откровенность. Но были ли вы в самом деле хозяином, независимым от прихотей капризной бабы — владелицы прииска? Мне кажется, нет.
Левченко нетерпеливо заворочался на стуле. Он заранее настроился так, чтобы отвергнуть все, что предложат ему.
— Слова, слова... Пока я вижу только разрушения, кровь, общие бедствия.
— А кровь, пролитая царем на Дворцовой площади и берегах Лены, на сопках Маньчжурии и полях Галиции, — эта кровь не тревожит вашу совесть? — подавшись вперед, спросил Михаил Юрьевич. — Общие бедствия?.. Совершенно верно. Но они — результат преступной политики правящих классов царской России. Только решительно порвав с нею, можно выйти из кризиса. Так зачем валить с больной головы на здоровую? Разруха!.. Рабочий класс напрягает все силы, чтобы преодолеть ее, наладить в стране нормальную жизнь, производство, товарооборот. Специалисты в это время открыто саботируют мероприятия Советской власти — и громче всех кричат о «разрушителях-большевиках». Да где же логика, господа интеллигенты? Наигранный пафос — ни тени порядочности, ни грана добросовестности...
Что-то мешало Левченко посмотреть прямо в глаза собеседнику. Алексей Никитич не соглашался с Потаповым, но в то же время слова этого человека тревожили его, поднимали в нем какие-то старые, забытые обиды.
Холодное солнце тускло просвечивало сквозь замерзшее окно. Сверху тонкой струйкой сыпался снег, должно быть, ветер сдувал его с крыши.
— Я никогда, слышите... никогда не соглашусь с вами! — с неожиданной запальчивостью выкрикнул Левченко.
— Мне жаль вас. Вы живете в такое интересное время и ничего не видите. К сожалению, слепого грамоте трудно учить, — с искренним огорчением заметил Потапов.
Он понимал, что разговор оказался безрезультатным.
Левченко грузно поднялся, бычась, сбоку поглядел на Потапова, отвесил молчаливый поклон.
Только на улице Алексею Никитичу пришли на ум те доводы, которые, как ему казалось, могли дать перевес в споре с Потаповым. И он продолжал мысленно этот спор с гораздо большим успехом для себя, чем прежде, пока не вошел во двор собственного дома и не увидел своего бывшего конюха Василия Ташлыкова. Он выводил из конюшни застоявшегося жеребца Нерона.
Василий был в коротком кавалерийском полушубке, в солдатской шапке. За спиной у него висел карабин.
Еще один солдат в шинели стоял посреди двора и держал в поводу двух коней: рослого дончака и серого орловского рысака, в котором Левченко без труда признал чукинского любимца.
Саша, идя через двор, нес на вытянутых перед собой руках черкесское седло с серебряными насечками и аккуратно сложенный конский потник. Отдал их Василию, что-то сказал, и оба засмеялись.
Не успел еще смех собственного сына отозваться последней болью у Алексея Никитича, как Василий, его товарищ и Саша двинулись к воротам.
Левченко, оказавшийся у них на пути, молча посторонился. Он не задал ни одного вопроса, не сказал ни слова. Стоял и мрачно глядел на них, почти ничего не видя.
Василий, проходя мимо с конем в поводу, как ни в чем не бывало поздоровался с ним. Левченко даже глазом не повел.
Саша, заметив отца, несколько поотстал. Закрыв ворота, он торопливо убежал в дом.
Алексею Никитичу казалось, что никогда еще никто не наносил ему такой кровной обиды. Пошатываясь, точно пьяный, взошел он на крыльцо, с силой захлопнул за собой дверь.
В кабинете он долго сидел с закрытыми глазами. Все рушилось, и он впервые почувствовал себя бессильным повлиять на события.
Соня сразу почувствовала настроение отца. В трудном положении оказалась она. Отец все чаще срывал на ней свою злость. Брат бурно протестовал против ее безропотной покорности и требовал, чтобы она была непримиримой и твердой. А Соне больше всего хотелось, чтобы в семье были и мир и покой.
Она сидела в своей маленькой комнатке с окном на реку и тревожно прислушивалась к шагам и покашливанию Алексея Никитича. С другой стороны, из Сашиной комнаты, доносилось скрипение стула.
«Ах, какая я несчастная! Была бы жива мама, разве бы так получилось? Ничего я не умею, — ни сладить, ни склеить», — горестно думала девушка, наивно объясняя нелады в семье своей неопытностью, не понимая, что причины куда более серьезны. Слезы туманили ей глаза.
Жила Соня, в сущности, одиноко. У нее не было близких подруг, кроме Кати Парицкой. Но склонности и вкусы последней она не могла разделять. Катя искала в жизни прежде всего развлечений. Ее представления о морали в нормах поведения в значительной мере исчерпывались фразой: «Я так хочу!» Взбалмошная, капризная и до крайности легкомысленная, подруга порою вызывала у Сони чувство открытого негодования, протеста. Они часто ссорились.
Когда-то Соня мечтала о настоящей большой дружбе с братом. Саша, будучи гимназистом, всегда посматривал на нее свысока, третируя, как глупую девчонку. У него были свои приятели, свои интересы. Потом он вздумал отправиться на фронт, уйти из дому тайком, так как не смел открыть свое намерение отцу и боялся слез матери. Из всей семьи Саша только ей доверил свою тайну. И она высоко ценила это доверие, ни словом не обмолвилась, пока шли розыски пропавшего Саши. Она страстно молилась за него и была невыразимо счастлива, когда он вернулся живым-здоровым.
Но странные сложились между ними отношения. Соня старалась создать брату необходимые удобства, комфорт, которого он был лишен так долго, стремилась угадать каждое его желание. Саша с благодарностью принимал ее заботы. В свою очередь, он не забывал о мелких знаках внимания: приносил шоколад, цветы. Но Соня видела также, что брата постоянно гнетут какие-то думы. Он становился все более раздражительным, угрюмым. Изменив прежние привычки, Саша то целыми днями безвыходно сидел в комнате и без конца курил, то, напротив, чуть свет отправлялся бродить без цели по окрестностям. Возвращался он в таких случаях поздно, бесконечно усталый и голодный, но все такой же мрачный. Соня как-то попыталась вызвать брата на откровенный разговор, чтобы узнать причину его дурного настроения. Саша взволнованно и горячо заговорил о вещах, в которых она так ничего толком и не поняла. Это рассердило его: он упрекнул сестру в черствости и равнодушии к людям. Соня заплакала. Повторные попытки объясниться также ни к чему не привели.
После смерти матери домашнее хозяйство целиком легло на плечи Сони. Алексей Никитич редко вмешивался в ее дела, определив только общую сумму ежемесячных расходов на стол и прочие надобности. В доме держали кухарку и конюха. Кроме того, со стороны приходили поломойка и прачка. После ухода Василия нового конюха еще не подыскали. Теперь Саша ежедневно по утрам сам колол дрова и носил их на кухню.
— Кажется, это единственное, что оправдывает мое пребывание в доме, — с грустной усмешкой сказал он как-то сестре.
Соня посмотрела на брата большими печальными глазами и ничего не ответила. В ее голове не укладывалась мысль о том, что родной дом может оказаться чужим. Почему? В силу каких причин?
Над этим она размышляла сейчас, сидя за вышивкой. Ее мало интересовало все происходящее за стенами их дома. Она довольствовалась тем, что усваивала и высказывала чужие банальные взгляды на события, не помышляя даже о том, чтобы составить свою собственную точку зрения.
В Сашиной комнате слышались голоса. Вероятно, к нему зашел кто-то из знакомых. Потом разговор за стеной оборвался, доносились только легкие и быстрые шаги брата. Внезапно Саша появился на пороге ее комнаты с газетой в руках, с расстегнутым воротом и пылающим взглядом.
— Ты представь только, что я сейчас узнал! Представь, — громко, негодующим голосом воскликнул он и шагнул в комнату, оставив дверь открытой. — Эти ограбления, эти убийства в гостинице «Париж», которые все тут приписывают милиции и Красной гвардии, они, оказываются, дело рук — кого бы ты думала? — господина Каурова и твоего любезного обожателя Варсонофия Тебенькова. А газеты кричат о злодействе красных. Нет, какая подлость! Какая низость! И оба они — свои люди в вашем доме... Убийца целует руки моей сестре и, вероятно, может рассчитывать на взаимность... Я уже что-то слышал о ваших отношениях. Что ж, продолжай! Он нисколько не хуже всех других в этом доме...
Скрестив на груди руки, Саша уничтожающе посмотрел на сестру.
Соня, готовая разрыдаться, глядела на него, ничего не понимая, чувствуя, что брат незаслуженно и больно оскорбляет ее.
— Саша, уверяю тебя: все ложь! Не верь! — Она приложила обе руки к груди.
— А мы тут все говорим о гуманности, культуре. Рассуждаем о судьбах России. Собираемся что-то спасать. Хороши, однако, спасители! — саркастически продолжал Саша. — И твой разлюбезный Варсонофий хорош! Ходит франтом: сапоги рантом. А внутри что — торичеллиева пустота. Как ты этого не видишь?
Соня удивленно посмотрела на него, рассердилась и, закрыв лицо руками, вдруг заплакала.
Саше стало совестно и больно. «Зачем я оскорбил ее?» — подумал он. Но злые, несправедливые слова продолжали срываться с языка.
— Ну зачем ты меня мучаешь? Зачем? — воскликнула Соня, со страдальческим выражением лица посмотрев на него. Слезы катились по ее щекам.
— Прости, сестренка! Извини меня, пожалуйста, — Спохватился Саша и стал нежно гладить ее руки. — Ты хорошая, чистая, только... слепая. Может, и лучше, что ты не замечаешь окружающей грязи. Но ведь рядом течет другая жизнь. Рядом ходят настоящие люди. По крайней мере они чисты в своих побуждениях. Эх, Соня, если бы ты знала... Как мне тошно и душно в этом доме!
— Вот как! Так за чем же дело стало? Я тебя не держу. Иди! — угрюмым, надтреснутым голосом сказал Алексей Никитич: привлеченный громким разговором, он уже несколько минут, никем не замеченный, с мрачным видом стоял в дверях.
— Отец, что ты говоришь! — вскричала Соня.
— Оставь, сестренка. Я уже не маленький. — Саша отстранил ее, шагнул вперед и тихо спросил: — Хочешь поторопить события, отец?
Спокойный тон вопроса удивительно отрезвляюще подействовал на Алексея Никитича. Он собирался грозно крикнуть сыну: «Вон!» — и тут же указать на дверь. Но, взглянув в решительные глаза Саши, Левченко поспешно отвернулся. Переступив в замешательстве с ноги на ногу, он ушел к себе в кабинет и надолго закрылся там.
Саша постоял возле окна, машинально водя пальцем по стеклу.
Мороз крепчал; окна затянуло тонкими ледяными узорами, похожими на листья папоротника.
На улице падал снег. Из-за него казалось, что мир, видимый из окна, кончался через две улицы.
Соня вытерла платочком глаза, посмотрела в зеркало.
— Так-то мы встречаем Новый год, — вздохнув, сказала она. — Ты пойдешь к Парицким? Звали.
— Никуда мне не хочется идти, — откровенно признался Саша. — Впрочем, если ты так желаешь... Только не суди меня строго: я сегодня напьюсь.
В просторном особняке Парицкой, отгороженном от улицы высоким забором, поселились смятение и страх. Они растеклись по комнатам, и каждый из обитателей дома не раз ощущал на себе их леденящее дыхание.
Встреча Нового года, вопреки обычаю, проходила менее шумно и за закрытыми шторами окнами.
Гостей ждали к одиннадцати. Юлия Борисовна обещала приятный сюрприз — знакомство с петроградской знаменитостью.
Белели тонкие скатерти, сверкали хрусталь и серебро, искрилось вино в графинах. Весь громадный стол был заставлен яствами.
Хозяйка была одета в длинное темно-зеленое платье из тяжелого шелка, с буфами на плечах и высоким, наглухо застегнутым воротом.
Катя в соседней комнате осматривала себя в зеркало, вертелась перед ним так и этак, любовалась и новым платьем и собой.
Из кабинета через открытую дверь за нею с усмешкой наблюдал Джекобс — единственный мужчина, оставшийся в квартире после отъезда Перкинса во Владивосток для встречи с Колдуэллом — консулом Соединенных Штатов.
По случаю праздника журналист приоделся. На нем был щегольской коричневый костюм в полоску, жилет и галстук бабочкой.
Джекобс никогда не стеснял себя в отношениях с женщинами. Отчего не поволочиться и за хозяйской дочерью? Он поглядел опять на Катю, подивился ее плоской фигуре и усиленно задымил сигарой.
В передней послышались голоса. Пришли лесозаводчик Бурмин и его жена — черная, худощавая женщина в узком платье со шлейфом.
Юлия Борисовна кинулась к ней, клюнула носом в щеку, и обе затараторили без умолку.
Катя завела граммофон. Он пошипел, пошипел и рявкнул неимоверно густым басом: «Вдоль по Питерской!» Катя отпрянула, будто испугалась, и побежала по внутренней лестнице вниз за Соней Левченко.
Когда она вернулась, в квартире уже было полно гостей. Во всех комнатах жужжали голоса.
— Обожаю английский обычай: сходиться всем сразу, а уходить не докладываясь, — говорила Юлия Борисовна. И тут же повернулась к вошедшему Чукину. — Как живется, Матвей Гаврилович?
— Вашими молитвами, матушка. — Чукин тоненько засмеялся, подмигнул одним глазом пробегавшей мимо Кате, высунул для чего-то язык и продолжал неопределенно: — Живу... А где же ваша знаменитость? Хоть посмотреть.
— Будет, будет, — сказала Парицкая не совсем уверенно.
Чукин теперь чаще отдавался чувству мрачной безнадежности, взгляд у него стал бегающий, волчий. Хотелось услышать что-нибудь утешительное. Что скажет петербургский гость?
Неожиданно в гостиной появился незваный, но приятный всем гость — благовещенский золотопромышленник и пароходовладелец Зотов. Он ловко протиснул в дверь свое неимоверно расплывшееся тело, засиял улыбкой и лысиной.
Зотов приехал на несколько дней, чтобы ориентироваться в обстановке. Хотел прикинуть, как последние события отразятся на его торговых и посреднических операциях. В отличие от Чукина и Бурмина Зотов был настроен оптимистически.
— Ты так живи: сделал на грош, шуми на рубль. Люди шум любят, — поучал он Чукина, когда тот стал жаловаться на жизнь. — Кто такой капиталист? Благодетель народу своему. Вот соответственно и держись. Да привечай людей, которые за твои же деньги разводят турусы на колесах. Это расход оправданный.
Было видно, что революция по-настоящему еще не задела Зотова, только напугала.
Семеня короткими ножками, он передвигался от одной группы к другой, слушал, присматривался, вертел головой.
Жена Бурмина скрипучим голосом тянула, закатывая вверх глаза:
— Государь-император... в Тобольске... дрова пилит... Да, да, да!.. Ужас!..
— А большевики в Бресте договариваются с немцами. С немцами, а?.. Совет Антанты никогда этого не потерпит, — вторил хриплым голосом ее супруг и жадно хватал толстыми пальцами воздух перед собой.
Мрачный Левченко с усталым лицом и воспаленными глазами неподвижно сидел на диване в кабинете и молча слушал рассуждения Судакова об Учредительном собрании и его исторической роли.
Чукин тоже слушал, приложив ладонь лодочкой к уху, согласно кивал головой.
— Да, да. Учредительное собрание... У меня сегодня серого рысака увели. Реквизировали для конного отряда Красной гвардии.
— На Дону — Каледин, в Оренбурге — Дутов... Собираются силы, а?
Джекобс, вступив в разговор, развивал тему о независимой Сибири. Он хвалил Джона Стивенса и его опыт по строительству Панамского канала. Рекомендовал следить за событиями в Омске.
Чукин блеснул глазами, захохотал:
— Лежит каравай — хватай, не зевай!
«Очи черные, очи жгучие...» — неслось из граммофонной трубы в гостиной.
Явился Варсонофий Тебеньков, щелкнул каблуками, раскланялся с мужчинами, поцеловал руки женщинам.
Саша, одетый в темно-синюю венгерку с черными шнурами, стоял у стены, глядел исподлобья. Варсонофий разлетелся к нему с протянутой рукой.
— Я вам руки не подам! — громко сказал Саша, пряча руку за спину.
Соня взглядом умоляла его не поднимать публичного скандала.
— Ах, молодые люди, вечно вы петушитесь! — с гримасой неудовольствия сказала Юлия Борисовна. — Катя, займи, пожалуйста, господина Левченко.
И противники разошлись в разные стороны. Варсонофий, пожав плечами, присоединился к кружку возле Джекобса. Катя, взяв Сашу под руку, направилась с ним по анфиладе комнат смотреть выставленные картины. Катя сообщила, что они приобрели несколько новых полотен.
Картины оказались малоинтересной мазней. Саша не разделял восторгов тех, кто превозносил «новое» направление в искусстве. Он равнодушно скользил взглядом по полотнам, нисколько не тронутый ни их мрачным колоритом, ни пестротой красок. Все было бесконечно далеко от натуры.
— Очень пикантно. Не правда ли? — спросила Катя, обеспокоенная его молчанием.
— Надо посмотреть при дневном освещении, — уклонился он и прошел в соседнюю комнату.
Здесь было несколько акварелей. На одной изображен осенний пейзаж: группа кленов с падающими багряными листьями, ветер, рваные клочковатые облака и высоко в небе потянувшийся к югу журавлиный клин. Картина вызывала определенное настроение, чувствовалась рука мастера.
— Это чья же кисть? — спросил Саша, тщетно пытаясь разобрать подпись.
— Вам нравится? — Катя скользнула по акварели равнодушным взглядом. — Мама купила по случаю, очень дешево. Вы знаете, ее многие хвалят. Надо будет подобрать раму посолиднев, — озабоченно заметила она.
Гости усаживались за стол.
— Возблагодарим господа-а и помянем год отошедший, како положено-о! — сиплым баском провозгласил находившийся среди них священник и пальцами мелким крестом осенил скатерть перед собой.
— Ах, отче! Да за что его поминать? Отошел — и пес с ним, — сказал Чукин. — Не дай бог в другой раз такое сальдо.
— Положено, сын мой. Положено, — пробасил батюшка и первым потянулся к графинчику.
Все благопристойно засмеялись, зазвенели рюмками. В эту минуту и вошел пожилой человек в дымчатых очках. Кивнул небрежно головой, приветствуя всех сразу, пробормотал:
— С наступающим, господа! — и сел рядом с Юлией Борисовной.
— Наш гость — петроградский профессор, светило науки, — торжественно сказала Парицкая. Она посмотрела на него тем же оценивающим взглядом, что и на стол до этого. — Возьмите маринованных грибков, профессор. Это от Елисеева...
Алексей Никитич покосился на столичного гостя, осторожно осведомился:
— Не имел чести встречаться. Вы, собственно, в какой области работаете?
— Я — астролог, — сказало светило науки, с хрустом пожирая грибки и до обидного мало уделяя внимания людям, сидевшим за столом.
— Н-да... — Левченко засопел носом, еще раз взглянул на гостя, как смотрят на диковинного зверя, и, потеряв к нему всякий интерес, занялся едой.
— А чем же занимается астролог? — поинтересовалась жена Бурмина.
— Предсказанием судеб народов и государств, сударыня. На основе последних данных науки, — с важностью изрекло светило.
— Ах, как интересно! — воскликнула Катя.
Астролог сверкал нанизанными на пальцы массивными перстнями, блестел голым, начисто выбритым черепом.
— Господа, я только что закончил составление политического гороскопа 1918 года. Это причина моего опоздания, сударыня, — и он слегка поклонился хозяйке.
Послышались возгласы приятного удивления.
— Что же нас ждет в наступающем году? — спросил Бурмин.
— Шарлатанство! — сказал одновременно Алексей Никитич.
Астролог поверх очков строго посмотрел на него, пожевал губами.
— Видите ли, господа. Современная наука астрология зиждется на прочих основах физических знаний... — нудным голосом школьного педанта он заговорил о связи между появлением пятен на солнце и периодическим усилением электромагнитных возмущений в земной атмосфере. — Не влияет ли та же периодическая волна тепловой и электрической энергии на тонкий организм человека, на его нервную систему и мозговую деятельность? Не отражается ли биение солнечного пульса на пульсе общественной и политической жизни? — вопрошал астролог, задумчиво рассматривая сквозь дымчатые очки голые плечи Кати Парицкой. И, ссылаясь на ученого аббата Морэ, он утверждал, что это именно так. — Астрология, господа, способна указывать правительствам и рулевым государств опасные мели и пучины.
— Это не ново — философский плагиат... у древних египтян, — с презрением посмотрев на светило двадцатого века, заметил Левченко. — Попятный ход на сорок веков. Поздравляю, господа.
— Нет, батенька мой, я не согласен! Новейшая философия вполне допускает возможность такого экстравагантного толкования данных космогонии, — тотчас вступился за астролога просвещенный заводчик Бурмин. — Один факт, что астрология продержалась пять тысячелетий, говорит за себя. Имеется, следовательно, в ней рациональное зерно-о. Кто в наше время вздумал бы добывать огонь посредством трения?
— Чушь будет держаться, пока живут дураки, желающие ей верить, — отрубил Левченко, поглядел на астролога и добавил едко: — И шарлатаны, зарабатывающие на этом.
— Господа, пожалуйста, без личных выпадов. В конце концов свободная борьба мнений двигает прогресс. Наука начинается всегда с предположений, с гипотез, — примиряющим топом сказал Судаков. — Наш уважаемый коллега... Гм... профессор... дал оригинальное изложение взглядов противоположного нам философского направления. М-да!.. Он предпринял заслуживающую внимания попытку... гм! гм!.. попытку перебросить мостик через вековую пропасть, разделяющую искони идеализм и материализм.
— Все в руце божьей! Мир — его творение, — громыхнул несообразно объему комнаты подвыпивший священнослужитель.
— А я не отрицаю, батюшка, воли всевышнего. Не отрицаю, — сказал астролог. — Дело в том, чтобы уловить законы ее проявления... чрез изучение законов мироздания.
Стук ножей и вилок не мешал разговору. Астролог продолжал редко цедить слова, успевая в промежутках выпивать и закусывать.
— Годы минимума солнечной энергии совпадают с годами всемирных выставок. С усилением солнечной активности... человечеством овладевает лихорадка — рождаются обострения, возникают войны. Ветер безумия охватывает
«Какая несусветная чепуха!.. И это у нас именуется наукой? — с горечью и раздражением думал Алексей Никитич. Неожиданно для себя он взглянул на сидящих за столом хорошо знакомых людей с другой стороны и увидел их совсем не такими, какими они представлялись ему прежде. — Н-да... И я — инженер, человек, уважающий русскую науку, ученик Менделеева... Я сижу рядом с этим... профессором черт знает чего! — Левченко выругался про себя, вспомнил почему-то Потапова, усмехнулся. — Если бы он только знал...»
Ему стало стыдно за себя, стыдно за то, что он привел сюда своих детей. Он осторожно скосил глаза и посмотрел на другой конец стола. Саша насмешливо улыбался, глядя на астролога. Соня шепталась с соседями, и, видимо, активность солнечных пятен мало задевала ее. Зато жена Бурмина, вытягивая длинную шею, с молитвенным экстазом взирала на дымчатые очки.
Катя Парицкая со смелым любопытством глядела на астролога, вызывающе поводя плечиками, и с некоторым разочарованием думала о том, что и на солнце оказались пятна. Вот уж не замечала! Вероятно, этот господин для того и носит дымчатые очки.
Астролог взглянул на большие стенные часы, показывавшие без двух минут двенадцать, вскочил с живостью, какую трудно было предположить в нем, поднял палец, призывая к молчанию.
— Итак, господа. Сейчас пробьют часы. Магическая стрелка времени пойдет на новый круг. Я объявляю результаты моих вычислений, — непререкаемым тоном пророка произнес он. — Поскольку максимум солнечной активности уже позади... Политический гороскоп ближайшего года таков: падение активности человеческих масс. Уклон народов к успокоению и миру во внутренних и внешних отношениях.
— Да будет так! — воскликнул Чукин и чокнулся с астрологом.
Все держали бокалы, ожидая боя часов.
Вдруг громкий хохот Саши нарушил торжественную тишину.
— Часы-то... остановились! Стоят, — восклицал он в веселом исступлении. — Новый год пришел... без нас. Не доложился... Поздравляю! — Он залпом выпил свой бокал и сразу налил еще. — Пейте, что же вы!
Мужчины с кислыми физиономиями вытаскивали часы, хлопали крышками.
— Говорила я тебе, Катя: проследи, чтоб завели часы, — строго выговаривала дочери Юлия Борисовна.
Гости разбились на группы. Лица раскраснелись, глаза заблестели, жесты стали свободнее.
— Скучно в нашем городе. Удивительно тоскливый пейзаж. Нет здесь культурных развлечениев, — жаловался девушкам Варсонофий Тебеньков, норовя под столом коснуться коленом ноги Кати Парицкой.
— Развлечений, — поправила Соня и улыбнулась, вспомнив, какую характеристику Тебенькову дал недавно Саша.
Алексей Никитич медленно потягивал вино из бокала. Да, многое теперь стало иным, и надо было как-то приспосабливаться к изменившейся обстановке. Он вспомнил предложение, сделанное ему Потаповым. Нет, ни за что! С другой стороны, он критически взглянул не только на Парицкую, но и на Бурмина — человека в общем неглупого. Что же говорить об остальных?
Вот Зотов — авантюрист, каких свет мало видывал. Он чувствует себя тут в своей компании. Хлещет водку, шумит. О чем это он шепчется с Чукиным?
«Погоди, придет и твой черед», — подумал он мстительно о Зотове. С преуспевающим амурским золотопромышленником у Алексея Никитича были старые счеты.
Саша, слегка покачиваясь, стоял за стулом Судакова и слушал разговор попа с астрологом.
Что-то из сказанного показалось Саше обидным. Он запальчиво вмешался в разговор и сразу же наговорил дерзостей. Отрезвил его вопрос Судакова:
— Вы что же, молодой человек, скандала хотите?
— Н-нет. Извините меня, пожалуйста, — пробормотал
Саша и отошел.
Где-то за окном неожиданно хлопнул выстрел. Рассыпалась частой дробью стрельба. Запоздало бухнул вдогонку еще раз кто-то, и все стихло. Далекие выстрелы похожи на негромкие хлопки.
— Что это, господа? — спросила Парицкая.
— Шампанское на улице откупоривают, — бравируя спокойствием, сказал Тебеньков. Однако сам заметно побледнел.
Саша уже совсем трезвым взглядом зорко посмотрел на него.
Минут через двадцать пять проскакала куда-то пожарная команда. Тревожно и часто звонил колокол.
— Го-орит! — сказал Бурмин.
Кто-то вышел посмотреть.
— Да-алеко...
Звон посуды, смех, голоса отвлекли Сашу от его дум.
За столом теперь все говорили сразу, и отдельных голосов уже нельзя было понять. «Эх, деятели», — с брезгливой гримасой подумал Алексей Никитич.
Он вышел в кабинет покурить. Тотчас за ним отправился и Джекобс.
— В Штатах такой человек мог бы делать хороший бизнес, — закурив, сказал он об астрологе.
Алексей Никитич усмехнулся. Проследил, как растекался по углам табачный дым.
Джекобс осторожно стал расспрашивать о положении дел в золотодобывающей промышленности. Его интересовали условия добычи металла и возможности механизации приисков. Между прочим поинтересовался он и прииском Незаметным.
Алексей Никитич, когда Джекобс заговорил о Незаметном, насторожился. Он ревниво относился ко всему, что было связано с прииском.
— Вы хорошо знаете край, — говорил Джекобс. — Такие люди высоко ценятся...
Тут они посмотрели друг на друга, и Алексей Никитич понял, ради чего затеян этот разговор.
А Джекобс уже распространялся об американских методах добычи золота, о наличии в Штатах свободных капиталов, ждущих применения.
Левченко поднялся.
— Знаете, пока доберешься до настоящей жилы, приходится не раз бить шурфы впустую. Уж я горное дело досконально изучил, можете мне поверить, — сказал он и ушел к себе вниз, предоставив Джекобсу разгадывать смысл его слов.
С черного хода кто-то постучал. Юлия Борисовна вышла, тотчас вернулась и пальцем поманила Тебенькова.
В темном коридорчике, что вел на лестницу, стоял Кауров в низко надвинутой папахе. Он с трудом переводил дыхание, лицо у него кривилось.
— Черт! Застукали нас сегодня. Двоих, кажется, потеряли. Перестрелка была.
Варсонофий кивнул головой:
— Я слышал.
Кауров пошарил сзади рукой, негромко ругнулся:
— Тысяча чертей! Лез через забор... напоролся на гвоздь. Всю штанину распахал... Ты меня тут устрой на день-два. Сможешь?
В комнате, которую ему отвела хозяйка, Кауров стягивал сапог, морщился.
— Устроили фейерверк... Зарево на полнеба. Чертовски меня жажда мучит. Тащи сюда, Варсонофий, коньяку и побольше!
Горело недалеко от дома Савчука. Вверху над темным обрывом поднималось трепещущее бледное зарево. Кто-то под окнами суматошно кричал:
— По-ожа-ар!
Савчук лежал в постели, но еще не успел заснуть. Не зажигая света, он прямо на белье накинул шинель и выскочил во двор.
По черному небу летели золотые искры. На фоне разгорающегося пожара рельефно выделялись крыши ближних домов.
— Что горит?
— Скла-ад, — ответили с улицы, сразу наполнившейся бегущими людьми.
— Багры захватывай!.. Ведра-а...
Савчук грохнул кулаком в соседнюю дверь:
— Петров, живо! Склады спасать.
Ахнула позади Федосья Карповна.
Пока мать трясущимися руками зажигала лампу, Савчук успел натянуть брюки, обуться в валенки.
— Ты сапоги обуй. Сапоги. По головешкам придется ходить, — посоветовала Федосья Карповна.
Дарья выбежала одновременно с Савчуком, загремела в дверях ведрами.
— Моего дома нету. Как с вечера ушел, так и гуляет... Беда какая! Склад, а? — говорила она, поспешая за Савчуком, оступаясь на крутой и скользкой тропе.
Поднявшись на гору, они сразу увидели горящее строение. Огонь длинными желтыми языками лизал выходящую на улицу переднюю стену мучного лабаза. Он уже вскарабкался на тесовую крышу и быстро разбегался по той стороне ее, с которой ветром посдувало снег.
Возле огня суетились люди: подскакивали, плескали на стену водой из ведер, отходили, уступая место другим.
Метель к этому времени прекратилась, но ветер дул с прежней силой.
— Ой, бежим! — крикнула Дарья и бросилась вперед.
Савчук сразу понял, что склад отстоять не удастся. Огонь охватил как раз ту стену, в которой была прорублена единственная дверь. Толстые лиственничные бревна, высушенные солнцем и ветрами, успели разгореться так, что за десять шагов чувствовался нестерпимый жар.
Воду подносили ведрами с противоположной стороны улицы. Огонь, когда на него брызгали водой, шипел, сердито пофыркивал и тут же с веселым треском опять набрасывался на стену, будто насмехался над тщетными усилиями людей.
По толпе ходило страшное слово:
— Поджо-ог!
— Да у кого ж это руки поднялись?
Какая-то разбитная бабенка бегала от одной кучки зевак к другой, захлебываясь словами, торопливо рассказывала, как поджигатели придушили сторожа и облили стену керосином. Да на них в момент поджога наскочил милицейский патруль и будто всех перебил.
— Туда им и дорога, — сурово говорили в толпе.
Савчук допытывался:
— Муки в складе много?
— Да теперь, мил человек, все равно. В огонь за нею не кинешься.
— Надо вышибить дверь!
— Правильно! У забора лежат бревна-тонкомер. Для тарана сгодятся, — сказал кто-то за спиной Савчука.
Дверь, крепко прихваченная поперечным железным брусом, замкнутым на большой висячий: замок, загудела от тяжелых ударов.
— Ещ-ще р-раз! — командовал Савчук.
Дарья, бегавшей с ведрами через улицу, видела, как на фоне огненной стены выросла громадная фигура Савчука и тотчас исчезла в зияющем черном провале. Вслед за ним туда же кинулся невысокий человек в пальто. Но больше никто не посмел рискнуть.
— Да что же вы, люди!.. Сгорят они! — закричала Дарья.
— Куда тут? Видишь, полыхает, — беспомощно развел руками одни из мужчин.
В эту минуту Савчук выбежал из склада с мешком муки на плечах, свалил его у ног неподвижно стоящих людей.
— Ничего, дышать можно! — крикнул он бодрым голосом и тут же повернул обратно.
За ним кинулись человек двадцать.
Склад горел снаружи. Пока огонь не успел прогрызть толстые стены, внутри еще можно было дышать. Пятипудовые мешки с мукой были сложены штабелями в дальнем конце склада.
— Давай, давай! — Савчук возгласами подбодрял людей. — Ходи живей! Не робей!
Тяжелые мешки летали в руках, как мячики. Люди двигались только бегом. Они соревновались с огнем, вырывая у него добычу.
Огонь сперва как будто примерялся, заглядывал внутрь склада сквозь щели, не очень спешил, уверенный, что люди отступят. Потом он спохватился, усилил натиск. Потрескивающее пламя прорвалось на чердак, изнутри проскакивало на крышу, грызло стропила. Оно ползло по стенам, зло шипя на людей, дерзнувших вступить в единоборство с ним.
Дверь склада стала похожа на жерло раскаленной докрасна печи.
С запозданием прискакала пожарная команда. Струп из брандспойтов осадили, приглушили пламя над входом.
— Ага! Наша берет! — кричали люди, в исступлении качая воду ручными помпами. Но запас воды в бочках иссяк, и огонь с удвоенным рвением продолжал свое дело.
Дым повалил внутрь склада, словно радуясь возможности досадить смельчакам. Нечем стало дышать.
Огонь вызвал сильный приток воздуха, который, нагреваясь, с гудением устремлялся вверх, унося с собой искры и мелкие головешки. Пляшущие языки пламени приманивали ветер, сами порождали его и, радуясь поддержке, суматошно метались над крышей, поддразнивая суетящихся внизу людей.
А люди храбро проскакивали огненный круг, гасили руками пламя на одежде, наскоро обливались водой и, разогнавшись, опять исчезали в гудящем аду. В шуме огня почти не было слышно их голосов.
«Еще мешок... Еще», — не дыша, думал Савчук, чувствуя, как у него пересохло и першит в горле.
Внутри помещения дым оказался врагом еще более страшным, чем огонь. Он лез в горло, царапал, вызывал нестерпимый кашель, душил. Дым поедом ел глаза, ослеплял.
Савчук задыхался и кашлял. В розовых отблесках огня он видел суетящиеся фигуры людей с мешками на плечах. С большой сноровкой работал тот невысокий человек в пальто, который первым кинулся в огонь за Савчуком.
— Обливайтесь водой у входа! Слышите, — крикнул он, принимая на плечи мешок и шатаясь под его тяжестью.
Разбирали последний штабель.
Огонь словно ждал этой минуты. Жаркое пламя охватило внутренние стены склада. Рушилась на головы прогоревшая обшивка чердачного перекрытия. Черно-багровый дым вытеснил остатки воздуха, которым можно было дышать.
— Шаба-аш! Уходи все! — крикнул Савчук, чувствуя, как у него самого подкашиваются ноги.
С неимоверным напряжением сил вынес он последний мешок и рухнул ниц, уткнувшись лицом в снег, не чувствуя, что у него тлеет воротник и горит пола шинели.
Кто-то засыпал огонь снегом. Кто-то другой сказал:
— А один не вернулся. Должно быть, задохся в дыму.
Савчук, не спрашивая, кто не вернулся, не думая, что и сам он может остаться там, в огне, поднялся и, все еще пошатываясь, побрел навстречу гудящему пламени.
— Вы с ума сошли! — кто-то пытался остановить его, схватил за руку.
Савчук довернул к нему свое почти незрячее, безбровое, обожженное лицо:
— Там человек... Вы понимаете?
Огонь жег, обдавал нестерпимым жаром. Двигаться можно было только ощупью: из-за дыма ничего не было видно.
Чудом Савчук наткнулся на лежащего на полу человека, поднял его на руки. Чудом он разыскал проход в той сплошной огненной стене, в какую к этому времени превратился склад. В бешеном реве ликующего пламени, сквозь которое он все-таки прошел, Савчук различил сухой сильный треск и понял, что это рушатся стропила. В следующее мгновение что-то больно ударило его по голове, и он упал, прикрыв собою спасенного им человека.
Огонь злобно взвыл, забегал в ярости по стенам, обвалил внутрь склада прогоревшие балки потолочного перекрытия, взвился высоко в небо целой тучей летящих искр.
Огонь свирепствовал, угрожая переброситься на другие склады городской Продовольственной управы. Ветер, оправдывая расчеты поджигателей, перекидывал на соседние крыши злые шипящие языки пламени. Но люди стояли на страже. Они сразу же забрасывали пламя снегом, заливали водой, стягивали баграми вниз горящие тесины, затаптывали огонь ногами.
Огню не давали хода. И его буйная сила начала угасать. Языки пламени мельчали, корчились, опадали, змейками уползали куда-то вниз. Белый едкий дым стлался над обгорелыми черными остатками склада.
Люди деловито растаскивали баграми чадящие головешки. Безжалостно добивали своего врага...
Савчук лежал на кушетке в одном из соседних домов. Рядом, склонившись над ним, сидела Дарья. Она смазывала гусиным салом обожженные руки Савчука и глазами, полными слез, глядела на его почерневшее от копоти и дыма лицо.
— Иван Павлович, родной!.. Обгоре-ел как, — тихонько, нараспев, по-бабьи, причитала она.
— Ничего, отдышится! У него обморок от недостатка дыхания. Пройдет! До серебряной свадьбы с ним вполне доживете, — уверенным голосом успокаивал Дарью хозяин квартиры — шустрый веселый старичок. — А ну-ка, хозяюшка, подай нам флакончик нашатыря. Мы молодца сейчас взбодрим. Он у нас чихнет. Чихнет и вскочит.
Его жена, высокая женщина, порылась в шкафу и извлекла оттуда покрытый пылью плоский флакон. Обтерев пыль передником, она подала его мужу.
Старичок понюхал пробку, сморщился, приоткрыл флакон побольше и быстро поднес к носу Савчука. Савчук чихнул, открыл глаза. Чихнул еще раз и сел, спустив ноги на пол.
— Как по писаному. Будьте теперь здоровы! — весело сказал хозяин и рассмеялся. — Крепкая штука — аммиак! Держу на случай смертельно опасного заболевания. Как буду отходить, жена шарахнет этой дрянью по ноздрям — тут и смерть от меня прочь. Либо уж я отжил свое на белом свете. Одно из двух.
Савчук растерянно мигал, переводил покрасневшие воспаленные глаза со старика на Дарью, видимо, не мог сообразить, каким путем очутился здесь.
— А я так испугалась за вас, Иван Павлович! Аж сердце зашлось. Тук-тук — и замерло... будто рукой схватил кто, — взволнованно и радостно говорила Дарья, прижимая свои руки к груди, и счастливыми глазами смотрела на Савчука.
— Шутка сказать, экий жар был! Через улицу достигал. Ледок на окнах со стороны пожара обтаял, можете убедиться, — все тем же веселым тоном подхватил хозяин. — Счастливо прошли, молодой человек, через огонь и воду.
— Другие склады как... отстояли? — спросил Савчук, поднимаясь на ноги.
Ноги дрожали, подгибались под ним. Болела забинтованная голова. Явственно ощущалась саднящая боль в руках, на шее.
— Не допустили. Всем миром навалились на огонь, — хозяин поглядел в темное окно, прислонившись лбом к холодному запотевшему стеклу. — Головешки растаскивают. А могло быть и хуже — ветер...
Савчук неуверенными шагами ходил по комнате, разминал ноги.
— Спасибо за ласку и доброе слово! Пойду, — он накинул шинель, посмотрел с огорчением на обгоревшую полу.
— Шинеленку-то повредило изрядно. Добрый материалец — солдатское сукно, а против огня — нестоек, — говорил словоохотливый хозяин, провожая Савчука и Дарью. Мимоходом он сунул Дарье баночку с гусиным салом. — Чудесное средство. Не жалей, мажь. — И, посветив в темноту фонарем «летучая мышь», крикнул вдогонку: — Так не забудь, молодица, — на серебряную свадьбу зови!
«Серебряную свадьбу? — удивилась Дарья. — Ах, он меня за его жену принял. За жену», — догадалась она и почувствовала, как у нее сразу загорелись кончики ушей.
«А была бы я ему верной женой. Я бы его... ласкала... берегла, — думала она, поддерживая под руку спотыкающегося Савчука. — Он, глупый, не знает, не догадывается, как в сердце ко мне вошел с огнем вместе. Жарким пламенем бы сгорела ради него... Ах, жизнь моя непутевая... неудачная».
Образ Савчука, смело идущего через огонь, не сгибающегося перед бедой и опасностью, навсегда запечатлелся в ее памяти. Поняла она это в те немногие секунды, когда прежде других кинулась навстречу опаляющему жару, подхватила, оттащила обеспамятевшего Савчука прочь от страшного огня. Едва она сделала это, как на место, где недвижимо лежал он, с грохотом свалилось тяжелое бревно. Она успела выхватить Савчука, на какую-то долю секунды опередила смерть. И теперь она гордилась им, как мать гордится сыном.
Савчук на свежем воздухе постепенно приходил в себя.
Вскоре Иван Павлович заметил, как дрожит Дарьина рука, и понял, что она, поддерживая его, готова свалиться от треволнений и усталости. Он усмехнулся, обнял Дарью за плечи твердой рукой и сам повел ее по дороге, чувствуя, как доверчиво прильнула к нему женщина.
— Ну и наглотался я сегодня дыму! А ведь мог свалиться там. Свободно. Была бы мне крышка, — задумчиво сказал он и рассмеялся здоровым смехом сильного человека. — Как все-таки хорошо дышать свежим воздухом. Дышать, дышать... Знаете, пройдемся еще разок по улице...
Когда они спустились наконец вниз, Дарья заметила огонь в окне своей комнаты. «Наверно, опять вернулся вдрызг пьяный», — равнодушно подумала она о муже.
Савчук, прощаясь, крепко пожал ей руку:
— Спасибо, Дарья Тимофеевна!
— И вам спасибо, Иван Павлович! — с чувством сказала она, думая о том, что с этого дня для нее многое должно измениться. И вдруг спохватилась: — Ах, батюшки! А ведра? Ведра-то я позабыла.
Петров против ожидания был трезв. Он сидел с хмурым видом у занавешенного окна и чистил маузер, поспешно накрыл его полотенцем, как только звякнула дверная щеколда. Увидев жену, он усмехнулся и ничего не спросил.
Среди грузчиков Петров слыл человеком, на которого нельзя особенно полагаться. Слишком уж заметно норовил он устраиваться на работы, где полегче. Любил пить и жить за чужой счет. При случае умел пустить пыль в глаза, блеснуть острым словом.
Революцию он встретил как человек, которому до чертиков надоело быть у других под началом. Из всех политических партий его сразу потянуло к анархистам. Нравились ему их звонкие, хлесткие слова, вольная, разнузданная жизнь, при которой не нужно задумываться о завтрашнем дне. Чего еще желать Петрову при его характере и наклонностях?
— Где ж гулял, муженек? Ради Нового года не мог домой прийти, как все люди? — моя руки под умывальником, спросила Дарья.
— Я тебя ведь не спрашиваю, где ты до утра ходишь, — огрызнулся Петров.
— За твоими дружками следы убирала.
— Что? Ты чего мелешь? — Петров зорко исподлобья посмотрел на жену.
— Дружков твоих не видала, говорю, на пожаре. Или они там раньше побывали?
Петров подозревал, что дело не обошлось без участия боевиков анархистского клуба. Но именно поэтому он счел нужным обидеться.
— Моих дружков понапрасну не хули. Они люди хорошие.
— Хо-орошие... когда спят.
— Да-арья! — Петров повысил голос.
— Нагляделась на них до тошноты. И чего тебя потянуло в такую компанию? Легкой жизни все ищешь? — не обращая внимания на угрожающий тон мужа, продолжала Дарья. — Ищи, ищи... да помни: чем поиграешь, тем и зашибешься...
— Ну, это не твоего ума дело. Ты мне не советчица.
— Не меня, так людей бы посовестился.
— А что мне люди?.. Каши в рот не покладут.
— Не в лесу живешь, мил человек, — среди народа, — наставительно заметила Дарья и с оттенком презрения посмотрела на мужа. — На улицу из-за тебя выйти стыдно.
— Я не убивец.
— На скользкой дорожке упасть нетрудно. Краденым небось промышляешь? Или, думаешь, я не вижу, не догадалась? Вон они — твои дружки! — Дарья метнулась в угол, схватила лежавший там отдельно от остальной одежды полушалок и швырнула его на стол перед мужем. Из свертка выкатились золотые серьги с цветным камнем и со стуком упали на пол. — Забери, не нужно мне краденого! Еще на улице с плеча сымут. Стыд какой!
Она стояла перед ним прямая, гордая, со сверкающими гневом глазами.
— Ну, ошалела!.. Дура-а, — со смесью раздражения и удивления сказал Петров и полез под стол за серьгами.
— И больше краденого в дом не смей носить. Или...
— Или? — Петров поднялся с полу, злыми глазами посмотрел на нее. — В милицию побежишь на мужа доносить, что ли?
— Пойду.
Он внимательно посмотрел в ее решительные глаза и понял: пойдет. В замешательстве отвернулся. «Ах, змея подколодная!.. Побить?.. Крик подымет».
— Так и знай: больше молчать не буду. И дружков твоих на порог не пущу, — решительным тоном продолжала Дарья.
Петров сорвался, закричал:
— Цыц, стерва! Я тебя... — и угрожающе схватился за скалку.
Но Дарья не отступила, не испугалась. Она подошла вплотную к мужу, пристально посмотрела в его бегающие глаза, выдохнула:
— А ну, ударь! Попробуй...
— Али защитника нашла? — Петров опустил глаза и положил скалку на стол.
— Может, и нашла, — неопределенно ответила Дарья; в голосе у нее пробилась неожиданная радостная нотка. Петров удивленно посмотрел на нее. Обиженно засопел носом, туго соображая, что же предпринять в таком положении.
Дарья, повернувшись к нему спиной, расплетала косы.
Савчук хотел идти в Союз грузчиков, но Федосья Карповна решительно воспротивилась этому. Он не стал спорить, остался. Сидел у стола, разглядывал свои руки, обмотанные чистыми белыми тряпками, и размышлял о событиях минувшей ночи.
Часов около десяти утра забежал Захаров.
— Ага, брат, опалился? Огонь шуток не любит, — как всегда, весело балагурил он, рассматривая подгоревшие брови Савчука. — Саднит?.. Ничего, до свадьбы заживет. Денек-другой дома посидишь, не беда. А то все в бегах. Федосья Карповна, поди, соскучилась, а?
— Да ведь не привяжешь, — вздохнула мать, подкладывая дрова в печурку.
— Не привяжешь. Верно. Куда такого молодца — не овца. Знаешь, он каких делов этой ночью натворил? Три тысячи пудов муки из огня выхватил. Три тысячи. Это, — Захаров быстро подсчитал в уме, — сто двадцать тысяч фунтов. Если по полфунта на душу с припеком — городу неделю хлебом питаться.
— Неужто поджог? — Федосья Карповна никак не могла поверить, настолько чудовищным казалось ей преступление.
— Поджог, поджог, — сказал Захаров, лицо его сразу потемнело, глаза строго смотрели из-под нависших густых бровей. — Подшибли двоих в перестрелке, да жаль — скончались. Не дознаться концов. А надо бы найти.
— В трибунал такую публику. — Савчук пристукнул по столу ладонью.
Захаров зачерпнул ковшом из кадки ледяной воды, мелкими глотками отпил половину, слил остальное в умывальник, тыльной стороной ладони вытер усы.
— А должно быть, мы выйдем из кризиса с хлебом, — сказал он. — Сорок вагонов погружено в Бочкарево, надо протолкнуть побыстрее. Да в Маньчжурии двести тысяч пудов на колесах. Закупили владивостокские товарищи. Проживем! И на семена выкроим.
Захаров как комиссар Продовольственной управы знал теперь хлебные дела досконально.
Федосья Карповна, сидя на табурете, чистила картошку, прислушивалась к разговору. Многое казалось ей удивительным. Давно знала она Якова Андреевича, не раз потчевала у себя за столом. Уважала его как человека, способного дать дельный совет. Но чтобы он вдруг начал ворочать такими делами, — об этом и не мыслилось даже. Поразительно, как все меняется на свете! И что за сила такая — революция?
Постучавшись, вошла Дарья. Быстро глянула на Савчука — и к Федосье Карповне с просьбой:
— Дозвольте ведрами вашими воспользоваться. Воды наносить.
Савчук покосился на нее веселыми глазами.
— Да, мама. Дарья Тимофеевна на пожаре так старалась, что ведра потеряла.
— Ведра потеряла, зато человека нашла, — с загадочной улыбкой ответила Дарья и, не стесняясь Захарова, смелым, долгим взглядом посмотрела на Савчука. Громыхнула ведрами в дверях и скрылась.
Захаров проводил ее понимающим взором, вздохнул.
— Покатился Петров под горку с анархистами... Не будет она с ним жить. Не такой характер.
Савчук, отвернувшись, задумчиво смотрел в окно.
Кауров проснулся поздно, с головной болью. В соседней комнате били часы. Он лениво сосчитал удары: десять! Черт возьми, залежался! Но тотчас вспомнил, что спешить некуда.
В широком зеркале на стене отражался уголок кровати, на которой он лежал, смятая подушка и на ней — его всклокоченная голова, заросшая щетиной трехдневной давности. Кауров пристально посмотрел на свое отражение.
Напрягая затуманенный коньяком мозг, он попытался восстановить в памяти события минувшей ночи: пламя, охватившее стену, выстрелы, поспешное бегство через чужие дворы и заборы. Вспомнил зарево, стоявшее в небе над районом базара. Беспокоило другое — жив или нет первый из отставших тогда раненых? Если жив — скверно: разболтает на допросах. За второго соучастника, раненного в ногу анархиста-боевика, сотник был спокоен: он сам выстрелил ему в лоб из маузера, убедившись, что тот не может спастись бегством. Но первый, первый?.. И когда Хасимото заплатит ему? Деньги — скверно жить без них. Во всяком случае Кауров к этому не привык.
Его размышления прервал стук каблучков и шелест платья в соседней комнате. За дверью мелькнула фигурка Кати в цветном кимоно. Кауров оправил кое-как одеяло, кашлянул.
— Как почивалось? — спросила Катя, появляясь в дверном проеме, как в раме.
Сотник сладко потянулся; пружины под ним заскрипели.
— Ох, какие грешные сны снились. Чертовски приятные сны.
— А что именно? — с любопытствующей улыбочкой спросила она.
— Голые бабы в бане, — бухнул он и захохотал.
Катя состроила брезгливую гримаску.
— Фи!
Кауров потянулся к столику за папиросами.
— Вы меня, конечно, извините, за такой непрезентабельный вид?
— Может, вам бритву принести?
— Благодарю. Непременно.
Катя протопала каблучками, вернулась с бритвенным прибором.
— Побреетесь, приходите чай пить.
Кауров вспомнил про разодранные брюки, ругнулся про себя.
— А что ваш американец... встал?
— Стучит с утра на машинке.
Катя теребила заколку на груди.
— Буду очень обязан, если вы попросите его заглянуть на минутку ко мне.
Джекобс вошел с веселым возгласом:
— Хелло, мистер Кауров! Чем могу быть полезен?
Сотник без обиняков изложил ему суть дела, не указав, однако, причину, побудившую его лезть через забор. Джекобс окинул его внимательным взглядом.
— Роста мы приблизительно одинакового. О'кей!
В американских бриджах с яркими цветными подтяжками, в одних носках Кауров топтался перед зеркалом, водил сверху вниз по лицу бритвой, пробовал пальцем чистоту бритья.
Джекобс сидел, глубоко погрузившись в кресло, и молча наблюдал за тем, как сотник выбривал щеку, подпирая ее изнутри языком.
Когда Кауров натянул сапоги и стал застегивать китель, Джекобс спросил:
— Удачно встретили Новый год, мистер Кауров?
— Так себе. Могло быть лучше.
Кауров снова с беспокойством подумал о раненом соучастнике. Жив он или нет?
— Вчера был пожар, вы знаете? Говорят, охрана убила двух человек, — продолжал Джекобс равнодушным тоном постороннего человека.
— Вы уверены в этом?
— Абсолютно.
Перехватив быстрый взгляд сотника, Джекобс усмехнулся. Еще раз оценивающе посмотрев на Каурова, он приглашающим жестом указал на дверь.
— А теперь завтракать, мистер Кауров.
За столом сидели втроем: Катя, Джекобс и Кауров. Юлия Борисовна опять жаловалась на печень и лежала в постели. Пили чай с вареньем и английскими сухими галетами.
Катя подливала ароматный напиток в фарфоровые чашечки. Она без умолку тараторила и отдавала явное предпочтение американцу.
Кауров злился. «Черт бы побрал эти буржуйские привычки: лакать по утрам подогретую водичку! Подали бы хороший кусок отваренного мяса да бутылку коньяка», — думал он. Аппетит от этого разыгрывался еще больше. Он с жадностью голодного зверя набросился на галеты, хрустел, размалывал их зубами.
К вечеру Кауров все-таки напился. Засунув руки в карманы бриджей, глупо ухмыляясь, он бродил по комнатам. Вздумал поговорить с американцем и без стука вломился к нему.
Катя Парицкая сидела на коленях у Джекобса и быстро, будто курица, клюющая зерна чумизы, целовала его.
— Виноват! — сказал Кауров, но не ушел, а с упорством пьяного двинулся вперед через комнату и плюхнулся на заскрипевший под ним диван.
Катя досадливо дернула плечиками, оправила платье.
— Приходите потом, Чарльз: сыграем в четыре руки. Я одна плохо разбираю ноты.
Джекобс подождал, пока она вышла, и, как ни в чем не бывало, без тени раздражения сказал:
— Есть занятная идея. Вы можете достать два-три немецких офицерских костюма?
— М-могу! — Кауров громко икнул. — Дайте чего-нибудь глотку промочить.
Журналист достал неполную флягу. Выпили по стаканчику.
— Как поживает мистер Мавлютин? — спросил Джекобс.
— Живет, — Кауров неопределенно махнул рукой. — Сидит в тени, паутину плетет, дураков ищет... Он, брат, тонкая шельма, Мавлютин. Он да Хасимото... Между прочим, не люблю японцев. Я в 1905 году ехал воевать с ними, да не поспел. Пришлось товарищей р-рабочих усмир-рять.
Выпитое вино все больше разбирало его. Кауров пьяно разоткровенничался.
— Я преданно служил царю. Служил Керенскому. Буду служить... хоть черту! Платили бы чистоганом... Мои убеждения? Я должен жить хорошо, это первое. На остальных — плевать! Второе. Когда-нибудь пущу себе пулю в лоб. Либо меня срежет из-за куста красный большевик. «Что наша жизнь — игра!» — фальшиво и громко затянул он, покачнулся, не удержался, потянул на себя скатерть. Фляга со стуком упала на пол, пробка от удара вылетела, и вино разлилось на ковер. — Эх, жаль! — сказал Кауров. — Вина пролитого жаль. — Приблизив к Джекобсу свои одичалые от пьянства, сумасшедшие глаза, он неожиданно предложил: — Хочешь, я тебя сейчас ножом пырну? Кишки по комнате разметаю, а?
Джекобс отшатнулся.
— Ну, не бойся!.. Я пошутил, — сказал Кауров почти трезвым голосом и захохотал. — Я желал, чтобы Катя стала моей любовницей. Но у тебя, кажется, свой расчетец, а? Не буду мешать.
День спустя в этой же комнате Джекобс прилаживал треногу фотоаппарата, примерялся, как повыгоднее использовать свет из окна.
— Еще минуту, уважаемые господа!.. Теперь попрошу поменяться местами. Так. Спокойно! Снимаю! — Нацелившись, он весело щелкнул затвором фотоаппарата. — Благодарю вас.
Кауров, чертыхаясь, стаскивал с себя узкий в плечах, пахнущий нафталином мундир немецкого полковника.
— Терпеть не могу нафталинную вонь, — говорил он, морща нос и с трудом удерживаясь от желания чихнуть.
— Виноват. Супружница моя засунула мундирчик в сундук. А у нас — моль. Только нафталином и спасаемся, — пояснил мужчина мрачноватого вида, сдирая с рукава красногвардейскую повязку и комкая ее толстыми, пухлыми пальцами.
Длинный и тощий юноша в форме немецкого лейтенанта осторожно, обеими руками снял с головы каску с шишаком и поставил ее перед собой на стол.
— Уберите эту бутафорию куда-нибудь, — проворчал четвертый из позировавших — юркий человечек с лисьей физиономией и бегающими бесцветными глазами, затянутый с ног до головы в черную кожу: кожаную тужурку, кожаные штаны, сапоги, кожаную фуражку.
Выждав, пока юноша-юнкер переставит каску со стола на подоконник, он деловито стал свертывать в трубочку листы военной карты, разложенные на столе. Перевязав сверток тесемочкой, он сунул его под мышку и весело сказал:
— А теперь, господа, не грех выпить!
Мрачный мужчина затолкал немецкие мундиры в саквояж, откликнулся:
— Возражений не имеется.
— Прошу, господа. Ваш гонорар, — Джекобс повернулся к ним, и в руках у него оказались припасенные заранее конверты.
Кауров молча сунул конверт в карман. Юноша покраснел и последовал его примеру.
— Виноват. Я чисто из идейных побуждений, — возразил мрачный мужчина, отстраняя руку дающего.
— Ах, господи! Ну зачем кочевряжиться? Бери, — сказал четвертый и, ловко ухватив за кончики оба оставшиеся конверта, с быстротой фокусника сунул их куда-то себе в одежду и заключил веселым возгласом: — Да не оскудеет ваша рука, достопочтенный мистер! Адью!
До вечера Джекобс был занят составлением корреспонденции. Курил. Бойко выстукивал на машинке.
В доме суматоха. Вернулся из Владивостока Перкинс. Пока он принимал ванну и брился после Дороги, а Катя Парицкая носилась взад-вперед по коридору, Джекобс, закрывшись в темном чулане, проявил снимки.
Перкинс постучался, когда он все закончил.
— Хелло, Дуглас! — приветствовал его Джекобс. — Что хорошего?
— О, куча новостей из Штатов!
Они уселись рядышком на диван. Перкинс принялся насвистывать какой-то новый джазовый мотив.
— Ну ладно. Выкладывайте. Начинайте в самого существенного — о войне, — нетерпеливо сказал Джекобс. — Как дела на Западном фронте? Скоро генерал Першинг нокаутирует фельдмаршала Гинденбурга? Эти боши все еще не хотят сдаваться?
— Боши в отличной форме. Генерал Першинг не очень торопится нажимать. Может, немцы двинутся на Петроград и покончат с большевиками вместо этих дурацких переговоров в Бресте. — Перкинс самодовольно похлопал себя по тугому колену. — Представьте себе, Чарли, — самое существенное в мировой политике теперь не война, а вопрос о мире.
— Черт меня побери, если я что-нибудь понимаю!
— Это все из-за декларации большевиков. Мир без аннексий и контрибуций, — пояснил Перкинс. — Они здорово взбудоражили мозги. Война не всем нравится, Чарли. Приходится с этим считаться. Парни в госдепартаменте должны были здорово поломать голову, чтобы придумать выход из дурацкого положения, в какое нас поставил Ленин. Декларация Вильсона... четырнадцать пунктов — читал?.. Говорим о мире, чтобы довести до конца войну и удушить Россию. Самое главное теперь — Россия. Будет ужасно, если русские сумеют договориться с немцами.
— А поглядите-ка на это, — сказал Джекобс, показывая фотографии.
— Гм... Недурно, недурно, — заметил Перкинс, беря из рук Джекобса влажный еще снимок и внимательно рассматривая его против настольной лампы. — Но что значит эта странная компания?
— О, эпизод... Тайное совещание офицеров германского генерального штаба с большевистскими комиссарами. Большевики вооружают военнопленных немцев. Документальное доказательство, а? — Джекобс громко захохотал. — Мой шеф одуреет от радости. Или я ни черта не смыслю в политике нашей газеты.
Перкинс повертел еще снимок перед глазами.
— Вы удачно подобрали типаж, Чарли. Война против большевиков — дело решенное, — продолжал он, положив снимки и возвращаясь к своему рассказу. — В Париже совещание представителей союзных держав решило ввести войска в Россию. Государственный департамент настаивает на этом. Придется привлечь Японию. У нее здесь имеются свободные войска. Мы сделаем японцам новые уступки в Китае в качестве платы за солдат, выставленных против России. — Перкинс подправил распушившиеся после мытья усы и быстро защелкал пальцами. — Сибирь, конечно, при любых комбинациях останется за Америкой. Герберт Гувер знал, что делает, когда так настойчиво добивался концессий у русских.
— Я бы все-таки не стал полагаться на японцев. У них тут свои интересы, — сказал Джекобс.
— О, японцы дают солдат, — значит, не стоит с ними ссориться! — Перкинс откинулся на спинку дивана. — Консульский корпус во Владивостоке решил закрыть маньчжурскую границу с Россией. Большевики закупили в Маньчжурии двести тысяч пудов пшеницы. Они ее не получат. Колдуэлл очень интересуется предстоящим Войсковым кругом уссурийских казаков.
— Вы, конечно, напомнили, что Калмыкова продвигают японцы?
— Разумеется. — Перкинс подтверждающе мотнул головой. — Мне дали понять, что это не должно нас беспокоить.
Джекобс окутался сигарным дымом. Значит, они там решили. Ну что ж. Надо быть дурнем, чтобы прохлопать удобный случай поправить собственные дела.
Вскоре их позвали ужинать.
Перкинс, поднявшись, молодцевато подкрутил усы.
В столовой под золотисто-желтым шелковым абажуром горела лампа. Прямо под нею сидела Катя Парицкая в вечернем платье с вырезом, открывающим почти до пояса гибкую худую спину.
Место справа было свободным, и Перкинс сразу нацелился на него. Но Юлия Борисовна указала стул возле себя.
— Пожалуйста сюда! — сказала она сладким голосом. — А это место нашего Чарли...
Неизвестно, каким путем, но Лисанчанский узнал, что его особой заинтересовался комиссар по охране города. Не ожидая ничего хорошего от встречи с ним, он решил убраться подобру-поздорову.
Сборы были недолги.
Когда Поморцев вернулся со службы, как всегда раздраженный, капитан 2-го ранга, тщательно выбритый, освеженный принятой ванной, румяный и здоровый, застегивал чехол своего чемодана.
— В Харбин, в Харбин! Довольно с меня Совдепии. Сыт по горло! — воскликнул он, внимательно посмотрев на расстроенного начальника Арсенала. — Есть данные, что генерал-лейтенант Хорват намерен провозгласить себя временным правителем России. Смелый шаг. И — чем черт не шутит! — вдруг он окажется новым Столыпиным?.. Борода у него позволяет. — Лисанчанский коротко хохотнул и, сразу же оборвав смех, продолжал пугающим шепотом, чтобы не услышала жена Поморцева: — Возможно, ночью чека придет за мной. Скажешь, что вернулся на флотилию. А я той порой на лошадке махну в Фуйюань. Шестьдесят верст и — уже за границей. Придется добираться до Харбина на перекладных. Ничего не попишешь. Поехал бы по железной дороге, да опасно — снимут. Я уже подрядил тут одного казачка в провожатые. Да и тебе спокойнее, если я вовремя скроюсь. Был и весь вышел — только и спросу.
— Что ж, счастливого пути! Пишите, как там в придворных сферах живется, — сказал Поморцев, и в нем шевельнулось что-то похожее на зависть.
Поморцев признался шурину, что он тоже озабочен складывающейся в Арсенале обстановкой. Однако будущее не представлялось ему безнадежным. Страсти политические, как кипяток, — вначале бурлят, обжигают неосторожных. Но если выждать — они поостынут, и все уляжется. Терпение. Терпение! Вот все, что нужно.
Лисанчанский слушал его рассуждения с мрачной усмешкой.
До прихода Поморцева у него сидел знакомый баталер, жаловался, что большевики забрали силу на флотилии. Маленькие заплывшие глазки его бегали по комнате, отмечая следы поспешных сборов. Лисанчанский видел в них запрятанный животный страх. На требование активизировать деятельность он отвечал уклончиво, вздыхал.
Уходить баталер не торопился, стоял в передней, мял шапку в руках и с тревогой смотрел на капитана.
— Ваше благородие, может, переждать, а? Ведь за такое по головке не погладят.
— Я же не прошу тебя выйти на площадь и кричать: «Долой Советы!» Действуй с умом. Приноравливайся к обстановке, — с раздражением заметил Лисанчанский.
— Так-то оно так, а... ответ мне держать, — отвечал осторожный баталер.
Оба напряженно смотрели друг другу в глаза, точно мерялись силой взглядов.
— Видишь, братец... Большевизм — явление временное, я тебе объяснял, — уже мягче заговорил Лисанчанский. — А заслуги твои командование оценит. Я позабочусь...
— Покорнейше благодарю, ваше благородие. — Баталер еще раз вздохнул, нахлобучил шапку и вышел, тихонечко прикрыв за собой дверь.
От беседы с ним у Лисанчанского остался неприятный осадок.
Баталер принес несколько писем. В них капитан тоже не нашел ничего утешительного.
Власть на флотилии все крепче прибирал к рукам Центральный судовой комитет. Командующий флотилией капитан 1-го ранга Огильви без санкции комитета не решался отдать ни одного мало-мальски важного приказа. Он охотно говорил о своей лояльности к Советской власти, в отношениях с подчиненными был снисходительно добродушен, а истинные свои чувства высказывал только дома да двум-трем ближайшим единомышленникам и то осторожным шепотком.
С другой стороны, группа молодых офицеров, ранее связанных с флагманским артиллеристом и редактором гектографированного журнала «Вестник Амурской флотилии» лейтенантом Панаевым, ревностно взялась за работы по восстановлению боевой мощи флотилии.
— Скверно! Среди офицерства начался раскол. Нет единодушия в нашей среде, — говорил Лисанчанский, пересказывая Поморцеву содержание полученной информации. — Но я не верю, — продолжал он, — решительно не верю, что им удастся восстановить боеспособность кораблей. О возрождении флотилии в целом и речи не может быть! Эта затянувшаяся война на Западе вытянула отсюда все, что еще годилось в дело. С большей части судов снято артиллерийское вооружение. Башенные лодки «Гроза», «Вьюга», «Вихрь», «Тайфун», «Ураган» — это мертвые стальные остовы. Дизели с них отправлены для установки на подводных лодках на Балтику и Черное море. На сормовках машины тоже разобраны. Четыре пятых посыльных судов флотилии переброшены на Дунай. Мы здесь безоружны, и слава богу! Сыщутся, наверно, умные люди, которые это учтут.
Говорил он с плохо скрытым злорадством.
— Без речной флотилии нельзя эффективно охранять дальневосточную границу. Река здесь — открытая дорога, ведущая в глубь края. Но совдеповцам это и в голову не придет! Воображаю этих новоявленных стратегов... — Лисанчанский брезгливо оттопырил нижнюю губу.
Они перешли в столовую, пообедали. Не торопясь пили черный кофе.
— Как я завидую тебе, Станислав! Ты снова вздохнешь полной грудью. В Харбине теперь интересное общество. Балы, журфиксы... Хорват, говорят, хлебосол, — высоким, пронзительным голосом говорила Лисанчанскому дебелая супруга Поморцева. — А мы — увы! — обречены страдать. Терпеть. Надеяться... Но сколько еще?.. Сколько?
Она закатила глазки к потолку, будто там был начертан ответ.
— До весны, кузина! Не дольше, чем до весны, — уверенным тоном сказал Лисанчанский; после обеда настроение у него заметно повысилось. — Ждите меня с вешней водой.
— О, я приготовлю цветы, чтобы встретить победителей.
— А пока налей мне еще чашечку кофе, если нетрудно, — попросил Лисанчанский.
В окна вползали синие зимние сумерки.
— Как подумаю, сколько мне быть на морозе, — озноб берет. Брр! — Лисанчанский поежился и посмотрел на часы.
— Где-то у меня был теплый шерстяной шарф! Он пригодится тебе, Станислав. Пойду поищу. — Хозяйка с неожиданной для ее тучной фигуры легкостью выскользнула из столовой.
Мужчины закурили. Перешли опять в кабинет.
— Я выдыхаюсь. Ты это можешь понять, — усталым голосом пожаловался Поморцев. — Хожу, как по горячим углям.
— Не понимаю, почему тогда тебе не покончить со всей этой канителью одним ударом?
— Что ты имеешь в виду?
— Скажем, хорошую аварию на силовой.
Они посмотрели друг другу в глаза.
— Вот уж на это я не пойду, — сказал Поморцев.
— Чепуха! Нет ничего проще, — воскликнул Лисанчанский. — У тебя, Конечно, имеется на примете подходящий парень из механиков или кочегаров? Ну из тех, кто от войны тут прятался.
Поморцев из-под опущенных ресниц посмотрел на капитана 2-го ранга.
— Допустим.
— Ему дается соответствующий инструктаж...
— И потом я вместе с ним иду в революционный трибунал?.. Благодарю покорно, милый родственничек! Уж лучше буду выращивать цветы... к весне. — Поморцев сердито фыркнул, забрался мизинцем себе в ухо и повертел там.
— Это, милый мой, примитив!.. Примитив, — Лисанчанский снисходительно улыбнулся, покачал головой. — Зачем тебе непременно самому инструктировать исполнителя? Напротив, он и подозревать не должен о твоем участии. Пусть им занимается твое доверенное лицо. Кто-нибудь из техников. А когда будет все подготовлено, ты берешь среднее звено, то есть техника, и заранее устраняешь... Допустим, советуешь ему проделать мой маршрут до Харбина. Или... — Лисанчанский выразительно посмотрел на Поморцева и быстрым жестом чиркнул себя ребром ладони по горлу. — Ну, не морщись! Не в бирюльки играем. После аварии проводишь лично следствие, обнаруживаешь виновника и собственноручно доставляешь в большевистскую чека. Честь тебе и хвала! — Лисанчанский рассмеялся. — Серьезно, подумай над этим планом. Игра стоит свеч.
Поморцев тужился улыбнуться, но вместо улыбки на лице у него появилась кислая гримаса.
— Сюжет для детективного романа...
Лисанчанский прошел к окну, выглянул во двор, но в наступившей темноте ничего не мог там разглядеть.
— Между прочим, сюжетец мне подсказан. Хасимото — умнейший японец! Рекомендую сойтись с ним поближе. Он охотно профинансирует расходы. Охотно.
Поморцев понял, что капитан 2-го ранга имел уже возможность убедиться в готовности японца нести материальные затраты.
Во дворе что-то стукнуло; коротко заржала лошадь, будто ей сразу зажали морду. Вошел невысокий смуглый казак с тяжелой оленьей дохой в руках. Стрельнул раскосыми плутоватыми глазами.
— Морозец! Вы, ваше благородие, насчет согревательного похлопочите.
— Пройди-ка, братец, на кухню, — сказал Поморцев.
— Покорнейше благодарю! — Казак снял рукавицы, положил их на стул рядом с дохой.
— Оружие у тебя есть? — вполголоса спросил Лисанчанский.
— Два карабина, по цинке патронов. Да вы не извольте беспокоиться — до смерти доживем! — Казак лихо тряхнул длинным чубом, прошел в раскрытую дверь.
Пока Лисанчанский одевался, Поморцев, заложив руки за спину, ходил по комнате.
— В эмиграцию, значит?..
— Какая же это эмиграция... Харбин!
Отвернувшись к стене, Лисанчанский передернул затвор браунинга, дослал патрон и сунул пистолет в верхний карман пальто. На лице у него появилось выражение злобной решимости.
— Ну, шутки в сторону! Начинается беспощадная гражданская война.
Поморцев провел беспокойную ночь. Мерещилась разная чертовщина. Только закроет глаза, как из темноты возникает строгое бритое лицо Алиференко. Не успеет он движением руки отогнать это видение, а из угла уж смотрят на него проницательные, насмешливые глаза Чагрова.
Еще затемно Поморцева разбудил гудок.
Без всякой радости он подумал, что вот люди собираются на работу в Арсенал, убеждены, что делают полезное, нужное дело. Почему же у него нет такой убежденности? Как они смеют думать, что жизнь в Арсенале может идти помимо него — начальника?
Самолюбие его было уязвлено. Что-то желчным комом ворочалось в груди, спазмы подступали к горлу.
За окнами опять прокричал гудок. В цехах зашелестели трансмиссии, завертелись станки. На какую-то минуту Поморцев почувствовал себя ничтожно маленьким и ненужным.
Полковник прошел в ванную. Подставил голову под кран с холодной водой.
Впрочем, все это ерунда! Какое ему дело до сюжетов японца Хасимото?
В конце улицы навстречу ему поднималось солнце.
Но день, видно, с самого начала складывался неудачно.
В приемной полковника поджидал Демьянов.
— Сколько времени собираюсь к вам, да все недосуг. Работы поднавалили — страх берет, — блеснув глазами, сказал он.
Поморцев ключом открыл дверь кабинета.
Демьянов прочно, как влитой, сидел на стуле. После ухода из Арсенала он отрастил небольшие черные усики, и это придавало ему вид воинственный и бравый. Да и весь он был как-то по-новому собран и подтянут.
— Вид у вас стал вполне интеллигентный, — заметил Поморцев.
Комиссар усмехнулся.
— Вы представьте, какая со мной на днях произошла история!.. — Пуская колечками дым, посмеиваясь, он рассказал, как содержатель тайного притончика сам зазвал его к себе с улицы, приняв за искателя ночных приключений. — Ах, если бы вы видели его рожу! Он прямо-таки волосы на себе рвал.
Поморцев вежливо улыбнулся, подумал: «Хитер, бестия! Хитер».
Но от сердца у него отлегло.
— Вы, как видно, в сорочке родились, товарищ комиссар.
— О нет! Это доподлинно известно... Сорочки не только на мне, на родителе, пожалуй, не было. — Демьянов пальцами погасил окурок, положил в пепельницу. — Дела в Арсенале начинают понемногу налаживаться, а?
— Да, нам удалось раздобыть кое-какие заказы, — сказал Поморцев.
— Лиха беда — начало, — Демьянов пристально посмотрел на начальника Арсенала. — Между прочим, жалею: не успел поговорить по душам с вашим родственником. Что он так поспешил с отъездом? Поссорились вы, что ли?
Поморцев вздрогнул. «Неужели Лисанчанский попался?»
— Гм, гм... Мы действительно несколько не сошлись во взглядах, — выдавил из себя полковник.
— Не сошлись и разошлись... Или разошлись потому, что сошлись? — Демьянов положил на колени полевую сумку, расстегнул ее. — А сколько получено за медь, вывезенную из Арсенала? Почему операция прошла вне обычного бухгалтерского учета?
Полковник отвел глаза в сторону.
— Меня тогда ввели в заблуждение. На виновников наложено взыскание.
— Это не меняет дела.
Поморцев провел холодной ладонью по влажному лбу. Он старался казаться спокойным. Но икра согнутой левой ноги тряслась под стулом, и он не мог остановить эту противную дрожь.
— Мы взяли Лисанчанского на берегу, как раз против вашей квартиры, — сообщил Демьянов. — Кстати, вы знакомы с полковником Мавлютиным?.. Встречались в Петрограде? Только?..
В половине одиннадцатого загудел арсенальский гудок. Гудел протяжно и долго низким, басовитым звуком.
Каждый, кто жил возле завода, знает, что такое гудок в неурочное время. Он врывается в дома, кричит об опасности. Кто, заслышав этот зов, не бросит все дела, не заторопится к проходной?
Демьянов взглянул на часы и поднялся.
— Собственно, мне нечего добавить. Как на духу перед вами, — тоже поднимаясь, сказал Поморцев.
— Ну, я не поп... Не мое дело грехи отпускать, — усмехнулся Демьянов. — Вот пойдем на собрание к рабочим. Что они скажут?..
— Ох, как это ужасно! Жить в атмосфере всеобщего недоверия... Вы представить не можете, как это гнетет... — Поморцев заломил пальцы, похрустел ими.
...Часа два спустя полковник Поморцев в расстегнутой шинели, не замечая холодного ветра, крупными шагами торопливо пересекал заводской двор.
В ушах еще звучало решение арсенальцев: «Общее собрание, считая начальника Арсенала лицом, не идущим в контакте с рабочими и демократией, постановило: отстранить его от занимаемой должности с прекращением выдачи ему за счет Арсенала жалования».
Поморцева догнал конторщик. Запыхавшись от бега, он сказал:
— А знаете, кто будет на вашем месте?.. Мастер Яковлев! Кто мог подумать...
— Мне это совершенно безразлично, — хмуро бросил Поморцев. С крыльца он поглядел на заводские корпуса. «Эх, дурак!.. Дурак... Не так надо было действовать».
Потапов утром выехал на базу Амурской флотилии. Он сидел в санях, свободно отпустив вожжи, смотрел, как убегает назад след полозьев и уходят постепенно за гребень горы невысокие деревянные строения городской окраины.
Дорога крутилась между голых кустов, всползала на увалы, стороной огибала сопку, поросшую редким желтолистым дубняком.
Ночью был туман, и деревья заиндевели. Когда взошло солнце, иней на них засиял тысячами алмазов.
Поездка была связана с обсуждавшимся в исполкоме вопросом об усилении обороны Дальнего Востока. Все тревожнее складывалась обстановка. Во Владивостоке рядом с японским военным кораблем «Ивами» бросил якорь английский крейсер «Суффолк». По приказу английского командования 25-й батальон Миддельсекского полка, расквартированный в Гонконге, заканчивал подготовку к переброске во Владивосток. В тихоокеанских портах Соединенных Штатов Америки — в Сиэтле, Портленде, Сан-Франциско — грузились военные транспорты, направляющиеся на Филиппины. В лагере Фремон, в Калифорнии, под начальством генерал-майора Грэвса тренировалась 8-я американская дивизия, которой по планам военного министра Ньютона Д. Бекера и начальника штаба армии США Нейтона С. Марча предстояло осуществить оккупацию русского Дальнего Востока. Бекер и Марч были озабочены подбором соответствующего офицерского состава; солдаты 8-й дивизии подвергались негласной проверке с целью устранения неблагонадежных. В свою очередь Япония значительно усилила гарнизоны, расположенные в Квантунской области, и была готова в любой момент захватить КВЖД и двинуть свои войска на территорию России.
Город скрылся из виду, но над пологим скатом загородившей его сопки виднелись еще ровные, прямые столбы дыма. Было морозно и тихо.
Дорога шла в гору. Потапов был в сапогах, и ноги у него начали зябнуть. Не выпуская вожжей из рук, он соскочил и зашагал сбоку саней. Идти было трудно, так как дорогу на открытом склоне перемело снегом. Пока Потапов добрался до пригорка, с которого открылся вид на базу, он порядком устал, зато согрелся.
Верстах в четырех от базы он догнал матроса, шагавшего с сундучком по дороге.
— Садись, товарищ!
Матрос поставил сундучок в передок и на ходу запрыгнул в сани. Был он немолод, должно быть призван в годы войны из запаса.
— А снегу тут поболе, чем в Благовещенске, — сказал он, бросив взгляд на Потапова.
— Вы с «Орочанина»? — спросил Михаил Юрьевич.
— Так точно, — подтвердил матрос. — Откомандирован для госпитального лечения. Закурить не найдется?
— Я некурящий.
— Жаль. Привычка, знаете.
Он прикрыл рот ладонью, подул в нее и стал осторожно снимать пальцами с кончиков рыжих усов обтаявшие льдинки.
— Что нового в Благовещенске?
— Да, знаете, хорошего мало, — сказал матрос, еще раз внимательно посмотрев на Потапова. — Там такую могут заварить кашу, что не скоро расхлебаешь. Золотопромышленники да богатое казачество. Пока эсеры нам зубы заговаривают, они петлю ладят. Спелись, якорь им в душу! — он сплюнул и мрачно выругался.
На спокойном крестьянском лице матроса, когда он заговорил о положении в Благовещенске, появилось выражение такой злобной решимости, что Потапов и без слов понял, насколько накалена там обстановка.
— Воронья на Амур слетелось много. Каркают. За шумом нашего голосу не всегда слышно. Товарищу Мухину не разорваться; — продолжал матрос, и левое веко у него задергалось. — Больно много таких, что все думают да прикидываются, А что толку думать сложа руки?
Они въехали в поселок и поравнялись с кирпичной казармой, стоявшей в стороне от дороги, за овражком.
— Сто-оп! — Матрос потянул вожжи, остановил лошадь, забрал свой сундучок. — Спасибо, товарищ!
...Михайлова Потапов разыскал в затоне, где техническая комиссия осматривала башенные канонерские лодки «Шквал» и «Смерч». Комиссия была назначена командующим по настоянию Центрального судового комитета флотилии. Она должна была определить объем ремонтных работ и сроки их выполнения. До сих пор на флотилии не шли дальше разговоров о судоремонте. Чья-то рука умело тормозила попытки матросов сделать что-либо своими силами. На складах не находилось нужных материалов, запасных частей. Случалась нужда обработать втулку на токарном станке — станок оказывался занятым другой работой. Вместо дела велись нескончаемые дебаты.
Когда Потапов пришел в затон, комиссия как раз закончила осмотр трюмных помещений «Шквала» и собралась на верхней палубе, чтобы обменяться замечаниями перед тем, как покинуть корабль. Разговаривали двое: председатель комиссии — плотный пожилой человек в аккуратной шинели со свежими следами снятых погон, с надраенными до блеска пряжками и пуговицами — и старший помощник «Шквала» — высокий худощавый офицер, временно исполнявший обязанности командира корабля. Остальные обступили их и молча слушали.
— Вы что же, с полного хода на банку сели? — спрашивал председатель комиссии, сердито топорща свои моржовые усы.
— Нет, шли на малом. Камень на приглыбом месте оказался. Впрочем, снялись собственными силами. Отделались, как видите, только вмятиной, — отвечал старший помощник.
— Н-да... Неприятная история, — председатель комиссии пожевал губами, неодобрительно посмотрел на обиженного его придирками старшего помощника. — Вот последствия небрежности в несении службы! Торопитесь, молодые люди. Да-с, — он оглянулся на подошедшего Потапова, как бы приглашая и его быть свидетелем, раздельно и веско заключил: — Пазы и стыки прочеканить наново. Вмятину необходимо выправить.
— Есть! Полагаю, что это удастся сделать без съемки листа, — сказал старший помощник.
— Не думаю. По техническим правилам работы такого рода производятся в доке, — председатель комиссии покачал головой. — Отступлений я санкционировать не могу. Подводная часть, батенька мой.
— А если применим скобы и отжимные болты с нагревом? Я уверен в успехе.
По выражению лиц моряков Потапов видел, что симпатии большей части собравшихся на стороне старшего помощника.
— Выпучина небольшая. Я бы предложил правку при помощи прессов или домкратов с нагревом места вмятины, — поддержал старпома механик со «Смерча». — Была в позапрошлом году у нас такая же история.
— Чепуха! Прожекты... — председатель комиссии даже не взглянул на говоривших. — Меня, признаться, беспокоит не столько ваша вмятина, — спокойным, рассудительным тоном продолжал он. — Подозреваю худшее — утончение днищевых листов корпуса. Специфический вид износа для кораблей речного плаванья. И очень опасный.
— Для такого заключения нет оснований, — решительно возразил старший помощник и посмотрел на Михайлова, который стоял рядом, внимательно слушал их разговор, но ничем не обнаруживал своего отношения к предмету спора.
— Во всяком случае, без судоподъемных сооружений вам не обойтись. Ремонтировать будете монитор, а не детскую ванну. Понадобится длительный срок. Но что поделаешь? Может быть, к концу навигации... Я так и доложу командующему. — Председатель комиссии опять покосился на Потапова, стараясь угадать, что это еще за штатское начальство. — Дальнейший спор полагаю излишним. Между прочим, стоит ли нам сейчас приступать к осмотру «Смерча»? Скоро обед.
— Да, это теперь самое важное, — насмешливо сказал кто-то за его спиной.
На немедленном осмотре башенной лодки «Смерч» никто из членов комиссии не настаивал.
— Добро. В таком случае вы свободны, товарищи, — торопливо сказал председатель, по привычке поднял к виску два пальца и двинулся к трапу.
Михайлов проводил его взглядом, посмотрел затем на Потапова, и лицо у него озарилось улыбкой.
— Вот хорошо, что вы к нам приехали!
— А вы тут, я гляжу, не торопясь поспешаете, — усмехнулся Потапов.
— Верно. Работаем пока на холостом ходу. Прогреваем машину, Михаил Юрьевич. А все-таки навигацию начнем! Как, товарищи, начнем? — у Михайлова была митинговая привычка обращаться сразу ко всем.
Потапов подошел к старшему помощнику, который произвел на него хорошее впечатление.
— Насколько я понимаю, спор у вас тут шел о сроках и объеме работы?
— Если делать то, что мне навязывают, мы прокопаемся в затоне до осени. И без всякой нужды, — сказал старпом.
— Абсолютно необходимый ремонт велик?
— Нет, мелочи главным образом. Если не считать вмятину в корпусе. Переборка машины, конечно. Но с этим механики сами справятся.
— А утончение днищевых листов корпуса?
Старший помощник пожал плечами.
— Если мне завтра скажут, что у меня броневые плиты из прессованного картона, — я не удивлюсь. Странная тенденция у этой комиссии.
— Все зависит от установки. Если исходить из желания поставить корабли на прикол...
— Не думайте, пожалуйста, что все офицеры согласятся на подлость!
— Я этого не думаю, — серьезно сказал Потапов. — И очень рад, что вижу честного русского офицера. Вы можете рассчитывать на поддержку Совета.
— Благодарю за доверие, — старший помощник по-прежнему держался сухого, официального тона.
— В таком случае я попрошу вас составить небольшую докладную записку. Независимо от акта комиссии. Укажите потребность в материалах, рабочей силе. Какая помощь нужна со стороны. Это не очень затруднит вас?
— Будет исполнено!
— Кстати, посоветуйтесь с судовым комитетом, — продолжал Потапов. — Кто здесь председатель судового комитета?
— Я! — Богатырь матрос, потеснив плечом Логунова, стал рядом со старшим помощником, такой же рослый, но более широкий в плечах, кряжистый. Они так хорошо подходили друг к другу — подтянутый офицер с энергичным, волевым лицом и удалой сильный матрос с выразительными веселыми глазами, загорелый, обветренный. Потапов невольно залюбовался ими. Есть же люди на русской земле!
— Поддержите командира, товарищи! Надеюсь первыми встретить вас на Хабаровском рейде.
— Если их наш «Смерч» не опередит! — ревниво сказал механик соседнего корабля.
— В добрый час, товарищи! Всех просим, — Потапов сделал широкий приглашающий жест.
— Верно, ребята! Места на рейде хватит.
— На рейде хватит, да в мастерских затор. Из-за каждого пустяка неделю очередь ждешь.
— А нельзя сделать так, чтобы нам Арсенал помог? Скажем, в токарных работах или литье?..
Теперь, когда вокруг них собралось много матросов, разговор утратил официальный характер.
— Гляди, как потеплело днем-то, — удивлялся кто-то из молодых матросов. — Пригревает солнышко, а?
— А то оно будет ждать, пока ты с одного бока на другой повернешься.
— Мастерские у нас — узкое место. Такая горловина, что не проскочишь. Не в одном, так в другом зажмут. Хоть плачь, — жаловался механик со «Смерча». — Вы побеседуйте с товарищем Спаре. Вот бы кого начальником мастерских.
— Поставьте вопрос перед командующим.
Михайлов мотнул головой.
— Ладно. Они теперь не отвертятся. Скоро ждем товарища морского министра Кудряшова. Он сам бывший матрос и тут кому надо мозги вправит.
— Поди, товарищ Ленин его послал?
— А что?.. В самую пору. Кудряшов-то, по-старому если, так полный адмирал.
— Вот, братцы, фортуна! Из матросов да в такой чин! — воскликнул толстый рябоватый сигнальщик и громко цокнул языком.
Михайлов похлопал его по плечу, смеясь, сказал:
— Тебе бы, Афанасий, определиться к нему в вестовые.
— Да не могу я, братцы! Не могу. Мачтаб какой — страшно подумать, — рябой матрос стал отказываться с такой комической серьезностью, что многие схватились за животы. Смеялся и Потапов, смеялся старший помощник, не знавший сперва, как ему держаться с представителем местной власти. Кто-то посоветовал:
— Афоня, просись на должность флагманского кока.
— Нету такой.
— Жаль. Аккурат бы по твоему аппетиту.
Потапов спустился по трапу вниз. Старший помощник водил его по отсекам, объяснял назначение механизмов, систему управления кораблем. Чувствовалось, что человек по-настоящему любит и знает свой корабль.
— Конечно, мы переживаем серьезные трудности, я понимаю. Но флотилия на Амуре должна жить, — говорил он с волнующей убежденностью. — Безрассудно поступают те, кто обрекает такие прекрасные суда на консервацию. Это — гибель.
...Возвращался Потапов в приподнятом настроении. На центральном судовом комитете договорились, что ремонтные работы в первую очередь будут производиться на башенных канонерских лодках «Смерч» и «Шквал», а также на двух канонерках Сормовского завода — «Бурят» и «Монгол». Эти суда должны были выйти в плавание сразу же с открытием навигации. «Смерч» наметили послать в Николаевск-на-Амуре, а «Шквал» поставить на брандвахту возле устья Сунгари. Сормовские же канонерские лодки, к которым еще должна была присоединиться канонерка «Орочанин», поставленная на зимовку в Астраханском затоне возле Благовещенска, предназначались для патрульной службы на Амуре и Уссури. Таким образом на значительном расстоянии прикрывалась граница с Маньчжурией.
«Очень кстати едет к нам Кудряшов. Очень кстати», — думал Михаил Юрьевич, посматривая на низкое солнце, почти касавшееся снежной равнины за Амуром.
Розовел снег, освещенный косыми лучами, от деревьев через дорогу протянулись синие тени.
Поставив лошадь в исполкомовскую конюшню и подбросив сена, Михаил Юрьевич с черного хода прошел в здание Совета.
— Есть срочные депеши? — спросил он у дежурного и тут же у стола стал просматривать телеграммы. — Хорошо. Живем, брат!.. Что-о?.. Кудряшо-о-ва? — воскликнул вдруг он изменившимся голосом.
В депеше сообщалось:
«Вчера на станции Даурия банда есаула Семенова сняла с поезда ехавшего из Петрограда во Владивосток товарища морского министра матроса Кудряшова и расстреляла его».
Оправившись от болезни, Вера Павловна стала подумывать о том, чтобы устроиться на работу. Но оказалось, что это намерение не так-то легко осуществить. На каждое вакантное место находились десятки претендентов. Быть же тете обузой не хотелось. И она с раннего утра принималась за домашние дела: готовила пищу, мыла, чистила, скребла. В свободное время читала. Чтение было ее любимейшим занятием.
Олимпиада Клавдиевна, возвращаясь с уроков, тоже бралась за тряпку. Бойкая на язык, оживленно жестикулирующая, она легко двигалась по комнатам, переставляла с места на место многочисленные хрупкие вещички. Запас новостей, который она приносила, казался неистощимым. Все, о чем говорили в городе, самым причудливым образом перемешивалось в ее голове. Всему она умела придать особый оттенок, выразить свое отношение к событию если не словом, так интонацией, жестом. Знающая жизнь женщина, она с исключительным оптимизмом встречала невзгоды и любила жизнь такой, какая она есть.
— Знаешь, милочка, — говорила она Вере Павловне, — меня пригласили выступить в Народном доме. На концерте будут грузчики и еще какие-то мастеровые. Никто из наших не захотел идти. Я согласилась. Не съедят же меня там? Но уж их вкусам потрафлять не стану! Искусство нельзя профанировать. Исполню Шопена, Баха, Чайковского. Воображаю, как это будет принято... — И тут же без всякого перехода сообщила: — В Дарданеллах английские миноноски потопили крейсер «Бреслау». Наконец-то! А «Гебен» сам выбросился на берег. Когда все уляжется, можно будет опять поехать в Ялту. Хорошо бы попасть на виноградный сезон. Кстати, Леночке надо купить летнее пальто. Говорят, скоро в продаже никаких товаров не останется. Цены скачут — просто ужас!..
Несколькими днями позже, вернувшись с концерта, Олимпиада Клавдиевна рассказывала громко и удивленно:
— Что за люди! Как они слушали! Представь, я никогда не имела такой внимательной аудитории. Абсолютная тишина. В зале — только музыка... И провожали меня до самого дома... человек двадцать. Пусть мне не говорят о них дурного. — Вынув заколки, она распустила свои поседевшие, но все еще густые волосы. — Был там один молодой человек. Очень симпатичный. Обожает музыку. Я пригласила его заходить к нам.
Молодой человек не заставил себя ждать и пришел к Ельневым на другой день, перед обедом. Дверь ему открыла Вера Павловна.
— Вероятно, Олимпиады Клавдиевны нет дома? Но я подожду, — тоном старого знакомого сказал он и, не ожидая приглашения, двинулся в комнату. Там отрекомендовался: — Разгонов Леонид Павлович.
— Тетя мне говорила о вас. Прошу садиться, — Вера Павловна показала на кресло. — Вы любите музыку?
— О да... очень! — с живостью воскликнул он и огляделся. — А у вас есть инструмент? Как я когда-то мечтал, об этом. Но состояние моих родителей не позволяло подобных трат. Вы, конечно, разрешите мне воспользоваться случаем?
Открыв пианино, он взял несколько аккордов и заиграл что-то необычайно бравурное, стремительное. Точно горный поток, лавина звуков обрушилась вдруг на тишину, стоявшую в комнате. Проснулся и заплакал ребенок Веры Павловны.
— Простите, я не знал, — виновато сказал Разгонов, когда она вернулась из детской. Он с сожалением закрыл инструмент, пересел на диван. Через минуту рассказывал: — Мальчишка я был бойкий, учился хорошо, но шалил. Учитель у нас был строгий. Целую зиму боролись — кто кого?.. К весне меня из школы выгнали. Потом я, конечно, взялся за ум. Однако упущенного не воротишь. Чувствую пробелы в своем образовании. Тянусь поэтому к людям культурным. С кем поведешься, от того и наберешься.
Разгонов был крепко сколоченный человек лет двадцати тести, выше среднего роста, стройный, ловкий в движениях. Он был красив, знал это и любил порисоваться, при разговоре небрежно встряхивал курчавой головой. Голос у него чистый и звонкий.
— Я был максималистом, но теперь оформляю свой переход в партию большевиков, — продолжал рассказывать он. — В ходе революции эта партия выдвинулась на первый план. Нельзя игнорировать такое положение. Вообще я с детства за революцию.
Вероятно, он долго бы еще рассказывал о себе, это ему определенно доставляло удовольствие, но вернулась Даша, и не одна: с нею пришла Соня Левченко. Обе с пунцовыми щеками, веселые, с одеждой в снегу. Толкая друг друга, они с шумом ворвались в гостиную, увидели постороннего человека, присмирели, но не удержались, брызнули смехом и сразу оживили несколько натянутую обстановку. Разгонов тоже повеселел, начал сыпать остротами.
Вера Павловна ненадолго вышла, вернулась с сыном на руках. Леночка в белом платьице с алыми ленточками в косичках порхала между кресел, как мотылек. Разгонов поймал ее, усадил к себе на колени и быстро приручил доверчивую и общительную девочку.
— Зачем усы? Они колючие, — щебетала она и тянулась ручонкой к его лицу.
— А я вот тебя защеко-очу, — притворно грозил он девочке, посматривая в то же время то на Дашу, то на Соню веселыми, чуть затуманившимися глазами.
Идя сюда, Разгонов рассчитывал попасть в скучную и немножко чопорную обывательскую семью, окунуться в привычную атмосферу пересудов, попить чаю, сказать при случае несколько подходящих каламбуров и уйти. Все было известно заранее. И все оказалось не таким, как он представлял. Собираясь поскучать здесь два-три часа (в городе у него не было знакомых, он только что приехал из Читы), Разгонов почувствовал интерес к дому Ельневых. Прежде всего, ему понравилась обстановка: книжные шкафы, белые занавеси, говорившие о любви к чистоте и уюту. Несколько реплик Веры Павловны и мимоходом высказанное ею замечание показались ему глубокими и занятными. А Даша и Соня внесли столько здорового веселья, свежести, чистоты, что Разгонов и думать позабыл об уходе. Он присматривался, сравнивал девушек между собой. От его взора не укрылось, что у Сони веки были чуточку больше нормального, разбухшими, как у человека, который часто и подолгу плачет. «Значит, на душе у нее какое-то горе», — подумал он.
К тому времени, когда вернулась Олимпиада Клавдиевна, Разгонов успел завладеть вниманием всех трех женщин. Каждой он сказал по нескольку комплиментов, а Соне пожал руку и сочувственно улыбнулся.
— У вас на душе тяжесть, я вижу. Но все проходит. Время — хороший лекарь, — шепнул он ей на ухо.
Соня пристально посмотрела на него и вздохнула. У нее действительно было ощущение тяжести, свалившейся на нее из-за ссоры отца с Сашей. И горько было слышать ей, что посторонние люди замечают это с первого взгляда. В то же время она подивилась проницательности Разгонова.
— Так вы недавно в нашем городе? Как вам понравился Хабаровск? — спросила Олимпиада Клавдиевна.
— Город показался мне скучным. Но это, видно, потому, что нет хороших знакомых. В свободное время я предоставлен самому себе.
— Ничего, привыкнете. И знакомства будут, — заметила хозяйка, доставая из буфета горку тарелок. — Вы, конечно, не откажетесь пообедать с нами?
Разгонов поблагодарил.
— Здесь хорошо летом. Вы сейчас представить не можете, как красит город река, — сказала Вера Павловна.
— Возможно, — поспешил согласиться Разгонов. — Города потому и строят возле рек.
— Видимо, не только из-за этого!
— А также в целях удобного пароходного сообщения, — таким же докторальным тоном продолжал Разгонов, не замечая, как переглянулись Даша и Вера Павловна.
Олимпиада Клавдиевна, разливая суп по тарелкам, говорила:
— В субботу бенефис Баратова. Может, ты, Вера, возьмешь билеты? Обещают интересную программу. Хотя, между нами говоря, живет он былой славой. Постарел, подурнел, голос пропил... что делать! Такова судьба каждого артиста. — Она вспомнила, что видела Баратова еще молодым и была даже влюблена в него, вздохнула, будто в зеркало на себя посмотрела. — Ох, какой он был обворожительный мужчина! Нынче что-то таких не встречаю. Даша, веди себя, пожалуйста, прилично за столом. У нас посторонний человек, — тут же строгим тоном добавила она, заметив, что Даша скатала хлебный шарик и намеревалась запустить им в Соню, чинно сидевшую рядом с Разгоновым с другой стороны стола.
— Ах, тетя!.. Право, я уже не маленькая, — Даша вспыхнула, обиженно подобрала губки.
Олимпиада Клавдиевна погрозила ей взглядом и обратилась к Разгонову:
— Вот нынешняя молодежь! Вы, Леонид Павлович, наверно, такой же суперечник? Без почтения к старшим, а?
— Революция низвергает авторитеты. Ничего не поделаешь, — сказал Разгонов. — Мы — люди своего времени.
— Революция, революция... просто разбаловались все сверх всякой меры. Теперь еще нам навяжут унизительную роль немецких данников.
— Нет, никогда! Похабного мира мы не допустим. — Разгонов закурил папиросу, попыхивал дымком, снисходительно посматривал на женщин. Говорил он уверенным тоном хорошо осведомленного человека. — Переговоры в Бресте — просто маневр. Неужели вы не понимаете?
Вера Павловна удивленно посмотрела на него.
— Конечно, я плохо разбираюсь в политике. Но люди так надеются, что будет мир. Война принесла всем столько горя. Неужели мало еще пролито крови?
— Да, ужасно, ужасно!.. — Олимпиада Клавдиевна затрясла головой. — Но, милочка, Россия должна держать свое слово...
— Мы заставили германский империализм саморазоблачиться. Теперь все видят, какой это зверь. — Разгонов поискал глазами пепельницу, не нашел, под скатертью скомкал окурок пальцами и незаметно сунул его в карман. — Таким образом, первая цель переговоров достигнута, — продолжал он, откинувшись на спинку стула и придав своему лицу выражение многозначительное и строгое. — Кюльман и Гофман сослужили службу революции.
— Вы знаете, мука-сеянка опять вздорожала, — Олимпиада Клавдиевна следовала своей манере внезапно менять тему разговора. — Ах, если бы я была правительством!.. — Вдруг она потянула носом и сказала с тревогой: — Пахнет горелой шерстью. Даша, сходи на кухню, посмотри... Ничего нет? Но ты слышишь: пахнет паленым? — Она еще раз потянула носом, подозрительно оглядела всех сидящих за столом. — Послушайте, молодой человек, куда вы дели окурок?
Разгонов, тоже почуявший запах паленой шерсти, схватился за карман. Сразу же нащупав тлеющий огонек, он вскочил и принялся яростно мять пальцами брючное сукно. Вид у него был смущенный и виноватый. Весь он залился краской.
— Вот черт!.. Я, кажется, уронил искру... на брюки. Какая неосторожность, — бормотал он, пряча глаза от устремленных на него женских взглядов.
Даша с весело заблестевшими глазами шепталась с Соней; обе вдруг звонко расхохотались.
— Перестаньте, бесстыдницы! — прикрикнула на них Олимпиада Клавдиевна. — Когда в доме мужчины, надо ставить на стол пепельницу. Который раз я тебе говорю, — строго выговаривала она племяннице.
Вера Павловна тактично продолжала разговор, отвлекая внимание от неприятного инцидента. Все были подчеркнуто любезны с Разгоновым. Но оставшуюся часть обеда он просидел как на иголках. Он понимал, что сам же поставил себя в смешное положение. Его самолюбие было уязвлено. С мрачным видом он помешивал в стакане серебряной ложечкой, слушал рассказ о соседке-учительнице, разошедшейся с мужем из-за несогласия в политических взглядах.
— Чепуха! При чем тут политика?.. Жены всегда от мужей бегали, — сказала Олимпиада Клавдиевна, раскалывая щипцами сахар. — А вы, Леонид Павлович, уже определились на службу?
— Да, в краевой военный комиссариат, — ответил Разгонов.
При первой же возможности он поспешил откланяться и уйти.
— Вера, тебя просил зайти Марк Осипович. Он обещает протекцию. Есть вакантное место воспитательницы в сиротском приюте, — вспомнила Олимпиада Клавдиевна, когда они вдвоем мыли на кухне посуду. — Конечно, если место не понравится, я не тороплю. Ради бога, не пойми превратно.
— Но это же чудесно!.. Ребятишки... — Вера Павловна взмахнула полотенцем.
— Говорят, там не очень чисто. Кажется, детишек обкрадывают. Представь, находятся подлецы!
Идти к доктору Твердякову в этот день было поздно, и Вера Павловна отложила визит до утра. Но мысль о предстоящей работе уже не покидала ее.
Приют находился недалеко от их дома, на той же улице. Из окна ее комнаты видна была часть глухой кирпичной стены и зеленая крыша, на которой белыми неровными пятнами лежал снег. Плотный и высокий приютский забор дополнительно укреплен тремя рядами колючей проволоки. Со двора на улицу долетали слабые голоса и детский плач. Обычно это мало кого трогало. Только когда из ворот выезжала простая телега со стоящим на ней некрашеным детским гробиком, кто-нибудь из соседей, снимая шапку, замечал: «Второй на этой неделе». — «Да, мрут детишки... Сироты!» — отвечали ему.
Вере Павловне и прежде приходилось слышать толки о приютских порядках. Она возмущалась, негодовала, но тут же забывала об этом. Никогда у нее не возникало желания проникнуть за приютский забор и попытаться самой сделать что-то для детишек. Теперь же она готова была обвинить себя в черствости и бездушии. Ей виделись будущие питомцы, маленькие, беззащитные, как ее собственный сын, — они тоже растут без отцов. Она представила себе, как будет говорить с ними, отстаивать их интересы, — с этими мыслями и уснула.
На следующий день около одиннадцати утра она не без робости и волнения перешагнула через порожек узенькой калитки, прорубленной в приютском заборе. Двор поразил ее запущенностью; был он покрыт сугробами, из снега торчали какие-то палки, сучья. Посреди двора снегом замело брошенную как попало телегу. К хозяйственным постройкам протоптаны тропинки. Всюду следы вылитых помоев. Окна приютского здания, выходившие во двор, были заколочены досками, либо в них вместо стекол торчали листы грязной фанеры. В одном месте наружу выпячивалась подушка, цвет которой невозможно было определить из-за наросшего толстого слоя инея и снега; видно, осенью подушкой наскоро заткнули дыру да так и оставили на зиму.
Вера Павловна поглядела на эти следы кричащей бесхозяйственности, вздохнула и тихонько двинулась к той двери, куда сходились тропинки со двора. Навстречу ей выбежала девочка лет семи, худенькая, в коротком не по росту ситцевом платьице, в рваных башмаках и с непокрытой головой. Перегибаясь в одну сторону, она тащила огромное ведро с помоями, чертившее днищем след на снегу. Увидев перед собой незнакомую женщину, девочка испуганно посторонилась, ступив башмаками прямо в сугроб.
— Ты что же, милая, без чулок ходишь? Зима-а, — сказала Вера Павловна, ласково и строго посмотрев на девочку. — И пальто надевать надо.
Девочка, все еще держа ведро на весу, исподлобья взглянула на нее и чуть заметно пошевелила губами:
— У меня нет... чулков.
— Ах, боже мой! — Вера Павловна смешалась, посмотрела еще раз на ее тоненькие голые ножки, погрузившиеся в снег выше щиколоток, покраснела и вдруг ощутила острую жалость к этой девочке. — Дай сюда ведро. Дай!.. Я отнесу. А ты — беги в дом. Разве можно так? Ты же простудишься, — поспешно, прерывающимся голосом говорила она, перебросив сумочку из одной руки в другую и хватаясь за дужку ведра. — Господи, да беги же скорей!
Она почти вырвала ведро из рук оторопевшей девочки; помои плеснули через край и залили нижнюю часть полы пальто. Вера Павловна не заметила этого. Девочка же глянула на расплывающееся темное пятно, испуганно отпрянула и юркнула обратно в дверь.
Когда Вера Павловна вошла в полутемный и холодный коридор, сверху, с лестничного пролета, донесся тоненький голосок:
— Тетенька, поставь ведро возле дверей. Я заберу-у.
— Девочка, девочка, а где тут канцелярия? Ты проводи-ка меня, — сказала Вера Павловна, всматриваясь в расстилающийся перед нею полумрак и с трудом угадывая, где начинаются первые ступеньки. Но девочки и след простыл. Однако голос был услышан. Совсем рядом приоткрылась не замеченная ею прежде дверь, и из-за нее выглянули сразу две всклокоченные мальчишечьи головы — одна огненно-рыжая, ярко освещенная сзади падающим на нее солнечным лучом, другая — черная.
— Вам кого надо? — дискантом спросил обладатель рыжих кудрей.
— Я ищу старшую воспитательницу Потапову.
Обе головы переглянулись.
— По-та-по-ву?..
— Да, Наталью Федоровну. — Ельнева вспомнила имя, названное доктором Твердяковым.
— А-а, тетю Ната-ашу! — Черноголовый мальчик сдержанно улыбнулся и шагнул в коридор.
— Закройте двери, холявы! Холоду напустили, — детским баском крикнул кто-то из комнаты и грубо выругался.
Рыжая голова сразу исчезла вместе с солнечным лучом.
Черноголовый же мальчик остался в коридоре. Засунув руки в карманы, он выжидающе смотрел на незнакомую женщину.
— Мне нужно в канцелярию. Проводи меня, пожалуйста, — сказала Вера Павловна, испытывая перед ним странное чувство робости и неловкости. Глаза ее успели привыкнуть к полумраку, и теперь она как следует рассмотрела мальчишку. На нем были штаны с заплатами на коленях, коротенькая куртка неопределенного цвета и потрепанные, непомерно большие ичижные головки с грязными брезентовыми голенищами. На смышленом чумазом лице со вздернутым носиком выделялись живые карие глаза. Держался он независимо, не робел и не стеснялся.
— Канцелярия — там, — мальчик показал рукой в конец коридора. — Да в ней никого нет, все пошли на американский склад. И тетя Наташа и наш заведующий.
— А склад далеко?
— Да нет. Обойти дом с другой стороны и — первые двери. А вы, тетя, кто будете? Тетя Наташа вам знакомая, да? Я сразу догадался, раз вы ее спрашиваете. Она — хорошая, — сказал мальчик и с готовностью предложил: — Хотите, провожу вас? Я только шапку надену... У них чего там нет на складе, — бойко продолжал он, появившись через мгновение в сдвинутой на одно ухо шапчонке-маломерке. — Только они нам ничего не дают. Ничегошеньки! Все на сторону отпускают. Другой раз тут целая очередь стоит. Правда, правда!.. Нам-то видно. А то, бывает, на подводах приедут... кулей как нагрузят, так лошадь еле везет.
— Кто же берет у них продукты? — спросила Вера Павловна.
— Известно кто. Из города — буржуи, — мальчик сплюнул в сторону. — Им и шеколады, и муки белой — сколько хочешь. А еще, слышь, молоко в банках с сахаром. Вот, говорят, вкусная штука! Хоть бы раз когда попробовать дали, жадобы! — Забежав вперед, он открыл дверь, зажмурился от яркого солнца. — Американец тут такой толстый, как бочка из-под кеты. Наверно шеколаду много жрет. А по-русски — ни бельмеса. Мы его главным жмотом прозвали. Он и в самом деле — жмот, — сказал мальчик необычайно серьезно и убежденно.
...В помещении склада держался смешанный стойкий запах, обычный для бакалейных лавок. Почти все пространство было заставлено ящиками, коробками, мешками, бочками. Из окна с открытым железным ставнем падал свет на длинный стол с весами и набором гирь. За столом на табурете, отодвинув гири локтем, сидел Марч, в шапке и добротном пальто с меховым воротником. Немного в стороне с почтительным выражением стоял заведующий складом — юркий горбоносый человек с тонкими длинными пальцами. Позади на полках были расставлены образцы товаров, имеющихся на складе. Над головой Марча, точно тиара, возвышалась пирамида из банок со сгущенным молоком с надписями на английском языке и изображением сытой рыжей коровы.
Марч походил на хозяйчика-бакалейщика. Он шумно дышал, цедил сквозь зубы редкие, невнятные слова.
Переводила мисс Хатчисон. Нарядно одетая, яркая, она казалась доброй феей, сошедшей на землю с одного из многочисленных рекламных плакатов.
— У нас свои порядки. Мы не можем действовать произвольно. Существует инструкция, утвержденная правительством Соединенных Штатов. Кто посмеет ее нарушить? От нас требуют исполнительности. Мы же простые служащие, — говорила она мягким, убеждающим тоном и быстро переводила взгляд с молчаливого и хмурого заведующего приютом на старшую воспитательницу.
Наталья Федоровна теребила пальцами край белой вязаной шали, заметно волновалась.
— Ну хорошо. Инструкция... Я все-таки не понимаю. Не могу понять... почему вы должны отказывать в помощи детям-сиротам и снабжать продуктами бог знает кого — во всяком случае не тех, кто действительно нуждается?
— Миссис забывает, что это — беженцы, — с улыбкой напомнила американка.
— Вот уж нашли о ком заботиться!
— Инструкция, миссис... Беженцам помощь оказывается в первую очередь. Потом уже прочим нуждающимся. Американскому Красному Кресту надо представить списки. Мы пошлем их на согласование.
— А тем временем спекулянты наживаются, продавая на черном рынке ваши продукты.
— Вероятно, наша система еще недостаточно совершенна, миссис. Со временем мы ее наладим. Во всяком случае, каждому, кто сумеет доказать, что он является беженцем, помощь будет оказана. Это предусмотрено инструкцией, миссис. Вам не следует жаловаться. Ведь вы тоже приезжая?.. — и Хатчисон опять быстро скользнула взглядом по лицу Натальи Федоровны.
— Что?.. При чем тут я? — Наталья Федоровна не поняла сразу смысла последней фразы. Потом догадалась, покраснела, вспыхнула и вызывающе громко подтвердила: — Да, я приезжая. Только... не помещица, не купчиха, не миллионщица. Я не от революции бежала, я к мужу приехала.
— Господи, охота же вам на рожон лезть, — сказал молчавший до сих пор заведующий приютом — толстый мужчина с хитроватым лицом конского барышника. Он стоял в тени, посматривал исподлобья на Наталью Федоровну, но больше всего был озабочен тем, чтобы поймать взгляд Марча. В такие минуты он разводил руками, жестами и мимикой выражал категорическое несогласие со своей помощницей. Случайно оказавшись на посту заведующего приютом, он меньше всего думал о том, как улучшить положение подопечных детей, а все старания прилагал к тому, чтобы побольше урвать для себя. Свою должность он рассматривал как выпавший на его долю фарт. — Да ведь оно, если рассудить, и правильно, — говорил он, выдвинувшись вперед и сверля Потапову буравчиками глаз. — Возле одной печки весь свет не обогреешь. А кое-кому и тепло от нее и сытно. И неча тут скандалить, когда все можно в надлежащий порядок произвесть. Желают они зачислить вас на паек — соглашайтесь. Спасибо еще надо сказать.
— Как вы смеете предлагать мне это? — спросила Наталья Федоровна, и глаза ее гневно вспыхнули. — Я вас ненавижу, — шепотом добавила она и, брезгливо передернув плечами, сделала отстраняющий жест.
— Да ты не шебаршись, — хмуро бросил заведующий, отступая обратно в тень. — Вот идеалы развела, прости господи! Ваша-то песенка сладка, да коротка. Фьюить!.. и Митькой звали...
— Вы думаете? — Наталья Федоровна, сощурясь, посмотрела на него. — А я вам подам совет: уходите-ка подобру-поздорову. Хотя таких, как вы, надобно в тюрьму сажать, — и она повернулась опять к американцам. — Если ваш Красный Крест действительно ищет нуждающихся — так это приютские дети. Вы видели, в каких ужасных условиях они находятся. Они раздеты, босы и голодны.
— Поверьте, миссис, мне от всей души жаль ваших детишек! — сказала Хатчисон, посмотрела на Марча и по-английски что-то сказала ему.
Марч утвердительно кивнул головой.
— Мистер Марч не знал, что положение настолько плохо. Он подумает, что можно сделать, — перевела мисс Хатчисон. — Вы можете сейчас взять сгущенное молоко для маленьких.
— Йес, йес! — Марч повернулся вместе с табуретом, начал проворно переставлять банки с полки на стол. — Вот это можете забрать сейчас, — сказал он, когда вся пирамидка, возвышавшаяся над его головой, оказалась на столе.
Наталья Федоровна посмотрела на грязные желтые разводья, на плесень и паутину, обнаружившиеся на стене, когда убрали нарядную горку пестро окрашенных банок.
— Это на восемьдесят-то человек? — спросила она и сухо рассмеялась. — О, вы щедры, господа! Очень щедры... Прощайте! — и, высоко подняв свою гордую, красивую голову, пошла к выходу из подвала.
У самых дверей, в тени, никем не замеченная, стояла невольная свидетельница этой сцены — Вера Павловна. Она сделала шаг навстречу Наталье Федоровне и с мягкой улыбкой протянула ей обе руки сразу.
— Вы старшая воспитательница Потапова?
— Да, это я. Что вам угодно? — сухо спросила Наталья Федоровна, внимательно и недоверчиво посмотрев на нее.
— Меня к вам послал доктор Твердяков.
— А-а, Марк Осипович! — Наталья Федоровна подхватила Ельневу под руку и повлекла вверх по ступеням. — Пойдемте отсюда!.. Так вы хотите работать у нас? А вы знаете, как это трудно? Очень, очень... Должна заранее предупредить.
— Я знаю.
— Нет, вы не знаете. Вас что побудило искать работу?.. Материальные затруднения? — спрашивала она, идя по двору.
— Отчасти да. Но я также хочу быть полезной.
— У вас свои дети есть?
— Да, сын.
— А вы далеко живете?
— На этой же улице, через три дома.
— Это хорошо. Вы всегда сможете отлучиться, когда нужно.
Они вместе прошли в канцелярию. Там Наталья Федоровна задала Ельневой еще несколько вопросов.
— Если у вас хватит характера, вы справитесь, — сказала она в заключение и улыбнулась. — Знаете, детей надо полюбить. Но что же теперь делать с вами? Оформить ваш прием должен заведующий. А он упрется. Это неизбежно при тех отношениях, какие сложились у меня с ним. Меня он тоже постарается выжить. Нет, сдаваться не будем! Пора почистить эти авгиевы конюшни, — сказала она после недолгого раздумья. — Буду требовать, чтобы к нам назначили ревизию. Тут масса злоупотреблений. Американцы тоже хороши! Форменное издевательство... устроить здесь свой склад и на глазах у голодных детей пичкать шоколадом обожравшихся барынек! Вы оставьте свой адрес.
...В тот же вечер Вера Павловна получила от нее записку.
«Все устроилось, — писала Наталья Федоровна. — Продовольственной управе дано распоряжение об отпуске нам продуктов. Заведующий отстранен. Его обязанности предложено исполнять мне. Завтра прошу приходить на работу». И после подписи размашистым почерком сделана приписка: «Из Петрограда получено сообщение: для детских приютов отправлены почтой двести пятьдесят тысяч рублей. Это поправит наши дела».
На другой день Вера Павловна встала рано. На улице падал снег, под ровной его пеленой исчезли все следы. Зеленая крыша приюта тоже стала белой и будто приблизилась.
Она покормила сына и, стоя перед зеркалом, принялась расчесывать волосы. Мысли были заняты предстоящей работой.
Олимпиада Клавдиевна готовила завтрак. По всей квартире распространился запах кипящего кофе.
Леночка и Даша спали в одной комнате. Леночка разметалась, сбросила с себя одеяло. Даша, напротив, укрылась с головой.
В комнате было свежо, и Вера Павловна, пройдя на цыпочках, подняла одеяло и укрыла спящую девочку. Под ногами скрипнула половица. Даша подняла голову, посмотрела на сестру, на спящую Леночку и улыбнулась.
— Ты уже уходишь? Как же я проспала! Знаешь, вчера дала слово вставать пораньше и помогать тебе, — сказала Даша, искренне огорченная тем, что не смогла выполнить свое намерение. — Я избаловалась на правах младшей. Но так нельзя, — повторила она, спуская с кровати босые ноги и осторожно пробуя пальцами холодный пол.
— Просто нужно раньше ложиться. Опять читала в постели? — с улыбкой спросила Вера Павловна.
— Ага!.. до третьих петухов. — Даша соскочила на пол, зашлепала босыми ногами.
— Тише! Леночку разбудишь.
— Иди, пожалуйста! Иди... Я сейчас оденусь. — Даша замахала руками; она очень любила сестру, но почему-то стеснялась ее.
Когда Вера Павловна вышла, Даша принялась натягивать чулки.
Леночка опять раскрылась. Даша поправила одеяло, осторожно коснулась губами разрумянившейся щечки девочки и побежала умываться.
Кофе пили втроем. Вера Павловна была уже одета, ей не терпелось поскорее уйти.
— Ты, Вера, пожалуйста, будь осторожнее, — говорила Олимпиада Клавдиевна. — Есть очень прилипчивые кожные болезни. Кроме того, насекомые... После обхода обязательно мой руки. Рекомендую завести халат больничного типа. Главное, домой не занеси чего-нибудь.
— Но детишек в приюте осматривает врач, — возразила Вера Павловна.
— Знаю я эти осмотры! Раз денег за визит не платят, все делается спустя рукава, — проворчала Олимпиада Клавдиевна.
— Там Марк Осипович, тетя. Он человек добросовестный, — поддержала сестру Даша.
— А ты не встревай! Молода еще, — и тетка заговорила о том, какие могут быть злоупотребления на приютской кухне и как их лучше всего выявить. Попутно она надавала Вере Павловне кучу других полезных, по ее мнению, советов.
— Тетя, ты просто прелесть! Вот тебе! Вот! — Даша в восторге чмокнула Олимпиаду Клавдиевну в щеку и умчалась одеваться, чтобы успеть проводить сестру.
Но, пока она одевалась, Вера Павловна ушла. Даша в досаде топнула ногой. Идти к подругам было рано.
Придя в приют, Вера Павловна не знала, чем заняться. Но когда она зашла в первую же комнату, посмотрела на неубранные кровати, на грязных, неумытых ребятишек и заплеванный пол, ей стало горько. Сняв пальто, она принялась за уборку. Ее сильные, ловкие руки быстро все перевернули в комнате; через какой-нибудь час все тут приняло другой вид. Ельнева повеселела. Рядом были другие такие же запущенные комнаты, и она устремилась туда. Однако одной провернуть такую массу работы было невозможно. Вера Павловна пошла к заведующей в канцелярию.
— Нам следует начать с наведения чистоты. Вымыть полы, стены, белье, ребятишек. Давайте оставим пока другие дела и все возьмемся за уборку, — предложила она.
— Согласна, — сказала Наталья Федоровна. Ей тоже казалось, что сейчас это самое важное.
Старый заведующий еще не сдал ключи, а уж на нее навалилось столько дел — впору голову потерять.
Неожиданной удачей для них было появление в приюте Дарьи Петровой. Дарья случайно шла мимо приюта, занятая мыслью о том, что надо самой зарабатывать хлеб. Нелады в семье дошли сейчас до того предела, когда люди должны или уступить друг другу, или разойтись в разные стороны. Идти назад Дарья не могла. Слишком многое поднялось в ней. Пробудились иные мечты, возникли другие стремления. Как можно опять втиснуть это в тот тесный комнатный мирок, в котором она жила до сих пор?
И была еще одна причина, от которой у нее сладко замирало сердце, — Савчук. Она тщетно боролась с собой, чтобы скрыть свои чувства.
Размышляя о своем житье, Дарья заметила на воротах приюта белый листок, прибитый двумя гвоздиками. Из объявления она узнала, что здесь требуется уборщица, и зашла узнать условия; ее приняли на работу.
Весь персонал к ее приходу вооружился тряпками, самодельными швабрами, лопатами, ведрами. Дети старших возрастов стремглав носились по коридорам, младшие сидели взаперти в двух нижних комнатах и дружно ревели. Крик стоял такой, что Дарье сперва показалось, будто она вместо приюта попала в сумасшедший дом.
— А вы чего без дела стоите? Берите ведро. Надо принести воды, — крикнула Дарье Вера Павловна, внезапно появляясь в коридоре.
Дарья с готовностью схватила ведро, хотела спросить, где вода, но Веры Павловны уже не было. Подчиняясь общему темпу, Дарья побежала по лестнице в подвал, сообразив, что там вернее всего можно найти водопроводный кран.
Вскоре Дарья по-хозяйски управлялась с уборкой. Шуму стало меньше, а порядка заметно прибавилось. Воспитанники больше не бегали по коридорам — принимали участие в общей работе. Малышей перевели в чисто убранное помещение, накормили. Внизу налаживали стирку.
После обеда Вера Павловна знакомилась с детьми. Многие дичились. Она смотрела на их остроносые лица, на худые, как плети, ручонки, ловила порою робкие, застенчивые взгляды и думала о том, как трудно будет с ними. Среди детей была и та девочка, которая первой повстречалась ей во дворе. Она украдкой посматривала на воспитательницу, но стеснялась заговорить с ней.
— Как тебя зовут? — Ельнева погладила девочку по худенькому плечу, нащупала острые ключицы.
— Вера, — сказала девочка, не поднимая глаз. Верхние реснички у нее затрепетали, видно, очень хотелось посмотреть; щеки вспыхнули бледным румянцем.
— Значит, у нас с тобой одинаковое имя. Меня зовут Вера Павловна.
Вперед храбро протиснулся бутуз в синей рубашке, босой. Он поковырял пальцем в носу и спросил:
— Ты мне лошадь купишь? Настоящую.
— Я боюсь лошадей. Они лягаются, — сказала Вера Павловна. Ребята снисходительно заулыбались.
— Вот еще! Их надо кормить овсом и сахаром, — заметил мальчик постарше.
— Сахару детям не хватает. Зачем его зря переводить? А лошади едят траву. «Ой, что за глупости я говорю!» — ужаснулась Вера Павловна.
— Верно, едят, — хором согласились ребята. И посыпались вразнобой вопросы: — А почему?.. Почему сахару не хватает? А зачем американцы сахар большим дядям дают? Ого по скольку!..
— Потому, что они толстые, — сказал мальчик, который объяснял, чем кормят лошадей.
— Тетя, а бить нас будут? — спросил чей-то тоненький голосок. В комнате мгновенно установилась тишина. Карие, серые, голубые детские глаза выжидающе уставились на Веру Павловну.
— Нет, бить вас не будут, — сказала она, понимая уже, что здесь были коротки на расправу. — Вас били, да?
— Нас всегда били, — сказала Вера и серьезным не по-детски взглядом посмотрела в глаза воспитательнице.
«Боже мой! Боже мой, — думала Вера Павловна. — Такие крошки... Придется разделить их на несколько групп по возрасту. Заниматься с каждой группой отдельно. Читать вслух...» — Она задумалась над тем, как построить программу, с кем посоветоваться? Столько новых вопросов сразу встало перед ней!
Домой уходили все вместе — Потапова, Ельнева и Дарья.
Вера Павловна пригласила всех пить чай, но Дарья решительно отказалась. Наталья Федоровна согласилась зайти на минуту. Семья Ельневых ей понравилась, хотя Олимпиада Клавдиевна, узнав, чем занималась сегодня Вера Павловна, не переставала ворчать.
— Зачем ты берешься за грязную работу? Это вовсе не твое дело. Для этого имеются специальные люди, — строго выговаривала она племяннице. — Посмотри, во что превратилась юбка. Ужас!
— Но ведь дома я делаю эту же работу, и ты мне не мешаешь, — защищалась Вера Павловна.
— Дом есть дом. — Олимпиада Клавдиевна считала, что такого рода замечание не нуждается в пояснениях. — Подумай, ты сама уравняла себя с уборщицей! Нет, люди интеллигентного труда не должны так опускаться...
— Все приходится делать при некоторых обстоятельствах, — примирительно заметила Наталья Федоровна. — Поставьте себя на наше место, и вы...
— Я?.. А, пожалуй, вы правы, — сказала Олимпиада Клавдиевна и рассмеялась.
Даша зазвала сестру и Наталью Федоровну к себе в комнату и призналась, что она целый день мастерила по имеющейся выкройке чепчики для приютских детишек.
— Хороши, не правда ли? — и она высыпала на кровать ворох разноцветных чепчиков.
— Да. Только эти годны для грудных детей. А в приюте подростки, — сказала Наталья Федоровна.
Лицо у Даши вытянулось. Обе женщины расхохотались.
— Нет, не смейтесь! Нехорошо над этим смеяться, — крикнула Даша, вся зардевшись, и убежала на кухню.
Накануне со сборным поездом прибыло три вагона зерна из Завитой. Захарова о прибытии груза известили поздно; лишь к ночи он сумел собрать артель грузчиков. Вагоны поставили в тупичок довольно далеко от склада.
Прохор Денисович Игнатов побежал к дежурному по станции. Вернулся ни с чем: машинист маневрового паровоза в этот час мирно почивал у себя дома. Взять из депо другой паровоз дежурный не пожелал, ссылаясь на какую-то инструкцию. «Ждите утра», — флегматично посоветовал он.
— Ну что, ребята? В конторку — к артельщику? — спросил Игнатов, израсходовав весь запас ругательных слов в разговоре с дежурным по станции.
Грузчики недовольно зашумели.
— Давайте разгружать. Лишние сто сажен — не велика дорога, — сказал Савчук.
С вагонов сорвали пломбы. Прохор Денисович первым взвалил на плечи тяжелый мешок и, стараясь ступать по шпалам, зашагал в темноту. Иван Павлович двинулся за ним.
Проделав два-три раза путь до склада, Савчук почувствовал, что эта лишняя сотня сажен как следует отзовется на пояснице.
Возле вагонов во тьме — огоньки цигарок.
— Что, уже перекур? Приморились? — насмешливо спросил Савчук, подходя к сгрудившимся в кучку грузчикам.
— Погоди, Иван Павлович. Вот товарищ, что предлагает, послушай, — сказал Игнатов.
Грузчики расступились, и Савчук оказался лицом к лицу с невысоким железнодорожником.
— Здравствуйте! — сказал тот, поднимая фонарь и всматриваясь в лицо Савчука. — Я сейчас вагоны расцеплю... по одному на руках подкатите их поближе к складу.
Поставив фонарь, он нырнул под вагон, повозился немного в темноте и вылез обратно на бровку. Сказал деловито:
— Готово. Навались, ребята! — и сам плечом уперся в ребро вагона.
Общими усилиями вагон стронули с места, и он тяжело покатился по ржавым, засыпанным снегом рельсам.
Работа теперь пошла веселее.
Когда у склада появился Захаров с десятком ломовых подвод, небо над железнодорожными казармами начало светлеть.
Последние кули сгружали прямо в сани.
— Пошла амурская пшеничка. Ах, хороша, — довольно гудел Захаров, помогая укладывать тугие мешки. — Завтра, должно быть, поступит зерно из Бочкарево. Подойдут вагоны с КВЖД. Ничего, выкрутимся... будет что жевать, — продолжал он, ссужая грузчиков табаком из своего кисета. — Поеду сейчас на мельницу, Иван Павлович.
Грузчики молча и жадно курили, провожая взглядом подводы. Кладовщик уже закрывал склад на замок.
— Поди к вагонам, закрой двери. Наметет еще снегу, — сказал Игнатов, обращаясь к молодому пареньку в ватнике. Тот щурясь поглядел на поднявшееся чуть повыше забора солнце и недовольно возразил:
— И пусть, нам-то что.
— Беги, да пойдем по домам. Сегодня среда — значит, у нас военные занятия, — напомнил Игнатов. Паренек вскочил и побежал к вагонам.
Игнатов жил недалеко от товарного депо. Он снимал комнату в доме знакомого железнодорожника.
— Ты не был у меня, Иван Павлович? Пошли, чаю попьем, — предложил он Савчуку, когда они поравнялись с калиткой.
Квартирка у Прохора Денисовича маленькая — одна комнатушка и кухня, зато с отдельным входом. В комнате полутемно, потолки низкие, окна крохотные, тусклые, выходили они не на улицу, а в глухую кирпичную стену соседнего дома. Солнце лишь ненадолго заглядывало сюда.
— Живу, как король. Сарайчик свой имеется. Держу кур пяток и кабанчика. В нашем хозяйстве это подспорье. Вот с кормами плохо теперь, — рассказывал Прохор Денисович, поливая из кружки на руки Савчуку. — Детишек, как видишь, четверо. Жена болеет. Давно уже. Как ты чувствуешь себя сегодня, Маша? — спросил он, и нотки ласковой нежности зазвучали в его грубоватом, немного простуженном голосе.
— С вечера знобило. А кашель унялся, так поспала, — тихо сказала женщина, лежавшая под одеялом.
Савчук не сразу заметил ее. Потом он увидел изможденное, худое, но все еще прекрасное лицо с яркими большими глазами.
— Дуняшка дров принесла, печь растопила. Старшая дочь у меня — помо-ощница, — продолжала она, посмотрев с печальной улыбкой на Савчука. — Проша, ты подай человеку полотенце.
За окнами пронзительно свистел маневровый паровоз, слышались сигналы рожков, лязгало и грохотало железо.
— Беспокойно у нас. Да мы привыкли, — сказала женщина, угадав мысли Савчука.
Худенькая девочка лет двенадцати деловито хлопотала возле стола. Достала с полки эмалированные кружки, две вилки, нож. Принесла тарелку с куском заветревшего с боков сала и краюху ржаного хлеба.
Прохор Денисович резал сало тонкими ломтями, накладывал его на куски хлеба и потчевал детишек.
Высокий, широкоплечий, с шапкой курчавых каштановых волос и курчавой, аккуратно подстриженной бородкой, с голубыми смеющимися глазами и вечной добродушной улыбкой — он был олицетворением силы и красоты.
Савчук познакомился с Прохором Денисовичем вскоре после того, как принял батальон. Он искал людей, умеющих обращаться с пулеметом, и ему указали на этого голубоглазого богатыря. Выяснилось, что Игнатов бывалый солдат; пулеметчиком он стал еще в русско-японскую войну. На все вопросы Савчука он отвечал обдуманно и точно.
«За первого номера ходил? Значит, будешь начальником пулеметной команды, — заключил Савчук. — Вот только пулемета у нас нет».
Но вскоре нашелся и пулемет.
Каждую среду и субботу красногвардейцы-грузчики занимались военным делом. Савчук следил за тем, чтобы не было пропусков. Он сумел установить дисциплину в батальоне.
— Как пулеметчики настроены сегодня? — спросил Савчук, беря кружку с чаем.
— Да пулемет ребята знают. Неплохо знают, — сказал Игнатов и оглянулся на жену.
Она тяжко, надрывно кашляла. Лицо ее казалось вылепленным из воска.
«Не доживет до весны», — подумал Игнатов. Мысль эта была мучительной для него. Сделав вид, что ему нужно взять что-то на полке, Прохор Денисович встал и зашагал взад-вперед по комнате. Ступал он осторожно, стараясь не скрипеть половицами.
На нем были высокие охотничьи сапоги, подвязанные под коленями ремешками. От сапог пахло дегтем, каблуки были сильно стоптаны.
— Косолап я, видно. Таким уж уродился, — сказал Игнатов, заметив взгляд Савчука. — Меня в армию не хотели брать из-за этого. Вот поднять бы на ноги ребят, — продолжал он без всякой паузы. И громко вздохнул.
— Похоронишь меня, Проша... женись, — сказала больная. — Легче тебе будет...
— Да что ты, Маша! Ты еще меня переживешь, — с деланой веселостью возразил Прохор Денисович. Он и не подозревал, как близок был на этот раз к истине.
«Да-а, королевское житье...» — подумал Савчук, присматриваясь к обстановке в доме.
Батальон грузчиков проходил ускоренный курс военного обучения. Изучали русскую трехлинейную винтовку. Савчук требовал, чтобы каждый красногвардеец умел разобрать и собрать винтовку с завязанными глазами.
— Ты, ее, как скрипку, по звуку должен чувствовать, — говорил он, демонстрируя такую сборку на ощупь. — Не садись за стол, пока оружие не вычищено. Винтовка — твоя верная подруга в бою. Ухаживай, люби ее — никогда не изменит.
Грузчики старательно затверживали названия частей: ствольная коробка, винт упора, ударник...
Савчук знакомил бойцов с гранатой, приемами штыкового боя, элементарными основами тактики пехоты. Красногвардейцы его батальона основательно попотели, бегая по буграм и оврагам.
В прошлую субботу батальон ходил на стрельбище. Было разрешено израсходовать по пять патронов на брата.
— За спуск не дергай, — говорил Савчук, наблюдая за действиями ближнего бойца. — Придержи дыхание и ровно нажимай, чтобы выстрел произошел неожиданно.
Результаты стрельбы первого взвода оказались ниже того, на что он рассчитывал. Дул боковой ветер, а многие бойцы не приняли во внимание снос. Взводный тоже забыл предупредить об этом.
— Послали пули за молоком. Молодцы! — ядовито похвалил Савчук и тут же разъяснил ошибку.
Другие взводы стреляли лучше. Домой возвращались с песней:
Дела красногвардейского батальона занимали, пожалуй, главное место в теперешней жизни Савчука.
Посматривая с сочувствием на Прохора Денисовича, на его больную жену, он одновременно думал о предстоящем сегодня выходе в поле.
— Прохор Денисович, раз у тебя такое положение — бери освобождение недели на две, — предложил Савчук, когда хозяин без шапки вышел проводить его.
— Э-э, все равно! Я дров наколю, воды натаскаю. С остальным Дуняшка управится не хуже меня, — сказал Игнатов.
...Второй раз в этот день они встретились на левом берегу Амура среди занесенных снегом кустов тальника.
Савчук шагал напрямик к месту, где, по его предположению, должен был находиться батальон. Перед самым выходом в поле Ивана Павловича вызвали в краевой военный комиссариат. Пришлось ждать, пока окончится совещание и освободится нужный товарищ. Затем выяснилось, что Савчука звали совсем в другой отдел. Иван Павлович помчался в противоположный конец коридора, чтобы зря толкнуться в запертую дверь. После долгого ожидания он предстал наконец перед Разгоновым. Оказалось, что каптенармус батальона забыл подтвердить какую-то заявку,
— Вам что, делать нечего? Просили, значит, надо, — сказал Савчук и часто задышал.
Разгонов смерил его начальственным взглядом.
— Во-первых, делаю вам замечание. Вы не должны вступать в пререкания. Ясно? — заметил он тоном строгого выговора. — Во-вторых, я...
— А катись ты знаешь куда?! — вспылил Иван Павлович, задетый и этим тоном и еще больше заносчивым видом сидевшего перед ним чистенького и приглаженного штабного канцеляриста.
— То-ва-рищ Савчу-ук, без анархических выходок, пожалуйста!
Разгонов побледнел, поднялся из-за стола. В сущности, он не знал, что ему теперь предпринять. Он не ожидал, что Савчук столь бурно отреагирует на его замечание.
— Ладно. Можно без выходок... для первого знакомства, — с мрачной иронией согласился Савчук. Он тоже понимал, что здесь не место для спора. — Давайте я подпишу бумагу.
— В другой раз постараемся обойтись без недоразумений, — с обезоруживающей улыбкой заметил Разгонов. Он успел сообразить, что лучше не ссориться.
Негодуя на порядки в комиссариате, на хлыщей, которые пролезают всюду, чтобы портить настроение людям и губить живое дело, Савчук широкими шагами мерил снежную целину.
На снегу петли свежих заячьих следов. Савчук равнодушно посматривал на них, но сразу оживился, когда заметил рядом следы трех человек, прошедших срединой луга, где снег был не так глубок. Видно, они только что покинули открытое пространство.
«Ага, разведка. Прошли, а старицы не осмотрели...» — подумал Савчук и, изменив немного направление, зашагал к видневшимся невдалеке кустам.
Снег возле кустов был глубоким и рыхлым. Савчук двинулся в обход и тут неожиданно натолкнулся на искусно замаскировавшихся красногвардейцев. Они наблюдали за лугом.
Оказывается, Игнатов использовал эту неглубокую старицу с кустами ивняка по краям для засады. Савчуку достаточно было беглого взгляда, чтобы оценить все преимущества позиции.
Подав знак дозорным, чтобы они не докладывали о нем, Иван Павлович, придерживаясь рукой за куст, спрыгнул вниз.
Возле пулемета, присев на корточки, сидел красногвардеец в синем ватнике и шапке-ушанке. Савчук узнал китайца Ван Вэнь-шаня, недавно принятого в батальон. Игнатов что-то терпеливо объяснял ему, китаец кивал головой и восхищенно щелкал языком. Видно, стреляющая машина произвела на него сильное впечатление.
— Что, Ваня, пулемет изучить хочешь, а? — незаметно подойдя сзади, спросил Савчук.
— Просится, Иван Павлович. Уж очень просится, — сказал Игнатов.
Китаец при первых словах Савчука вскочил, сдернул с головы шапку.
— Моя не Ваня — Василий! Здравствуй, капитана! — сказал он и просительно улыбнулся. — Моя пулемета надо. Ладно. Шибко скоро его стреляй. Ши-ибко хорошо.
— А зачем тебе это нужно? Да ты покройся, шапку надень, — дружелюбно сказал Савчук.
— Моя Красная гвардия, — с достоинством ответил китаец, напяливая шапку и становясь во фронт. В мгновение ока вид его изменился: уже не покорный проситель стоял перед Савчуком, а подтянутый, внутренне собранный боец. — Работай вместе, воюй тоже вместе. Правильно!.. Потом моя обратно Китай ходи. Даешь Советская власть! — Глаза китайца блеснули. Затем он серьезным, ожидающим взглядом уставился на Савчука.
— Молодец! Убедил. — Савчук почувствовал не просто симпатию, а глубокое уважение к этому человеку, который так просто и бесхитростно изложил перед ним программу своей жизни. — Вот что, Прохор Денисович, — Савчук повернулся к Игнатову. — Зачислишь Василия в свой расчет сверх комплекта. И чтобы он за первого номера у тебя работал. Понял?
— Спасибо! Моя хорошо работай, — благодарно сказал китаец.
— Давай, давай! Будем с тобой, Василий, мировую революцию двигать. Разведка тут не проходила, не видел? — спросил затем Савчук у Игнатова.
— Да уж не мне их было окликать, — засмеялся Прохор Денисович. — Вот вся рота подтянется, так я их с фланга чесану... Будь здоров!
— Н-да... — Савчук похлопал прутиком по голенищу. — Вороны эти разведчики, черт бы их побрал!
Выбираясь из старицы, он оглянулся: китаец опять присел на корточки возле пулемета.
Дарья сидела у стола, подперев щеку рукой. На ее полных, припухлых губах бродила неясная улыбка. И весело и грустно было ей в этот вечер.
Последнее время Дарью мучила мысль о неустройстве ее жизни. Мужа она никогда не любила, а теперь и презирала его, как человека, который катится под гору да еще радуется этому. Если раньше Дарья была равнодушна к поступкам Петрова, то сейчас она судила его, как самый строгий судья. Все в нем было противно ей и чуждо, — следовало лишь порвать последние нити, формально связывавшие их.
Может быть, ее решение окончательно разорвать с Петровым и не созрело бы так скоро, если бы не приезд Савчука. Савчук приглянулся Дарье давно, еще до призыва в армию. Его равнодушие задевало ее, вызывало желание расшевелить парня, понравиться ему. Разумеется, это не было тем сильным, горячим чувством, которое вспыхнуло в ней в ночь пожара. Но теперь Дарье казалось, что ее любовь к Савчуку началась еще с тех пор, как они поселились в одном бараке.
Не сказав еще ничего о своем чувстве, не зная, как он отнесется к такому признанию со стороны замужней женщины, боясь показаться назойливой или смешной, Дарья вечерами терпеливо дожидалась возвращения Савчука. Она прислушивалась к его шагам, старалась как бы невзначай встретиться с ним в коридорчике, разделявшем их комнаты.
Дома ли Иван Павлович? Окна у них, когда Дарья проходила мимо, были темны. А где же Федосья Карповна? Надо узнать, когда он вернется.
Она недолго боролась с собой. Найдя первый благовидный предлог, Дарья вышла в холодный коридор и с сильно бьющимся сердцем робко, чуть слышно два раза стукнула в соседнюю дверь. Тотчас же она хотела повернуть обратно, но из-за двери голос Савчука спросил:
— Кто там? Входите.
Дарья толкнула дверь и шагнула через порог.
— Одну секунду. Я свет зажгу. — Савчук шарил в темноте по столу, ища коробок спичек.
— Мне Федосью Карповну надо, я на минуту только. Здравствуйте, — будто не своим голосом сказала Дарья, каждое слово ей приходилось выталкивать сплои из мгновенно пересохшего горла. — Хотела квашню ставить, а дрожжи у меня кончились.
— Мать скоро вернется. Садитесь, Дарья Тимофеевна. Вот сюда, — и Савчук предложил ей стул. — Я набегался сегодня, да ночью еще работал. Хорошо, что вы меня разбудили. А дрожжи?.. Не знаю, есть ли они в доме или нет. Должно быть, имеются. Мать у меня человек запасливый. Поискать, а? — говоря это, Савчук с улыбкой смотрел на Дарью.
— Вы сегодня рано, Иван Павлович. Всегда приходите поздно, а сегодня — рано, — заметила Дарья, чтобы сказать что-нибудь.
— В дорогу надо собираться. Завтра еду.
— В дорогу? А я не слышала... Куда едете, Иван Павлович? — Сердце у Дарьи сразу упало.
— Тут недалеко, в волость. Посылают недели на две. — Савчук потянулся за пачкой папирос, но раздумал курить. Выражение лица Дарьи поразило его: на нем были и растерянность, и тревога, и любовь.
«Две недели!.. Бог знает, что может произойти за это время», — думала она, комкая пальцами край шерстяного платка, накинутого на плечи.
— Знаете, Дарья Тимофеевна, давно я хотел с вами поговорить.
— Ну?.. — Дарья так и подалась вся к нему.
— Нет, после когда-нибудь, — сказал Савчук и взял папиросу. — Сейчас мать придет...
— Боишься? — спросила Дарья, прищуривая глаза. — А я вот не боюсь, пришла... Я про любовь свою сама скажу. Милый мой, хороший! — Она встала, шагнула к нему. — Ну зачем нам таиться? Я ведь вижу, сердцем почувствовала, как ты ко мне тянешься. Ох, радость моя или горе! — и Дарья первая обняла Савчука и поцеловала в губы.
...Вернувшись вечером домой, Савчук не стал зажигать свет и прилег на кровать. Едва он смежил веки, как сон навалился на него. Но через полчаса он проснулся. И первой мыслью была мысль о Дарье. Он лежал с закрытыми глазами и думал о ней.
Когда Дарья вышла в коридор, Савчук каким-то внутренним чутьем догадался, что она постучит к ним. Стук был еле слышный. И он поторопился сказать «входите», боясь, что Дарья передумает и вернется к себе. Разыскивая в темноте спички, он имел достаточно времени, чтобы справиться со смущением. Но как не нужны оказались эти его ухищрения!
— Знаешь, Ваня, — она впервые так назвала его и повторила, вслушиваясь в каждый звук его имени: — Ваня, шел бы лучше ко мне! Дрожжи ведь мне не нужны... Совестно было, вот и соврала.
Дарья поправила волосы и пошла к двери.
— Ты кушать хочешь? Наверно, не ужинал? — спросила она у себя в комнате, сразу входя в роль хозяйки.
— Да, признаться не ужинал, — сказал Савчук.
Она пододвинула ему хлеб, бобовое масло, налитое в блюдце, вареный картофель, солонку с солью, чай в большой эмалированной кружке. Он с удовольствием ел это незатейливое угощение, пил чай, весело посматривал на Дарью.
Дарья мелкими глотками допила свой стакан, поглядела на Савчука, чуть откинув назад голову.
Савчук привлек ее к себе, и они опять поцеловались.
— Довольно. Знаю, что любишь, — сказала Дарья, поправила на плечах платок и, отойдя в другой конец комнаты, спокойно закончила: — А мужу я сегодня все расскажу. Я обманывать не стану.
В доме Левченко власть отца — главы семьи — всегда была непререкаемой. Не вмешиваясь в мелочи и не стесняя особенно свободу подраставших детей, Алексей Никитич сумел дать почувствовать каждому свою тяжелую руку. Он терпеть не мог, если кто-либо из домашних начинал противоречить ему. До сих пор Алексею Никитичу сравнительно легко удавалось держать дом в руках. Все — и дети, и прислуга, и даже посторонние люди, попадавшие в дом, — волей или неволей подчинялись раз установленному порядку. Все домашние в одно и то же время сходились в столовую завтракать, в один час обедали, ложились спать не позже полуночи.
Но теперь даже и это внешнее проявление дисциплины не соблюдалось. Было просто удивительно, как быстро распался, казалось, прочно слаженный семейный быт. Алексей Никитич на все махнул рукой. После недавней стычки с Сашей он закрылся у себя в кабинете и редко выходил оттуда. Он больше ни на кого не кричал, не повышал голоса, держался так, будто в доме осталась лишь его безгласная тень, и только мрачный взгляд исподлобья, которым Алексей Никитич вдруг окидывал собравшихся за столом домочадцев, выдавал его мысли и чувства. От этого взгляда присутствующим становилось не по себе.
Саша нарочно задерживался вне дома, чтобы опоздать к обеду и не встречаться с отцом. В нем боролись два противоположных чувства: ожесточение и жалость — жалость к отцу, который, как он догадывался, становился все более и более одиноким. Было просто невыносимо сознавать, что они так быстро начали отдаляться друг от друга. Несмотря на то, что Саша шел наперекор воле отца, в нем жила сыновья привязанность и уважение к нему. Ему страстно хотелось найти убедительные, горячие слова, способные растопить лед в их отношениях. Не раз он готов был сделать шаг к примирению, но, повстречав холодный, испытующий взгляд отца, терялся и отступал. Он понимал, что мир мог быть восстановлен только ценою его отказа от сочувственного отношения к революционным переменам. А на это Саша пойти не мог. Он чаще стал задумываться над собственной жизнью, начал доискиваться причин людских несчастий. И чем дольше он размышлял, тем более справедливыми и необходимыми казались ему происходящие сейчас перемены. Грандиозность совершающихся событий захватывала, увлекала, радовала его. Это оказалось сильнее, чем родственные чувства и привязанности. Если внешне Саша еще вел прежний образ жизни, если он, уходя из дому, когда невыносимой становилась душная его обстановка, все-таки возвращался обратно, то было бы ошибочно заключить из этого, что он остался прежним мальчишкой-гимназистом, далеким от политики. Ему сейчас недоставало лишь хорошего толчка, чтобы решительно и бесповоротно порвать со старой жизнью. Внутренне к этому он был уже подготовлен.
Алексей Никитич, видимо, понимал душевное состояние сына. Сдержав себя однажды, подавив усилием воли вспышку безудержного гнева, он теперь избегал всего, что могло бы еще больше обострить отношения между ними. Трудно было ему ломать свой характер. Невозможно было самому сделать первый шаг навстречу. Но страх порвать последнюю нить, соединявшую их, останавливал его всякий раз, когда на язык просились гневные, оскорбительные для сына слова. И это было несомненным проявлением отцовской любви, скрытной, суровой, но крепкой. Заметив отсутствие сына за столом, Алексей Никитич в первый раз промолчал, во второй — сказал Соне, чтобы та впредь подавала ему обед в кабинет, а сама обедала бы с Александром (теперь Алексей Никитич уже не звал сына Сашей).
Соня, разумеется, догадалась, что отец боится окончательного разрыва с Сашей. Это и обрадовало и испугало ее; испугало потому, что она знала, насколько безудержен бывает в гневе отец. Нельзя без конца испытывать его терпение. И Соня теперь пользовалась каждым случаем, чтобы уговорить Сашу примириться с отцом. «Я не ссорился с ним», — отвечал Саша. «Он страдает, ты должен это понять», — настаивала она. «Мне тоже нелегко. Почему ты обо мне не хочешь подумать?» — сердясь, спрашивал брат. Кончались обычно такие разговоры слезами. Соня, уткнувшись лицом в подушку, плакала. Взволнованный и раздосадованный тягостной сценой, Саша сидел как на иголках и молчал, не зная, что сказать, чувствуя, что он-то меньше всего виноват. Эти постоянные стычки с сестрой удручали Сашу больше, чем его натянутые отношения с отцом.
Все складывалось так, что только вне родного дома Саша чувствовал себя вполне свободным и независимым. Его отлучки из дому становились все более продолжительными.
Не раз теперь в лыжных прогулках Сашу сопровождала мисс Хатчисон. Саша попривык к ее экстравагантности и обнаружил, что молодая американка, в сущности, довольно занятный человек. У нее был свой взгляд на события, на людей. Сашу поражали ее крайний практицизм и эгоистичность. Он не соглашался с нею, спорил. Она с улыбкой отвергала его доводы. В критический момент она умела ловко повернуть направление беседы, с серьезным видом высказывала какую-нибудь благоглупость, и Саша принимался весело хохотать. А мисс Хатчисон в это время так лукаво посматривала на него, что Левченко в конце концов начинал чувствовать себя одураченным. Однако трудно сердиться, когда плутовские глазки обстреливают тебя, а острый язычок колет и колет. Успевай отбиваться. И Саша охотно отдавался этой словесной игре.
Посторонние долго не замечали разлада в семье Левченко. В доме Алексея Никитича почти каждый день собирались люди, слетевшиеся со всей России, обиженные революцией; они проклинали, грозили и, где-то в глубине души сознавая свое бессилие, стремились урвать от жизни побольше, пока можно. У всех у них были общие интересы, общая ненависть к новому государственному и социальному строю, одни и те же надежды на реставрацию власти буржуазии. Они тянулись друг к другу, хотя между ними и не было каких-либо глубоких человеческих привязанностей.
Занятые своими делишками, своими расчетами, гости Алексея Никитича с комфортом располагались в его просторной гостиной, не всегда замечали отсутствие среди них хозяина. Соня неукоснительно исполняла обязанности хозяйки: во время подавала чай, варила черный кофе, а если был подходящий час — ставила и крепкие напитки. Впрочем, Алексей Никитич, заслышав гул голосов, иногда тоже выходил в гостиную, здоровался с гостями и с мрачным удовольствием внимал прогнозам о скором падении Советской власти. Иногда кто-либо из гостей сам вламывался к нему в кабинет и там занимал его пустыми разговорами до тех пор, пока терпение хозяина не истощалось и он многозначительно не показывал надоевшему гостю на часы. Алексей Никитич в таких случаях не церемонился.
Чаще других наведывались к Левченко Судаков и Сташевский. Случалось, что они забегали по два раза в день; приходили порознь, но уходили всегда вместе, — вероятно, не успевали вдосталь наговориться. Из всех гостей, бывавших в доме, Саша особенно невзлюбил именно этих двух. Он и не скрывал своего неприязненного отношения к ним. Но Судаков и Сташевский его неприязни попросту не замечали. А Саша из-за этого злился на них еще больше.
Некоторое время его внимание привлекал адвокат Кондомиров. Он умел облекать свои мысли в такую неожиданно нарядную форму, что на первых порах это показалось очень любопытным. Создавалось впечатление, что имеешь дело с умным и оригинально мыслящим человеком. Но потом Саша понял, что Кондомиров такой же мелкий в суждениях, завистливый и озлобленный человек, как и прочие их знакомые.
Однажды, застав Сашу одного в гостиной, Кондомиров с улыбочкой на жирном лице спросил его:
— Ну-с, молодой человек, скажите откровенно, не надоели вам наши словопрения о свободе, правах человека и прочем, что нынче в чести и моде?
— Словопрения — да, надоели, — откровенно признался Саша.
— Гм!.. — Кондомиров искоса посмотрел на него, наклонил голову влево и чуть прижмурил правый глаз. — Однако вы, кажется, человек действия. Одобряю. Пора кончать со всей этой мерехлюндией. Нам нужен человек с ружьем, умеющий стрелять и убивать. Беда в том, что сейчас в толпе утрачено чувство страха. Страх — основа порядка. Я — адвокат, по профессии своей знаю это, не раз наблюдал эмоции преступников перед судом.
— Но вы же сами ратуете за равенство! — воскликнул озадаченный Саша.
Адвокат расхаживал по комнате, выставив вперед бородку, громко и внушительно говорил:
— Равенство перед законом я принимаю, это прогрессивный принцип. Но равенство социальное — нет, ни за что! Это тысяча шагов назад к варварству.
— Но почему? Почему? — допытывался Саша.
— Как же, помилуйте! — Плечи Кондомирова поднялись, а жирный затылок почти спрятался между ними. — Два десятка лет я ношу диплом Петербургского университета. Меня считают здесь лучшим юристом. Знаете, год назад американская фирма Маккормик предлагала мне должность юрисконсульта. Я отказался. Но это, согласитесь, — признание. Таков субъект номер один. А вот вам — субъект номер два. Вез меня сюда извозчик Иван, бородища — помело, ручищи — грабли. «А что, спрашивает, барин, правду бают, что земля вертится?» Это в двадцатом-то веке. Ну-с, поравняйте нас! До какой же степени я должен опуститься!
— А если поднять Ивана до вас? Ведь это можно сделать.
— До меня? Ха-ха-ха! — Кондомиров расхохотался; живот его колыхался от смеха, и золотая цепочка часов, спрятанных в жилетном кармане, тоже тихо покачивалась. — Ой, молодость, молодость! Все вам нипочем, все трын-трава! Легкость необычайная... Но это, извините, от недостатка ума! Да-с. Цивилизация, конечно, диффундирует и проникает в толщу народных масс... но медленно, черт возьми! Медленно... А все должно идти своим естественным порядком. Когда-нибудь, лет через триста, наступит благословенный век. Да нас-то с вами не будет. Так зачем, спрашиваю, хлопотать? Помните, прекрасно сказано у Горация: «День текущий лови, меньше всего веря в грядущий день...» Античность, молодой человек! Мудрость! Пример нам, грешным... А, между прочим, где ваша сестрица? Я бы выпил стакан горячего чаю с ромом.
Но прежде чем появилась Соня, в гостиную ворвались Судаков и Сташевский, страшно возбужденные, растрепанные и в одежде своей и в мыслях. Судаков сразу плюхнулся на диван, поднял руку и сказал прерывающимся голосом:
— Господа, случилось страшное и непоправимое!.. Они разогнали Учредительное собрание.
Кондомиров ухватился рукой за свою бороду.
— Да, господа, с юридической точки зрения — акт безусловно неправомерный и будет иметь последствия самые значительные. Самые значительные, — повторил он. — Это будет воспринято как сигнал.
На следующий день Судаков и Сташевский принесли весть о готовящейся в городе демонстрации протеста. Меньшевистская газета «Призыв» и эсеровская «Воля народа» уверяли, что на улицу выйдут тысячи людей. Говорилось о брожении в воинских частях, каких-то беспорядках в Арсенале. Совет государственных и общественных служащих Хабаровска вновь создал стачечный комитет. Члены его развили бурную деятельность, бегали по учреждениям, призывали к политической стачке. Распространялись листовки.
Судаков, выступая на митингах, надорвал голос, охрип. Он верил, что в назначенный час встанут горожане и двинутся за ним на улицу. Во всяком случае, Юлия Борисовна Парицкая заявила, что они с Катей примут участие в народной демонстрации, и велела к этому часу подать ей лошадь в санках. Один Чукин остался скептиком и циником к тому же.
— Не сумели оседлать, так некуда и скакать. А впрочем, валяйте, — сказал он. — Дай вам бог удачи, а мне — придачи.
Скептицизм Чукина имел основание. Буржуазная по своему составу городская дума первой выразила протест против роспуска Учредительного собрания. Хабаровский Совет ответил на это исключением из думы всех ее буржуазных членов и утвердил новый список гласных. Места бывших «отцов города» — купцов и домовладельцев — заняли представители профсоюзов.
Саша знал, что рабочие и солдаты встретили весть о роспуске Учредительного собрания с полным одобрением. Всюду шли митинги. На них принимались большевистские резолюции. На улицах же вообще мало говорили об этом событии. Имелись, видно, у людей другие, более им близкие и понятные интересы.
В день демонстрации с Амура подул свежий ветерок, подхватил сорванную кем-то с забора афишу, извещавшую демонстрантов о часе и месте сбора, и погнал ее колесом вдоль улицы, пока из какого-то двора с криком не налетели на нее мальчишки и тут же не разодрали афишу в клочья. Может, по этой причине в назначенный срок на указанном месте никого не оказалось. Лишь стороною по тротуару прошмыгнули человек двадцать организаторов, уткнувших носы в воротники, покачали сокрушенно головами и разбрелись.
Что касается Юлии Борисовны, то она действительно собиралась на демонстрацию и даже спросила конюха, пришедшего сказать, что лошади заложены: «Холодно ли на улице?» — «Стало быть, ветер поднялся. Так что морозно», — отвечал тот, похлопывая залатанными рукавицами. «Ну, тогда распрягай», — сказала хозяйка, повернулась и ушла обратно в спальню. Конюх пожал плечами: «Заводют же канитель. А для чего, спрашивается? Тьфу!»
Политическая стачка служащих все-таки началась. Прекратили работу банк, казначейство, Амурская казенная палата, Акцизное управление, Продовольственная управа. Бастовали главным образом высшие служащие. Но нормальная деятельность городских учреждений снова была нарушена.
Сташевский, пользуясь своим положением начальника почтово-телеграфной конторы, выдал служащим жалованье за три месяца вперед.
— Мы готовы бастовать до полной победы, — хвастливо говорил он Алексею Никитичу и довольно потирал руки. — Пришлось использовать деньги, поступившие для выплаты пенсий солдаткам. Не беда, почта теперь все равно не функционирует. Пусть бегут жаловаться в свой совдеп. Через неделю там взвоют, вот увидите.
Но к вечеру на телеграфных аппаратах работали моряки, вызванные с базы Амурской флотилии. Сташевского, прибежавшего заявить протест, не пустили в помещение. Саша, случайно оказавшийся в это время возле телеграфа, видел, как Сташевский, застегнутый на все пуговицы своей черной с серым отливом шинели, строгий и официальный, подходил сюда торопливой, чуть вихляющей походкой. У входа в здание его остановил матрос с винтовкой.
— Посторонних лиц на телеграф пускать не велено. Разобраться надо, чего тут саботажники натворили, — Спокойно объяснил часовой, покосившись на незнакомые знаки различия.
Сташевский попытался отстранить его и пройти в дверь, но часовой с решительным видом загородил вход винтовкой.
— Не прикасайтесь ко мне... Как вы смеете! Я начальник конторы! Или вы ослепли? — визгливо закричал Сташевский.
— Ты не шуми. — Матрос нахмурился и недобро взглянул на него. — Часовому начальник один — караульный. По воинскому уставу, понял? И отойди на дистанцию. — Он взял винтовку на руку.
Сташевский отпрянул с неожиданным для такого толстяка проворством. Рысцой он догнал Сашу.
— Вы слышали! Какой нахал, а!.. Я — постороннее лицо... — Он обиженно заморгал глазами и громко посморкался в пестрый клетчатый платок.
Неожиданно среди зимы наступила оттепель. Закапало с крыш, над карнизами повисли ледяные сосульки. Дни стояли солнечные, яркие. Во дворе на утоптанном грязном снегу прыгали воробьи.
Саша сидел у окна и смотрел на их веселую возню. Снова и снова обдумывал он свое положение.
Наконец у него открылись глаза: он увидел, что за люди окружают его в доме отца, понял их лицемерие, лживость, тупость, эгоизм. Саша теперь не испытывал к ним никаких других чувств, кроме презрения.
В конце концов Саша пришел к единственно возможному выводу: оставаться дольше в доме нельзя. Но как сказать об этом Соне? Как объяснить ей причины? Его привязанность к сестре была по-настоящему глубокой и сильной. Уж он-то понимал, насколько она одинока. А нанести ей еще удар, причинить боль — было выше его сил. И Саша все оттягивал решающий разговор с отцом.
В последние дни Саша стал особенно внимателен к сестре. В разговорах он избегал таких тем, которые могли бы напомнить о близящемся разрыве. Он уже не убегал из дому при первой возможности, а терпеливо дожидался, пока Соня освободится от хлопот по хозяйству. Вместе они бродили дотемна по улицам. Саша смешил сестру меткими замечаниями, острил по поводу общих знакомых: он был неистощимо весел. Соня подстраивалась под его настроение; она смеялась еще звонче, еще заразительнее. «Вот счастливая и беззаботная пара!» — сказал бы любой, глядя на них со стороны.
Но Саша ошибался, думая, что он хоть на время избавил сестру от тревог. На Соню он продолжал смотреть глазами старшего брата, всегда знавшего ее сообразительной, умной, но все-таки девчонкой; перед ним же была взрослая девушка, которой жизнь уже преподала первые суровые уроки. Соня нисколько не обманывалась относительно намерений брата; напротив, перемена в его отношении к ней явилась для нее новым подтверждением близости часа разлуки. Однако Соня была искренне благодарна брату за его попытку как-то скрасить последние дни. Ни разу при нем тень огорчения не мелькнула на ее лице: она научилась владеть своими чувствами.
И все же развязка наступила скорее, чем они думали.
Саша в той же позе сидел у окна, когда Соня с радостным возгласом ворвалась к нему в комнату.
— Вот я и управилась! День сегодня чудный. Пойдем в кинематограф!
Саша медленно повернул голову, посмотрел на сестру отсутствующим взглядом; сердце у Сони сжалось.
— Ты не болен, Саша? — спросила она с тревогой.
— Я? — он сухо рассмеялся. — Ничего ты не понимаешь, сестренка. А жаль... Во всяком случае, дело идет к концу. Я вижу это и очень рад.
— Вот чего я боялась, — тихо сказала Соня и опустилась на стул.
Саша с удивлением взглянул на нее. За простыми словами сестры скрывалось столько скрытой сердечной муки, что это пристыдило его. Она сидела перед ним, слегка закинув голову назад; ее волнистые, отливающие золотом волосы спадали на плечи, глаза с мольбою были устремлены на него. На ресницах у нее трепетали слезинки.
— Я боюсь за тебя и за отца боюсь. Боюсь за нашу семью, которая рушится у всех на глазах, — продолжала Соня. Голос ее выдавал глубокое волнение, как она ни старалась скрыть это.
— Ну, не только тот свет, что в окошке.
Саша понимал, что было бы лучше прекратить разговор, но теперь уже не мог: все, что он пережил и передумал за это время, все с новой силой поднялось в нем.
— А если и меня затянет проклятая тина, — ты не боишься?.. Сижу вот у окна, как птица в клетке. И дверь отворена настежь, а взмахнуть крылом — решимости нет. Разве не досадно, не горько это сознавать?
Саша не желал обострять отношения с сестрой, но ее безответная покорность и уступчивость отцу не на шутку раздражали его. Помимо воли у него сорвалось с языка несколько резких замечаний. Соня обиженно посмотрела на брата, покраснела и вдруг рассердилась.
— Перестань, пожалуйста, — с досадой, резко сказала она. — Я бы, может, тоже ушла, да куда?.. И характера у меня нет. Отца оставить я не могу и не оставлю... Ты меня до слез довел этими глупыми попреками.
Ее слова отрезвляюще подействовали на Сашу. «Ее-то я зачем обижаю?» — со смущением подумал он.
— Ты звала в кинематограф. Что ж, пойдем, — сказал он.
На улице гомонила толпа.
Было воскресенье.
Саша не без труда достал билеты, и они прошли в партер. Зал был полон, но сеанс почему-то не начинали. Наконец появился администратор.
— Уважаемая публика, приношу тысячу извинений! — сказал он. — Неисправен аппарат. Мы вызвали второго механика. Может, угодно пока послушать информацию о текущем моменте?
Двое билетеров внесли столик. Поставили графин с водой. Пододвинули к столу стулья.
Из первого ряда поднялись и прошли к столу Сташевский, адвокат Кондомиров и худенькая женщина с целой копной рыжих волос.
Сташевский театральным жестом простер руку.
— Поскольку у нас имеется время, не угодно ли продискутировать вопрос о войне и мире? М-м... существуют разные точки зрения. Но мы будем руководствоваться священными интересами родины. Нет возражений?
— Есть! — крикнули с галерки, но в партере зашикали.
— Мы терпеливо выслушаем всех, — добродушно пообещал Сташевский и успокоительно помахал пухлой рукой.
Кондомиров вышел вперед, отвесил общий полупоклон.
— А все-таки, будет мир или нет? — опережая его, спросили с галерки.
— Не в этом вопрос, — адвокат привычным движением заложил руку за борт пиджака. — Вопрос в том — хотим мы похабного мира с немцами или нет? Большевики в Бресте...
Оратор призывал продолжать войну до победного конца, грозил России гибелью, если в Бресте будет подписан мир на условиях, выдвинутых немцами. Говорил он ровным, журчащим голосом.
— Нас обвиняют в разжигании страстей и чуть ли не в людоедстве. Что может быть превратнее такого истолкования призыва к патриотизму граждан? Это проявление естественного защитного рефлекса народа перед лицом опасности. — Кондомиров простер обе руки вперед, как бы взывая к справедливости. Потом он вытер вспотевший лоб батистовым платком, спрятал его в карман, вздохнул и уже другим, успокоенным тоном заметил: — К счастью, времена каннибализма и человеческих жертвоприношений давно прошли.
— Совершенно верно, — громко подтвердил бас из середины зала. — В наше время индивидуальные человеческие жертвоприношения бессмысленны, теперь сразу миллионы людей посылают в механизированную бойню. Это и есть война, куда нас зовут ради прибылей господ капиталистов. Позор! И вы еще смеете именовать себя социалистами?..
Кондомиров не удостоил его ни ответом, ни взглядом.
— Я предлагаю... мы должны, — запальчиво крикнул он, и голос его сорвался. — Да, должны! Должны осудить переговоры в Бресте...
— Самого тебя судить надо, барин! — сердито возразила просто одетая женщина в третьем ряду.
— Решит-тельно осудить! — Адвокат воинственно рубанул рукой воздух перед собой. — Мы покажем, что есть еще люди, готовые честно исполнять свой долг. Есть! — Он всем корпусом качнулся вперед, будто его толкнули в спину, пожевал губами и закончил без всякого подъема, будничным голосом: — Предлагаю открыть запись добровольцев, готовых сражаться с тевтонами.
Медноволосая женщина пододвинула к себе листок бумаги и уставилась в зал округлыми, совиными глазами. Сташевский, забыв о своем обещании выслушать всех, деловито, как на аукционе, сказал:
— Итак, открыта запись добровольцев. Кто первый? — он поискал кого-то глазами в зале, не нашел, досадливо поморщился и спросил: — Неужели здесь нет патриотов?
Зал выжидательно молчал.
— Есть! Запишите меня, — вдруг крикнул с места Саша и, прежде чем Соня успела остановить его, пошел по проходу, провожаемый удивленными взглядами. Сташевский заулыбался навстречу. Кто-то зааплодировал, недружные хлопки покрыл пронзительный свист галерки.
— Ах, душка-а! Какой хра-абрый... — восхищенно сказала шикарно одетая дама.
— Дурак, а дураки, как известно, ничего не боятся, — под общий смех ответил бас.
Саша отчетливо расслышал реплику и покраснел.
— Я был на фронте. Ранен. Отравлен газами, — волнуясь, заговорил он. — Думал, что с меня хватит. Но я готов воевать, раз нужно. Вот я ставлю подпись. — Он лихо расчеркнулся на пустом листе бумаги, выпрямился, намеренно не замечая протянутой ему руки Сташевского. — Кто же следующий? Может, вы, господин Кондомиров? — и Саша с любезной улыбкой обернулся к адвокату. — Прошу вас, сударь...
— Я?.. Но почему я?.. У меня здесь неотложные дела, — Кондомиров недоумевающе пожал плечами.
— В самом деле, почему вы? — громко и с издевкой спросил Саша, обращаясь уже не к адвокату, а в зал. — Нам можно, а ему, видите ли, мама не велит. Его функция болтать, а нам — умирать.
— Вот подде-ел! — в восторге закричали на галерке и бурно захлопали, затопали ногами. — Крой их, дружище! Валяй!
Саша со злорадным удовольствием читал растерянность и злобу на лицах тех, у кого он только что видел поощрение и поддержку.
— Итак, запись продолжается! Прошу, господа. Вот вы, я к вам обращаюсь, уважаемый председатель, — войдя в роль, звонким и чистым голосом объявил Саша, вызывающе поглядев на растерявшегося Сташевского. — Мы на все готовы ради, блага отчизны и собственного благополучия, конечно.
Галерка дружно смеялась.
— Ай да спектакль!
— Неужели здесь один я оказался простаком? — не без сарказма спросил Саша.
— Александр Алексеевич, одумайтесь! Неприлично так шутить, — сдавленным полушепотом проговорил Сташевский.
— Ага, шутить? — Саша окинул Сташевского негодующим взглядом. — Так это всего милая шутка? Вы слышите? — Продолжал он, обращаясь к людям на галерке. — Отчего же шутя не поиграть еще миллионом человеческих жизней? Этим господам дай волю, они мать родную продадут ради выгоды. — Саша рукой откинул назад спустившуюся прядь волос, бросил в притихший зал страстные, выстраданные слова: — Нет, не надо войны! Дайте нам мир, которого требует Ленин!.. Здесь, наверно, есть фронтовики. Есть солдатские вдовы и сироты. А ну-ка спросите их: нужна им война за интересы международных банкиров или нет? Пусть поднимут руки, кто не хочет войны.
Саша увидел множество взметнувшихся кверху рун, множество смеющихся милых человеческих лиц. Он испытал в эту минуту такой душевный подъем, такую радость, какой давно не переживал.
— Отлично вы сказали. В самую точку, — проговорил подошедший к столу Потапов. Предупрежденный по телефону об эсеровском митинге в кинотеатре, он поспешил сюда. — Разве это не показательно, что здесь не нашлось ни одного человека, желающего поддержать оборонцев? — продолжал он, обернувшись лицом к залу, не давая Сташевскому возможности вмешаться. — Одним война не нужна. Некоторые хотят, чтобы за них воевали другие. Вот гак и получается. Вы говорите о патриотизме, — глянул он на Сташевского. — Ложь! Настоящий патриотизм в современных условиях в том, чтобы воспрепятствовать буржуазии убивать сотни тысяч людей ради прибылей ничтожной кучки капиталистов. Для этого рабочие и крестьяне взяли власть в свои руки. И они не позволят увлечь себя обманными лозунгами. Вам эта война нужна? — показал он пальцем на сидевшего перед ним высокого, болезненного с виду мужчину. — Вам?.. Вам тоже нет? Так чего здесь людям головы морочат? — спросил он под общий смех всего зала. — Почему так хлопочут эти господа? Хотят втравить нас в непосильную нам сегодня войну с кайзеровской Германией. Штыками немецких солдат намереваются покончить с Советами в России. Ведь вы этого добиваетесь, да? — спросил Потапов, оборачиваясь к Сташевскому.
В эту минуту в зале погас свет.
Кто-то в темноте довольно грубо толкнул Сашу, над самым ухом прозвучал раздраженный голос администратора:
— Не стойте в проходе. Демонстрация картины началась.
Саша ощупью побрел к своему месту; как в тумане, слышал он голоса, реплики:
— Хоро-ош сынок у Алексея Никитича!
— А что, молодец!
Соня за руку потянула Сашу на свой ряд и, когда он уселся на стул, зашептала:
— Ты с ума сошел!..
— Наоборот, сестренка, — за ум взялся! — серьезно ответил Саша и нежно, успокаивающе погладил ее руку.
Вернулись они домой в обеденный час. В гостиной собрались завсегдатаи. Было нетрудно догадаться, что сегодня главной темой разговора являлся Сашин поступок: при появлении Саша все вдруг замолчали.
Алексея Никитича не было в гостиной, не было и Сташевского, хотя его пальто висело на вешалке в прихожей. Саша саркастически усмехнулся и, не здороваясь ни с кем, прошел к себе.
Соня накрывала стол, глотая слезы; лицо ее горело. Через растворенную дверь она слышала разговор в гостиной; все с поразительным единодушием осуждали ее брата. Там, в кино, она тоже не одобряла его выходки, но сейчас в ней заговорил дух протеста: Саша в тысячу раз лучше и честнее всех этих никчемных людей. По какому праву они смеют судить его? Кто сами они такие? Впервые в своем сознании она отделила брата от окружающих ее моралистов. Не стыд за Сашу, а нечто похожее на гордость шевельнулось в ее груди.
Саша читал или делал вид, что читает, когда Соня вошла в комнату. Никаких следов раскаяния или сожаления не увидела она на спокойном, задумчивом лице брата. Соня деликатно и мягко спросила:
— Тебе, может, неудобно быть сегодня в столовой? Я поставлю обеденный прибор в твоей комнате.
— Неудобно? — Саша с неожиданной для нее веселостью рассмеялся. — Правду говорить всегда удобно, сестренка. А на мнение этой публики мне в высшей степени наплевать.
Алексей Никитич вопрошающе уставился на сына; возможно, он ждал, что тот извинится перед Сташевским. Но Саша и бровью не повел — взял нож и вилку и занялся едой. Происшедшее нисколько не отразилось на его аппетите.
А Соня ждала, что гроза разразится с минуты на минуту.
К ее удивлению, обед благополучно дошел до конца. Гости вели себя благопристойно, хозяин отмалчивался. Разговор касался самых невинных предметов — погоды, охоты.
Соня подала чай с коньяком; языки наконец развязались.
— Ну и номер вы откололи, молодой человек! Ай-я-яй! — с легким укором заметил Судаков, обращаясь к Саше и рассчитывая разрядить обстановку. — Занятный получился анекдот!
Саша повернулся к нему спиной. Судаков обиженно хрюкнул, заговорил о высокой политике, — в этой сфере он чувствовал себя гораздо увереннее.
«Нет, подальше... подальше от этих людей!» — думал Саша. Занятый своими мыслями, он почти не следил за общим разговором. Но вот до его сознания дошли слова Сташевского:
— Ярость толпы слепа, безрассудна, жестока. Она смирится только перед жестокостью силы. Нужен жандарм, господа!
Саша круто повернулся вместе со стулом.
— Почему же об этом вы не говорите открыто, на собраниях? — запальчиво и резко спросил он.
— Видите ли, — Сташевский замялся, покосился глазом на Алексея Никитича, — в политике приходится считаться с тем, что меры, направленные в конечном счете для народного блага, могут быть дурно истолкованы. Простым, неискушенным людям они покажутся... э-э... слишком узкими, эгоистичными. — Он покрутил пальцами в воздухе, будто сучил веревочку для повешения инакомыслящих. — Народ темен. Он легко поддается, если апеллируют не к его разуму, а к желудку. Мы своей агитацией должны парализовать грубые стороны человеческой природы. Нарисовать, так сказать, грядущие перспективы...
— То есть подсластить пилюлю. Вы это хотите сказать?
— Если угодно — да. Такова обязанность врача. Что делать, если больной отказывается от лекарства именно потому, что оно горькое.
— Это вы искренне?
— Вполне, — охотно подтвердил Сташевский и улыбнулся какой-то особенной, гадкой, подленькой улыбочкой.
— Значит, вы говорите не то, что думаете? Сознательно делаете это?
Лицо Саши от волнения покрылось красными пятнами; он сидел прямо на стуле и упорно глядел через стол на Сташевского.
— Ничего не попишешь, молодой человек, — лениво и равнодушно ответил тот, не замечая Сашиного состояния. Отпив из рюмки, он договорил: — Иначе что о нас люди скажут?
— Люди? — спросил Саша и медленно поднялся, комкая зажатый в руке край скатерти, не замечая, что посуда посыпалась на пол.
За столом мгновенно установилась тишина. Саша, однако, овладел собой, продолжал с уничтожающим сарказмом:
— Послушать вас — все вы прекрасные граждане, превосходные, замечательные люди. Я не согласен! Вы — никому не нужные, никчемные болтуны. Вы все ненавидите, презираете! Что вам высокие понятия, о которых вы так охотно говорите? Звук пустой! Вы даже друг друга стараетесь обмануть, надуть хотя бы в мелочах. Улыбаясь, вы прячете зависть и злобу. Считаете себя солью земли русской, тонким слоем носителей культуры. А сами — мертвы! Вы — грязная пена и мусор, носящиеся по воле ветра и волн, но воображаете себя деятелями истории. Ха-ха-ха! Какое самомнение! Эх вы, лакейские душонки! Подлость — единственное, на что вы еще способны.
— Послушайте, молодой человек, — перебил его Судаков. — Я уверен все же, что вы согласитесь со мной в одном и очень важном пункте.
— Нет, я с вами не соглашусь ни в чем, — резко оборвал Саша.
— Но я хотел бы... на правах знакомого.
— Я жалею, что знаком с вами!
— Ты замолчишь? Мальчишка! — сказал Левченко, угрожающе поднимаясь со стула.
— Прощайте! — Саша повернулся и быстрыми, твердыми шагами вышел из комнаты.
Алексей Никитич с треском отодвинул стул, ни на кого не глядя, пошел вслед за сыном.
— Александр, ты, конечно, понимаешь, что я больше не намерен терпеть это в своем доме? — суровым голосом сказал он.
— Ну конечно, — Саша горько улыбнулся. — Что ж, не буду больше обременять тебя. Я решил уйти, — это лучший для всех нас выход из положения.
Что-то дрогнуло в лице Алексея Никитича. Соня, стоявшая в дверях, в отчаянии заломила руки. Саша посмотрел на отца смело и с вызовом.
— Вот ты как — уходишь? — помолчав, с недоброй усмешкой сказал Левченко.
Спокойный тон сына и раздражал и одновременно действовал отрезвляюще на Алексея Никитича. Он почувствовал себя обиженным. Раздражение и обида взяли верх.
— Я тебя не гоню. Но если ты уйдешь, ноги твоей тут больше быть не должно! — твердым, решительным тоном заявил Алексей Никитич и повернулся к сыну спиной.
— Хорошо, — коротко ответил Саша и стал собираться.
Соня не посмела вступиться за брата. На что мог бы отважиться человек с сильным характером, то было недоступно ей. Нерешительность и мягкосердечие мешали ей заявить твердо о своем мнении. Она не стала в чем-либо упрекать Сашу, сама помогла собрать вещи. Саша успокаивал сестру, как мог. Соня слушала его с поникшей головой; отныне она останется в доме одна. Но разве не ее долг заботиться об отце? Об этом ее просила умирающая мать. Нужно безропотно исполнять свои обязанности. Каждый дом держится на женщине.
Саша застегнул шинель, подтянул ремень потуже; привычно, одной рукой прикинул вес солдатского ранца (брать чемодан он наотрез отказался). Обнял сестру, поцеловал ее в обе щеки.
— Не горюй, Соня! Живы будем — не помрем. Если мне что-нибудь понадобится, я дам тебе знать! — У порога он обернулся, скользнул взглядом по комнате, ободряюще помахал сестре рукой.
Соня прильнула к стеклу, следила за ним, пока он ровным, неторопливым шагом шел через двор. Потом она бросилась на кровать, уткнула лицо в подушки и разрыдалась, громко всхлипывая.
За окном не скоро догорела вечерняя заря. Сгустились сумерки, черная тьма заполнила комнату, а Соня все лежала.
Окна се комнаты выходили в сад; сквозь черные голые ветви деревьев смотрели с вышины вечерние звезды.
За стеной слышались шаги Алексея Никитича.
Саша вышел за ворота отцовского дома и остановился. Как-то сложится теперь его жизнь? Ну что ж, он сам сжег за собой все мосты. Он тряхнул головой, как бы отгоняя прочь тревожащие его мысли, и бодро зашагал по улице, еще сам толком не зная, куда идти.
Не прошел Саша и полквартала, как кто-то быстрыми шагами догнал его, чья-то рука дружески опустилась на его плечо, и знакомый голос Савчука сказал:
— Здорово, Саша! Куда спешишь? — Иван Павлович умерил шаг и пошел в ногу с Сашей. — Да ты, брат, чем-то расстроен! Что случилось? С отцом не поладил?
Савчук оказал Саше важную услугу: он свел его с Демьяновым и посоветовал вступить в формировавшийся как раз отряд конной пограничной стражи. Они вместе прошли в здание милиции.
— Очень рад. Люди нам нужны, — сказал Демьянов, подходя к Саше и протягивая ему руку. — Раз Иван Павлович ручается, больше ничего не нужно. Вы в кавалерии служили? В пехоте? Но беда! Казаки вон природные конники, да половина из них контрабандисты. А в пограничной страже — это наихудший грех. Обращению с конем вас подучит Василий Ташлыков. Он мастак по этой части.
— Василия Максимовича я знаю, — сказал Саша.
— Тем лучше. Кстати, вы можете поместиться в комнате Ташлыкова — там свободная кровать, — заключил разговор Демьянов.
Василия Саша разыскал без труда, тот был дневальным. Трудно было признать в нем бывшего левченковского конюха: в фигуре его появились осанка, степенность; бороду он сбрил, оставив лишь густые усы, приобрел благодаря этому молодцеватость и казался моложе своих лет. Встретились они дружески. У Саши полегчало немного на душе.
Сменившись с дежурства, Ташлыков повел Сашу к себе на квартиру. Он прихватил котелок с едой. Дома у него был начатый полуштоф. Василий всячески показывал Саше, что рад ему, но в глубине души сам был смущен тем обстоятельством, что должен оказывать гостеприимство сыну своего бывшего хозяина. «Вот ведь как бывает на свете. И не подумаешь даже. Во сне не пригрезится», — рассуждал про себя Василий, отпирая дверь и пропуская Сашу вперед. Сбросив шинель, он сбегал за дровами, растопил печурку. Ладонью смахнул крошки со стола.
Саша присел на кровать и принялся разглядывать комнату. Колеблющийся свет свечного огарка еле озарял стены; было невозможно сейчас определить их цвет. Единственное окно пялилось в темноту. Стол качался, кровать поскрипывала, железные ребра сломанных пружин выпирали из-под тощего тюфяка. Впрочем, когда от печки пошло тепло, на конфорке запел чайник, а свеча, с которой Василий пальцами снял нагар, стала гореть ровнее и ярче, — новое жилище показалось Саше не таким уж плохим. Василий поровну разделил оставшееся вино. Они чокнулись и выпили за новую жизнь (обедать Саша отказался). Пока молодой Левченко предавался грустным размышлениям, Василий сидел против него за столом и с большим аппетитом ел сухую пшенную кашу, полученную на двоих. Изредка он посматривал на Сашу с одобряющей усмешкой.
— Папаша небось по-прежнему лютует?
— Да нет, меньше. Замкнулся в себе.
— Трудно Лексей Никитичу ломать свой характер, крутой он мужик. Ой, крутой! — без злобы сказал Василий и налил в кружку чаю. — А Софья Лексевна как, здорова?
— Здорова. Я бы из дому давно ушел, кабы не она. Жалко сестру. Хорошая она, добрая, — в голосе Саши зазвучала грустная нотка.
— Н-да... — раздумчиво протянул Василий, посмотрел на него и отставил кружку. Затем принялся рассказывать о преимуществах службы в корчемной страже.
— Дюже выгодное место было. Корчемные чины особняки себе в городе ставили. Самые завидные женихи считались. Да только теперь всех их по шапке, и нас на пост определили. Так-то, мил друг! Все меняется... — Он кочергой поворошил почерневшие угли в печке, прикрыл заслонку, докурил папиросу и сказал: — Ну, пора на боковую. Завтра рано вставать.
Но Саша еще долго ворочался с боку на бок: густой храп Ташлыкова мешал заснуть.
Со следующего дня жизнь Саши пошла таким стремительным ходом, что некогда стало грустить.
Хотя большая часть бойцов размещалась на частных квартирах, в отряде властвовал строгий военный распорядок. К семи утра всем полагалось быть в казарме. После завтрака шло распределение людей в наряды; с оставшимися командиры взводов проводили строевые занятия на прилегающем к казарме пустыре. Обедали в две смены, так как помещение столовой едва вмещало половину бойцов. Затем полагался часовой отдых — и занятия возобновлялись. В послеобеденные часы обычно проводились беседы по тактике борьбы с контрабандой, методике следствия или же на свободные общеобразовательные и политические темы. Лишь после вечерней поверки живущие вне казармы могли идти домой.
Саша втянулся в привычную лямку солдатской жизни. Ранний подъем, когда еще не брезжит рассвет, жесткие рамки дисциплины, постоянная забота об оружии, коне, которого он получил на третий день вступления в отряд, жизнь впроголодь, скрашенная соленой солдатской шуткой, — ему ли к этому привыкать! Больше всего хлопот доставлял Саше конь — серый рослый мерин, спокойный, но притом достаточно резвый. Коня ему порекомендовал Василий, сам ездивший на бывшем левченковском Нероне, возбуждавшем постоянную зависть у пограничников.
Как потом узнал Саша, их взводный хотел сперва забрать Нерона себе. Больно приглянулся ему конь с первого взгляда. Пользуясь командирской властью, он отвел все возражения Василия, но так и не сумел справиться с конем, не пожелавшим признать над собою волю чужого, незнакомого седока. Вылетев за какой-нибудь час дважды из седла, чертыхаясь, но и восхищаясь одновременно конем, взводный хмуро сказал Василию: «Экий черт!.. Стар я, видно. Ну, так и быть — владей!»
Нерон стоял в станке отдельно от остальных лошадей; он косил злым карим глазом на проходивших мимо дневальных и никого не подпускал к себе, кроме Ташлыкова. К лошадям он тоже относился с непонятной ревностью. Василию из-за него было много лишних хлопот, но он ни за что не променял бы Нерона на другого коня.
— Вот увидишь, — блестя помолодевшими глазами, говорил он Саше. — Нерон еще себя покажет. Такому коню цены нет.
Отобранного для Саши мерина Василий собственноручно перековал на все четыре ноги; попутно он объяснил молодому другу, как следует зачищать копыта коню, чтобы на них не образовалось трещин, и как надо вгонять ухнали. Работал он быстро, со сноровкой, не тревожил зря животное и умел подчинить его себе больше лаской, чем строгим окриком. Саша даже позавидовал Василию. А тот, угадав его мысли, сказал:
— Невелика мудрость. Научишься. Конь, брат, твою заботу видит и ценит, да только сказать не может — языка ему не дано.
Подковав мерина, Василий поставил его рядом со станком Нерона. И странное дело — оба коня сразу потянулись друг к другу, фыркнули негромко, обнюхались и морда к морде принялись теребить один и тот же клок сена.
— Ну, будут ходить в паре, ясное дело, — с облегчением сказал Василий и засмеялся. — Я же говорил тебе, конь все понимает, что его разумения касается. Все! — повторил он с убеждением.
Саша добродушно усмехнулся, но спорить не стал.
Отношения у них сложились так, что оба были довольны друг другом. Ташлыков больше не испытывал того чувства неловкости и связанности, которое было у него в первые дни. Саша повел себя так просто, искренне и дружелюбно, он был проникнут таким глубоким отвращением к жизни тех, от кого ушел, что Василий не мог не оценить этого. «Вот ведь как бывает», — сказал он себе, как в первый вечер, но уже с другим значением.
Василий знал жизнь не только с ее показной, поверхностной стороны, — знал и ее подоплеку. По складу ума он был склонен к философствованию и не раз поражал Сашу верностью и меткостью своих суждений. Саше было приятно, что такой положительный, бывалый человек стал его другом. В свою очередь Василий относился к Саше с той сердечной теплотой, какой пожилые одинокие люди редко кого одаривают.
Ташлыков был скуп на слова. Но иногда его будто прорывало, и тогда в темноте над его кроватью долго сновал красноватый огонек цигарки.
— Люди жить хотят, жить по-человечески, а тут их уговаривают: потерпите, мол, еще... Да до каких пор терпеть? Через то и отвернулся народ от эсеров, — говорил он своим глуховатым густым голосом. — Нагляделся я в доме вашего папаши на них вдосталь. Словами сыпят, как шелухой, и цена им та же — ломаный грош. А я вот не хочу дольше терпеть. Не хочу, и баста! Когда тебя сожмут, так норовишь расправиться, повести свободно плечом. Я себя теперь так понимаю, будто вывели меня на широкую, прямую дорогу. Иди, брат, говорят. Шагай навстречу заре прекрасной!
Саша лежал с открытыми глазами, глядел в потолок, думал, как, в сущности, схожи мысли Василия с его собственными. В такие минуты весь русский народ представлялся ему богатырем, порвавшим свои оковы. Ощущение было почти зримым, и сердце у Саши замирало от восторга. Он тоже чувствовал себя сильным и смелым.
— Раз человек стал думать, то до правды докопается. Быть иначе не может, — продолжал Василий.
«Да-да-а, — мысленно вторил Саша. — Вот и я ошибался. Но все-таки нашел свое место. Очень верно Василий это выразил. Ему бы образование. А сколько в народе скрытых талантов? Сколько?» — Глаза у Саши слипались, но он усилием воли прогнал сон, приподнялся, опершись на локоть.
— Учиться вам надо, Василий Максимович, — сказал он не совсем впопад, однако искренне.
— А кто о том прежде думал, чтобы нас учить?.. — помедлив, ответил Василий. — Прошло, парень, мое время.
— Нет, нет. Что вы! — горячо возразил Саша. — Да я вам помогу! — продолжал он, обрадованный тем, что может сделать нечто полезное для Василия. — Через месяц вы будете читать.
— Хотя бы через три, — Василий усмехнулся, не веря ни в серьезность Сашиного намерения, ни тем более в свою способность быстро овладеть грамотой.
— Вот увидите, через месяц! — убежденно настаивал Саша.
Он действительно с рвением принялся за дело. Обучать пришлось не только Василия: в отряде неграмотных оказалось человек десять. Занятия сблизили Сашу с бойцами. Нехватка педагогического опыта у него с лихвой окупалась редкостным прилежанием слушателей. Почти все они были люди пожилые, грамота давалась им нелегко. Надо было видеть, как они вырисовывали буквы негнущимися, заскорузлыми пальцами. Но все-таки продвигались вперед и вскоре начали читать по слогам.
Как-то ночью, когда Саша был дежурным, в казарму зашел Демьянов. Саша отдал рапорт. Демьянов посмотрел на длинный ряд коек. Бойцы спали. В дальнем углу кто-то звучно храпел.
— Подъем? — спросил Саша, перехватив взгляд Демьянова.
— Нет. Не надо, — так же тихо сказал Демьянов. Он чуть подбавил огня в лампе и сел за стол. — Садитесь, товарищ Левченко.
Свет падал прямо на лицо комиссара, вид у него был усталый.
— Вы знали старшего милиционера Силантьева? — спросил Демьянов.
— Да, знаю. Он учится в группе малограмотных. Очень способный человек. — Саша не обратил внимания на то, что комиссар почему-то упомянул о Силантьеве в прошедшем временя.
— Люди тянутся к свету, дело естественное, — сказал Демьянов. — Очень хорошо, что вы взялись учить бойцов грамоте... Что касается Силантьева, то его убили час назад на квартире.
— Уби-или? — Саша ахнул и растерянно посмотрел на Демьянова.
— Осталось четверо малышей. Жена год назад умерла после родов. Значит, круглые сироты, — с горечью и болью продолжал комиссар. — Детишек, конечно, пристроим. Советская власть о них позаботится. — Демьянов сжал кулак и поднял его над столом: — К сожалению, убийца не задержан. Он, вероятно, был не один. Но нас больше. Мы — народ. И нас нельзя истребить, нельзя запугать. Однако и нам урок. Надо научиться хватать мерзавцев за руку.
— Нелегко это, товарищ комиссар!
— А я разве говорю — легко? Я говорю — надо. — Демьянов усмехнулся. — Раз поставили нас к милицейскому делу, с нас и спросят. — Темные глаза его смотрели на Сашу по-прежнему открыто и прямо. — Скажите, кто был особенно близок с Силантьевым?
— Пожалуй, Ташлыков, — ответил Саша.
— Пошлите за ним. Пусть идет на квартиру к Силантьевым, — распорядился Демьянов. Сестра его там, дети... А ему всю голову размозжили выстрелами в упор. Ужас какой! — Демьянов отвернулся, махнул рукой и пошел к выходу.
...Силантьева хоронили на следующий день. Порошил снег. Холодный ветер метался по улицам. За гробом, кроме эскорта красногвардейцев и милиционеров, двигалась внушительная процессия. На траурном митинге выступали представители профсоюзов. Оркестровой медью зазвучал похоронный марш. Рванул сухой морозный воздух прощальный залп, и все разошлись.
Бывает, что под действием сильного впечатления человек в короткий миг постигает вещи, на понимание которых в других обстоятельствах ему понадобились бы месяцы и годы. Нечто подобное произошло и с Сашей, когда у разверзнутой могилы он увидел испуганно-недоумевающие лица детей Силантьева, услышал отчаянный крик его сестры при звуке удара первого кома мерзлой земли по крышке гроба. Со всей очевидностью представилась ему суровая беспощадность борьбы, начатой народом против угнетателей. Поздно вечером Саша вернулся к себе на квартиру.
Снег перестал, ветер унялся, и небо к ночи прояснилось. В окно смотрелись звезды и четвертушка луны. Луна казалась холодной и безучастной, что так не вязалось с настроением Саши. Он не стал зажигать лампу, лег, но долго еще не мог смежить глаз. А когда он уже начал подремывать, вернулся Василий.
— Не спишь? — спросил он, заметив, как Саша вскинул голову. — А я, брат, чаю хочу. Да и печь протопить не мешает. К утру ждать мороза.
Саша догадывался, что Ташлыков провел вечер у Силантьевых. Ему хотелось расспросить поподробнее об этой семье, однако что-то помешало задать вопрос. А Василий сегодня не был склонен к разговорам.
Пока грелся чайник, Саша попытался нарисовать себе ту тягостную картину, какую представляла квартира Силантьева. В его ушах зазвучала спокойная, рассудительная речь Ташлыкова; кто мог бы еще такими простыми словами выразить сочувствие, утешить горе?
На самом деле Василий за весь вечер не сказал и двух слов. Он только взглянул на молча хлопотавшую у плиты пожилую женщину — сестру убитого товарища, на ребятишек, сгрудившихся на неубранной кровати, вздохнул и вышел. В сенях он снял с гвоздя пилу, которую сам же недавно наточил, собираясь помочь Силантьеву распилить на дрова лиственничные бревна, без всякой пользы лежащие у забора. Одному управляться с работой было, конечно, труднее. Однако Василий приспособился. Одно за другим он выкатил бревна на середину двора. Вскоре белый истоптанный снег покрылся ржавым налетом опилок, приятно запахло древесной смолой.
Василий работал, не обращая внимания на наступившую темноту, работал с ожесточением. Груда распиленных чурок росла и росла. Когда над крышей соседнего дома поднялась луна, Ташлыков взялся за топор. Вокруг со звоном разлетались пахучие смолистые поленья. Под горячими пальцами таял снег.
Хозяйка дважды выходила на крыльцо. Наконец свет в доме погас. Василий аккуратно сложил дрова в длинную поленницу, бросил сверху топор, пилу и пошел со двора.
Он устал и проголодался.
Василий попивал чай с таким удовольствием, что Саша не выдержал и тоже присоединился к нему.
— Такое, парень, деется на свете, что и во сне не снилось. Одни люди стали хуже гадюк, другим тех гадюк истреблять надо, иначе жизни народу нету, — заговорил наконец Василий, впадая в обычное для него философствование. — А в общем — целый кавардак! Не сразу поймешь — кто за кого и чего добивается, — заключил он, помолчал и продолжал раздумчиво и тихо: — Жизнь меняется, вот в чем причина. Время летит соколом. Каждому надо думать, куда пристать, — иначе посередке затопчут. Да. — Он хотел задуть лампу, посмотрел на часы-ходики и удивился: — Однако, парень, ложиться нам некогда. Утро!
Алексей Никитич не ожидал такого быстрого разрыва с сыном: слишком много значил для него Саша теперь, когда все явственнее ощущалось приближение старости и когда все вокруг так заколебалось. Левченко стал чаще обращаться мыслями к семье: ему хотелось устроить судьбу своих детей так, чтобы бедствия меньше отразились на них. Не раз он сопоставлял сына и дочь; в Саше Алексей Никитич угадывал твердость характера, и это радовало его, так как людей безвольных, бесхарактерных он не любил и презирал. Соня, по мнению отца, такого рода данными не обладала, но Левченко это особенно не тревожило, — став взрослыми, дочери выходят замуж, дело, следовательно, заключалось в том, чтобы подобрать подходящего жениха. Покойница жена — мать Сони — тоже не отличалась сильной волей, но прожили они жизнь не так уж плохо. Безропотность дочери в глазах Алексея Никитича являлась качеством скорее положительным. Иное дело — сын: он призван продолжать дело отца. Ему предстоит грудью встречать жизненные невзгоды. А Саша был не из тех, кто клонится под ветром. Левченко втайне гордился сыном. Кто знает, сколько честолюбивых замыслов было связано у него с Сашей?
Но была и другая сторона в отношении Алексея Никитича к детям; прочности и нерушимости семьи ему особенно хотелось потому, что ее можно было бы противопоставить тому неустройству и хаосу, который, по мнению Левченко, происходил вне дома. Он как бы потерял точку опоры и лихорадочно искал, за что теперь уцепиться, чтобы самому устоять перед бурей. Левченко видел только разрушения, будущее представлялось ему в мрачном, черном цвете. Но он знал также, что люди не могут жить, не производя средств своего существования; следовательно, рассуждал он, все постепенно затихнет, уляжется, войдет опять в привычное русло. Надо только переждать и не высовывать зря голову. Семья и представлялась ему таким убежищем.
При своем тяжелом характере Алексей Никитич сделал больше, чем мог, чтобы отдалить разрыв. Но когда Саша все-таки ушел, гнев охватил Алексея Никитича — и гнев не столько на сына, сколько на людей, которые совратили Сашу. Он сказал себе, что должен вычеркнуть имя сына из своей памяти (как будто это можно было сделать!). До глубокой ночи он мерил шагами кабинет. Ходил, пока не устал, и тогда, не снимая пиджака, повалился на диван. Алексей Никитич в конце концов отдал себе отчет в том, что нельзя попросту отмахнуться от революции, отгородиться от нее стенами или повернуться спиной и закрыть глаза. Нет! Она приходит в ваш собственный дом и властно ставит перед вами все тот же неизменный вопрос: с кем вы идете? Отвертеться от ответа нельзя. Но что ответить?..
То обстоятельство, что его сын открыто перешел на сторону революции, необычайно осложнило для Алексея Никитича его собственное отношение к ней; с одной стороны, он стал еще более ожесточенным и непримиримым (и в мыслях, и в речах, и в поступках), к этому Алексея Никитича толкали его связи, его положение, воспитание, наконец, привычки: но, с другой стороны, он уже не мог отделаться от тревожащего совесть вопроса: «Что повлекло Сашу к ним? Почему?»
Как ни покажется странным, но именно сейчас Алексей Никитич понял, как глубоко он любит сына. Он опасался, как бы они не оказались в противоположных лагерях, — теперь это случилось. Они — враги. «Что ж, об этом полезно помнить! Может случиться, что собственный сын поведет меня на расстрел. Я дал ему жизнь, он — отнимет мою. Вот благодарность! Вот плоды революции... — с горечью думал Левченко. Он уже знал, где устроился на службу Саша. — Но все-таки... с кем идти? — И, задавая себе в который раз этот вопрос, Алексей Никитич смутно, но все же понимал, что дело тут не только в сыне. — Да, конечно так! — ответил он после долгого раздумья. — Я люблю Россию, и потому я против большевиков. Я против них, хотя с ними мой сын. Мы — враги».
Алексей Никитич по натуре был человек деятельный. Безделье томило его. Акционерное общество фактически уже не владело прииском. После отказа Левченко завозить продовольствие на Незаметный за это дело взялась Продовольственная управа. Прииск продолжал держаться. Левченко отозвал управляющего и техников, выплатив им за полгода вперед жалованье. Ремонт драги не производился. Но по слухам, доходившим сюда, приисковый комитет намеревался с весны развернуть добычу золота старательским способом. Говорили, что произведено новое распределение участков между старательскими артелями. До сих пор администрация прииска предоставляла старателям участки со средним или невысоким содержанием золота, приберегая наиболее перспективные из них для себя. Сейчас старатели добились перевода их на самые золотоносные деляны. Помешать этому Алексей Никитич, конечно, не мог.
Помаявшись без дела неделю-другую, Левченко вспомнил об отложенной из-за отсутствия досуга научной работе о рудных и россыпных месторождениях золота на Дальнем Востоке. Он достал из шкафа папки с накопленными материалами, полистал пыльные страницы, припомнил интересные мысли, приходившие ранее в голову в связи с этим трудом, окинул еще раз взором общий план книги — широкий, с большими обобщениями — и... увлекся.
Работал он подолгу. Что могло быть интереснее чудесного процесса, когда человеческая мысль, сопоставляя факты, пробирается среди них, как в лабиринте, ищет проявления общих законов и вдруг, точно озаренная светом, постигает скрытую до этого связь явлений! Левченко мог сидеть часами и не чувствовать усталости.
Мешал шум в гостиной. В дом сходились гости, болтали, спорили. Алексей Никитич крепился, потом с досадой откладывал работу. Ему не казалось странным, если у себя за столом он вдруг обнаруживал совершенно незнакомых людей.
Один из таких новичков — громадный растрепанный человек с рыжими запущенными бакенбардами, в светлом костюме, залитом вином, — держал Чукина за борт пиджака и угрюмо жаловался:
— Ты пойми, время какое — вся жизнь рушится. Для чего жил? Куда богатство ушло? Кто я теперь? Собака бездомная. — Он наклонился к столу и заплакал пьяными обильными слезами. — Грабители! Душегубы!.. Подумать только... в центре Москвы — собственный дом. Дворец!..
— Экой ты, брат, малодушный! — Чукин брезгливо поморщился, высвободил лацкан пиджака из его рук. — Не робей, воробей, — скоро зерно сыпать будут. В Томске, слышь, образовалось автономное сибирское правительство. Дербер какой-то. А должно быть, человек с башкой. Додумался. На наш век тут добра хватит, — утешил пьяного Чукин, хлопнув его панибратски по плечу.
Окинув присутствующих прищуренным взглядом, он достал из кармана свежую колоду карт.
— Что ж, в картишки перекинемся, а? — и начал быстро тасовать карты. — Между прочим, из забастовки служащих ни хрена не получается. Как в совдепе пригрозили увольнением, вернулись на работу. Жидка наша интеллигенция, прах ее побери!..
— Н-да!.. Умные больно все стали. — Бурмин откинулся назад и, скосив глаза, попытался заглянуть в карты соседа. — Будили самосознание свободной личности. А разбудили — зверя... Пуришкевича Владимира Митрофановича ревтребунал в Петрограде приговорил к четырем годам общественных принудительных работ. Каково, а?.. Пуришкевича!.. Кстати, Алексей Никитич, от верного человека слышал, — продолжал он, обернувшись к Левченко и приятно улыбаясь ему. — Посылают на твой прииск комиссара. Будет он там принимать намытое золотишко. Выходит, остаетесь вы, милый друг, при пиковом интересе...
Из японского консульства принесли приглашение на банкет по случаю какого-то национального праздника. Алексей Никитич повертел перед глазами красиво отпечатанный билет с золотым тиснением. «Победу под Мукденом отмечают, что ли? Нет, Мукден был в начале марта. Что-то другое, — и неожиданно решил: — Пойду».
Окна особняка на Лисуновской, где размещалось консульство, плотно прикрыты шторами. Только узкие полоски света пробивались наружу.
Секретарь консула — маленький, изящно одетый японец — встречал гостей на лестнице и провожал до дверей приемной. Двух-трех человек, в том числе и Алексея Никитича, Бурмина, он провел этажом выше в личные апартаменты консула.
Там на низкой тахте сидел Мавлютин и старательно опиливал ногти металлической пилочкой. Левченко нисколько не удивился, встретив его здесь.
Мавлютин похудел и осунулся. Скулы на его лице выдавались еще больше. К тому же у него разыгралась печень, он пожелтел и стал даже внешне походить на японца. А когда Мавлютин заговорил, Левченко понял, что приходить сюда не следовало.
— Вы же знаете, какое событие они сегодня отмечают — падение Порт-Артура. Но я без горечи встречаю этот день, господа, — веселым тоном говорил полковник, продолжая опиливать ногти. — Конечно, мы были врагами, дрались, ненавидели, но теперь — они первыми протянули нам руку.
— Зачем? — резко спросил Левченко.
— Руку помощи. Разве мы в ней не нуждаемся? — Мавлютин поднял голову и внимательно посмотрел на насупившегося Алексея Никитича, на Бурмина, безмятежно сиявшего лысиной.
— Но согласитесь, что бестактно устраивать торжество по такому поводу здесь и звать нас.
— Однако вы пришли! — Мавлютин нехорошо усмехнулся. — Ах, господа интеллигенты! Странные вы люди... Вы хотите по утрам получать кофе со сдобной булочкой? Конечно, хотите! Так не все ли равно вам — от кого придет помощь?
Бурмин слушал сочувственно. Откинув назад лысую массивную голову, он пялил глаза на стену, разглядывая изображение рыбака в соломенной шляпе, с удочкой. Хозяйственные дела Бурмина все более запутывались. Злобные речи Мавлютина были ему по душе.
— А вы слышали, господа, о новом указе священного синода? — спросил он. — Предписано: в первый день рождества молебна об изгнании из России «галлов и двунадесяти язык» не производить. Да-с! Симптоматично...
Левченко переводил суровый взор с одного на другого и хмурился все более. Подошел рыжий консульский пес, торкнулся влажным носом в его руку, лизнул языком. Алексей Никитич с неожиданным озлоблением больно щелкнул его пальцем по носу, пес взвизгнул и отскочил, потом принялся ожесточенно лаять на обидчика. На лай пришел консул, толстый, приземистый японец, тут же заулыбался и стал извиняться перед ними. Произошла небольшая задержка. Он просит их подождать еще десять минут. Что именно случилось, понять было невозможно: консул прескверно говорил по-русски. Он ушел, а вслед за ним убралась и собака.
Алексей Никитич вышел на лестницу. На верхней площадке он носом к носу столкнулся со Сташевским. Тот, держа в руках небольшой фибровый чемодан, шептался о чем-то с консулом. Заметив Левченко, он страшно смутился.
— И вы на банкет? — не замечая его смущения, спросил Алексей Никитич.
— Нет, я по делу. Есть надобность, — сухо ответил Сташевский, пряча чемоданчик у себя за спиной. — Надеюсь, господин консул, все останется между нами, — продолжал он, обращаясь к японцу. Тот протянул руку и взял чемодан. Чемодан был крест-накрест перевязан белым шнуром, и по бокам его свисали большие сургучные печати. — Двести пятьдесят тысяч, господин консул, — сказал Сташевский и сделал такое движение, будто намеревался забрать чемодан обратно. Японец отодвинулся.
— Я буду похранить у себя порной сохранности, — сказал он, сильно напирая на букву «р», ногой открыл дверь позади себя и, не переставая улыбаться, пятясь, скрылся за дверью.
Сташевский поднял воротник, спрятал лицо. Он был не в обычной форменной шинели, а в просторном пальто свободного покроя.
— Прощайте! — глухим голосом сказал он Алексею Никитичу.
— Погодите, я тоже иду с вами.
Алексей Никитич попросил шубу у швейцара. Кто-то сбегал вниз по лестнице. Левченко не стал дожидаться, толкнул дверь и вышел на бодрящий морозный воздух.
Сташевский, пыхтя, поспешил за ним.
— Вы, конечно, не станете меня осуждать. Я отдал консулу на сохранение двести пятьдесят тысяч почтовых денег. Будет хуже, если большевики их растранжирят, — сказал он перед тем, как распрощаться.
Алексей Никитич молча протянул ему руку.
В характере Мавлютина одной из преобладающих черт было честолюбие. Оно, как потайная, туго заведенная пружина, двигало его, подталкивало на те или иные поступки.
«Я не такой человек, как все, я — лучше», — сказал он себе однажды еще гимназистом. Это убеждение своей исключительности, раз появившись, со временем только усиливалось.
Сидя взаперти в здании японского консульства, Мавлютин с раздражением думал о тех, кто свободно ходил по улицам. Отогнув край занавески, он часами стоял у окна, смотрел на спешащих куда-то пешеходов, но ни разу не улыбнулся ни хорошенькому женскому лицу, ни невинной ребячьей шалости. В такие минуты он с особым удовольствием предавался мстительным мыслям.
В консульстве Мавлютина зачислили на должность драгомана — переводчика, хотя он не знал ни слова по-японски. Ему выдали официальное удостоверение личности, как сотруднику, но посоветовали не выходить за пределы двора. Охоты к этому у Мавлютина, признаться, и не было.
Хасимото частенько захаживал в консульство. Покончив с делами у консула, он приходил к Мавлютину, и они коротали время в разговорах.
На матово-желтом лице японца лежало выражение учтивости и сочувствия. Он так искусно перескакивал с одного предмета на другой, что Мавлютин порою терялся в догадках, не зная, к чему тот клонит. Впрочем он вскоре сообразил, что японец прощупывает его настроение, и не стал таиться перед ним.
— Я самолюбив. Незаметно жить — не в моем вкусе, — откровенно признался он как-то. — Приятнее чувствовать себя тигром, чем зайцем.
— О да! — убежденно сказал Хасимото. И посоветовал: — Вы, пожалуйста, не теряйте связи с друзьями. Никто здесь не станет возражать, если вас придут проведать. Мы хотим, чтобы вы жили удобно, как дома.
Гостей к Мавлютину приходило немало. Тогда уже сам консул без обиняков спросил:
— Деньги над-до?
— Деньги и оружие, — лаконично ответил Мавлютин.
— О, хоросё! Оцень хоросё... японская винтовка «Арисака»? — Консул быстро зацокал языком.
— Нужны пулеметы и орудия, — поправил Мавлютин. — Сейчас не время крохоборничать. Иначе нам опять дадут по шапке.
— Шапка не надо, скоро лет-то, — сказал консул, довольный своим знанием русского языка, позволяющим обходиться без переводчика. Он придерживался правила: чем меньше людей посвящено в дела, тем лучше. — Вы — солдат, я — солдат. Оцень хоросё!..
Невысокий и коренастый, консул сильно располнел. Желтое скуластое лицо его почти всегда улыбалось, вокруг глазных щелочек при этом собирались веселые морщинки, но черные глаза глядели холодно. Мягкая вкрадчивость движений, редкие усики с сединой, воркующая речь делали его похожим на гладкого откормленного кота. Разговаривая, он временами закрывал глаза, будто дремал, но на самом деле ни одно сказанное слово не ускользало от его внимания.
У себя дома консул предпочитал европейской одежде просторное кимоно и мягкие дзори. Из-за этой его привычки в консульстве неимоверно жарко топили, а вдоль стен и на окнах ставили длинные корытца с водой, чтобы увлажнять сухой воздух. В личных апартаментах консула на полу были настланы толстые маты из рисовой соломы. Входя туда, нужно было снимать сапоги.
Мебель в консульстве была иранская, низкая, неудобная для Мавлютина. Поражало обилие всяких ширмочек, статуэток, лакированных ящичков, картин на шелке, изображавших диковинные деревья и цапель или морские сюжеты.
Консул легко и уверенно двигался среди многочисленных вещей, чувствовал себя хозяином.
— Орудия хоросё! — восклицал он, похлопывая себя по бедрам. — Я буду спросить Токио.
Хасимото часто заводил разговор о политике держав на Дальнем Востоке.
— О, эти американцы! Очень хитрый народ. Надо хорошенько подумать, прежде чем впустить их в дом. Вы посмотрите, сколько дельцов нахлынуло сюда из Соединенных Штатов, — говорил он, рассеянно посматривая по сторонам. — В Японии, однако, лучше понимают ваши интересы. Мы — соседи. В конце концов проще самим урегулировать спорные вопросы. Скажу откровенно: нам не очень нравится, когда кто-то у нас за спиной начинает точить нож. Американцы собираются убить двух зайцев сразу. Следовательно, мы должны действовать совместно. Забудем былые распри, и протянем друг другу руки. В другой раз он говорил:
— Вы должны понять. Для императорского правительства сложнейшая проблема — занять и прокормить людей. Японцы плодовитый народ. Мы ловим рыбу в ваших водах, рубим ваш лес. — Хасимото вздыхал и спрашивал: — Разве ввиду этого мы не обязаны позаботиться о надлежащих гарантиях?
— Разумеется, — поддакнул Мавлютин.
— Представьте себе, некоторые политические деятели придерживаются той точки зрения, что земли до Байкала должны стать протекторатом Японии, — продолжал беззаботно болтать Хасимото. — Но это крайность. Можно найти и другие формы...
— Идея протектората встретит много противников, — осторожно заметил Мавлютин.
Хасимото тотчас же согласился с ним.
— Я тоже так думаю. Особенно здесь, на Дальнем Востоке. Отголоски былой вражды. Но согласитесь, обстановка изменилась. Что сейчас для вас явится меньшим злом? Дилемма, не правда ли? — сказал он и сделал жест, означающий, что его самого эта дилемма мало занимает. Пройдя в глубину комнаты, Хасимото остановился перед стоявшей там вазой. — Отлично сделанная вещь! — и он легонько щелкнул по вазе пальцем. — У художника есть декоративное чутье. Но лаковые изделия у нас даже превосходят керамику. Вот неплохой образец. — Он повернулся с четкостью воспитанника военной академии и взял со стола небольшую, темного лака шкатулку. — Обратите внимание на тонкий штрих рисунка. Вот эти линии! Красиво, и чувствуется стиль. Видна рука настоящего киотского мастера. О, Киото!.. Из всех городов Японии — это самый японский город. Живая летопись нашей истории.
И Хасимото со знанием дела заговорил о работах японских художников-графиков Харунобу и Хокусаи, о различиях в стиле их рисунка, о новых веяниях в японской живописи и архитектуре.
— Перед нашими художниками сложная задача: сочетать традиционную японскую манеру изображения и тенденции европейского реализма. Необычайно трудная проблема. — Хасимото делал вид, что не замечает скучающего вида собеседника. — Национальный дух народа Ямато и его проявления настолько своеобразны, оригинальны, что постичь их возвышенный характер с точки зрения новых европейских философских течений просто невозможно. Механическое перенесение европейского реализма на японскую почву принесет непоправимый вред. Все возникает и умирает. Распространение таких взглядов опасно. Оно может поколебать веру японцев в божественное происхождение императорской власти. Я лично в вопросах искусства — приверженец старины. Романтик, если хотите...
«Рома-антик!.. Губа не дура, — с усмешкой подумал Мавлютин. Он отлично понимал, что в их разговоре является главным, а что — отвлеченными рассуждениям». Проблемы искусства нисколько не занимали его. — Дилемма, черт возьми! — рассуждал полковник, краем уха прислушиваясь к словам японца. — А что нам остается делать?» — ход его мыслей шел как раз по тому руслу, которое прокладывал Хасимото.
Обоих их очень занимал предстоящий вскоре в Имане Войсковой круг уссурийских казаков, где должны были избрать войскового атамана.
Не высказываясь пока ни перед кем открыто, Мавлютин исподволь подготовлял выдвижение своей кандидатуры. Пост войскового атамана был заманчивым и желанным. Но и охотников на это место нашлось немало. Пока Мавлютин заботился о том, чтобы уравнять шансы вероятных кандидатов я не дать кому-либо из них достичь перевеса.
Хасимото я консул были в курсе предвыборных махинаций; судя по всему, они к его планам относились сочувственно.
Мавлютин решил начистоту объясниться с консулом. Откладывать дальше было нельзя: съезд в Имане приближался.
Разговор начался с пустяков. Хасимото рассказывал, что на улице потеплело, видно скоро весна. Консул сидел развалившись на низком диванчике, кивал головой.
— Будут еще морозы. Климат здесь переменчив, — сказал Мавлютин и заговорил о подготовке к Войсковому кругу. Станичные и поселковые атаманы оказались на высоте. Выборы прошли гладко. Интересы дела, однако, требуют его поездки в Иман.
— Оцень хоросё! — сказал консул и зажмурился. — Надо ехать.
За стеклами очков в роговой оправе — узкие щелочки глаз, быстро бегающие черные зрачки. Уловить их выражение Мавлютину никак не удавалось: они все время в движении, все ускользают.
— Приятно, что вы сочли нужным информировать нас о проделанной работе. Консул высоко ценит ваше доверие, — вежливо и почтительно сказал Хасимото. — Нам хотелось бы испросить вашего совета: что вы скажете о выставленных кандидатах? Ваше личное мнение хотелось знать.
Сердце у Мавлютина заколотилось. Он бросил быстрый взгляд на японцев. Консул по-прежнему кивал головой, Прикрыв глаза. Хасимото неопределенно улыбался.
— Я думаю, что ни один из кандидатов не соответствует такому важному посту, — четко и громко сказал Мавлютин. — Не думаю, чтобы кто-нибудь из них собрал хотя бы половину требующихся голосов. Нужен новый, бесспорный кандидат.
В глазах Хасимото мелькнуло нечто похожее на любопытство: он неплохо читал в душе Мавлютина. Консул что-то сказал по-японски и засмеялся.
— Да, вы правы. Нужен новый кандидат, — подтвердил Хасимото. — Что вы скажете относительно есаула Калмыкова? — и он ожидающе уставился на Мавлютина.
— Но он совершенное ничтожество! — воскликнул полковник.
Мавлютин встречал Калмыкова в Петрограде, когда тот вместе с есаулом Семеновым и другими казачьими офицерами был вызван Керенским для инструктажа по организации на местах антибольшевистских казачьих отрядов. Калмыков и Семенов выехали на Дальний Восток, опередив на несколько месяцев Мавлютина. То, что слышал Мавлютин о Калмыкове здесь, затмевало его скандальные петроградские похождения.
Хасимото тоже знал, с кем имеет дело. Он улыбнулся и с циничной прямотой подтвердил:
— Вы правы. Но у него твердая рука, а это сейчас лучшее качество. При атамане может быть умный советник, — и он опять посмотрел на Мавлютина.
«Советник — это я», — понял Мавлютин. Такой оборот его мало устраивал. Но вопрос, видимо, уже решен.
Консул открыл глаза и тоже пристально посмотрел на Мавлютина.
— Ладно, — после долгого молчания сказал Мавлютин хриплым голосом. — Но понадобятся деньги.
— Денег вы получите достаточно. Двести пятьдесят тысяч... в русской валюте. Консул как раз имеет в своем распоряжении такую сумму. Расходуйте вы эти средства по своему усмотрению.
— Тогда дайте хотя бы тысяч десять иенами, — сказал Мавлютин.
Они поторговались и сошлись на пяти тысячах.
Консул пригласил Мавлютина в свой кабинет. Полковник кряхтя принялся стаскивать сапоги, проклиная в душе японские обычаи и японскую политику.
Ночь в больничной палате беспокойная; тревожный, нездоровый сон больных часто прерывался стонами.
В воздухе держался стойкий запах лекарств.
За стеной бредила женщина, кого-то звала. Бубнил уговаривающий голос няни.
В конце коридора зазвонил колокольчик: его чистый, ясный звук легко проник сквозь стены, забрался под одеяло к Тебенькову. Архип Мартынович вскочил, как вскакивал дома при звоне будильника; кровать под ним тяжело заскрипела.
— Что?.. Болит? — участливо, слабым голосом спросил сосед, и Тебеньков услышал, как он шарил впотьмах рукой по тумбочке, разыскивая спички. — Огонь зажечь?
— Не надо, — сообразив наконец, где он находится, ответил Архип Мартынович. Он вытянулся опять в кровати, до самого носа натянул тоненькое, прохудившееся одеяло.
В окно палаты смотрела темная ночь. Одиноко мерцала далекая звезда. Гудел над крышей ветер.
— Теперь-то хоть тепло. Как большевики установились — сразу дров привезли. А прежде ужас, что было... За ночь, поверите, воду в стаканах ледком прихватывало. Лежали с воспалением легких. Представляете... — чуть слышно журчал сосед.
Тебеньков охотно придушил бы подушкой этот слабый голосок, чтобы он умолк навсегда. Его разбирала злость оттого, что безнадежно больной, обреченный на смерть человек, страдающий каким-то хроническим заболеванием сердца, радуется, как дитя, происшедшим в стране переменам и без конца говорит об этом с тихой, ясной улыбкой праведника на худом лице, высохшем от старости и болезни.
У соседа бессонница; он лежал тихо, покорно, с открытыми глазами и думал о чем-то, а днем — улыбался. Тебеньков за три недели пребывания в палате не помнил случая, чтобы хоть раз видел его спящим. Всегда с живейшим интересом он следил недремлющим оком за каждым движением в палате. Тебеньков порою начинал с раздражением думать, что соседа нарочно приставили к нему для неотступного наблюдения.
Другие больные тоже казались ему одержимыми. Не успевал человек, поступивший в палату, покончить с охами-вздохами, как уже торопился рассказать о чем-нибудь таком, от чего у Архипа Мартыновича на душе становилось еще более муторно. Было просто поразительно, как их всех тут радовало то, чему он, Тебеньков, противился всеми силами. И это наводило его на грустные размышления.
В палате Тебеньков чувствовал себя белой вороной, нечаянно попавшей в чужую стаю. Он, разумеется, поостерегся высказывать здесь свои взгляды. Даже прикрывался иногда фальшивой улыбочкой, притворным сочувствием. А чаще — с тоской глядел за окно на желтовато-белые столбы дыма над крышами, горестно вздыхал.
Ночь тянулась медленно, Архип Мартынович ворочался с боку на бок, но уснуть больше не мог. Угрюмо думал о хозяйстве, о новом подряде на поставку дров железной дороге, договор на который он не успел подписать, поспешив с Кауровым за легкой добычей. Все обернулось не так, как думалось. И сам он застрял в этой дурацкой палате!
В тот день, когда остатки сколоченного Кауровым казачьего отряда разбрелись кто куда, Архип Мартынович с сыном все-таки пробрались в город. Разведав, что план переворота провалился, Варсонофий скрылся. Он едва успел шепнуть отцу адрес.
Архип Мартынович зашел к Чукину посоветоваться; оба напились в стельку.
Среди ночи Тебенькова и хватили колики в боку, да так, что не только хмель выскочил — глаза на лоб полезли. Как началась боль в правом подреберье, резануло в животе, перекинулось в правое плечо да под лопатку — так и взвыл Архип Мартынович, заскулил, как больно побитый щенок, схватился за живот и пошел кататься по шкуре белого медведя, лежавшей возле дивана.
Чужая боль не болит. Чукин стоял над ним, хохотал, пьяно удивлялся: «Эк, тебя корчит! Умора глядеть...» У Архипа Мартыновича от обиды даже слезы из глаз брызнули. Пнул он в сердцах Чукина ногой и завыл пуще прежнего, рвал желчью, отплевывался.
Чукин от удара протрезвился, сообразил, что дело неладно, — послал за извозчиком. Завернули они вдвоем полураздетого Тебенькова в громадную волчью доху да так и доставили прямо в приемный покой больницы. Сделала сестра укол морфия, обложила ему живот грелками; отдышался Архип Мартынович, перевел дух.
Утром доктор Твердяков расспрашивал: «Жирное ели? Много?.. Нельзя вам. У вас — печень». Он назначил Тебенькову легкую диету. Архип Мартынович глотал протертые супы да протертые каши и скучал по говядине, тихонечко поохивал. А как поунялись, поутихли боли, стал присматриваться к соседям по палате, принюхиваться к новым веяниям, доносившимся в больницу, — и совсем затосковал, приуныл.
Ночь проходила, а думы у Тебенькова все те же — тревожные, беспокойные, черные.
С первым солнечным лучом в палате начинался оживленный разговор: радовались люди и солнцу, и выздоровлению своему, и — более всего — переменам в жизни. Тебеньков же хмурился.
Сосед, должно быть, догадывался о тайных думах Архипа Мартыновича. Он раздумчиво говорил ровным, тихим голосом очень больного человека, каждое дыхание которого заранее учтено, размерено, взвешено:
— Еще бывает так... живет человек, живет. Вдруг навалится на него черная тоска. Хоть в омут головой кидайся. А какая тому причина? Вот тут и подумать надо... К чему человек в жизни сердцем прилепился? Что ему дорого — люди или барахло нажитое? Хочешь жить — ставь новую избу, а помирать — и в старой домовине схоронят... Он не успел закончить мысль: начался утренний обход врача. Послышался веселый, бодрый голос Твердякова:
— Живы-здоровы, грешники?
— Живы! Живы... — откликнулся сосед Тебенькова.
— Ну, молодцы! Кажите языки, — доктор балагурил, знал цену шутке.
Твердякова в палате любили.
Архип Мартынович за это время тоже проникся уважением к доктору.
— Мне бы на выписку?.. Не могу больше здесь лежать, — сказал он, когда Твердяков остановился возле его койки.
— Посмотрим, посмотрим... — Твердяков подвижными, ловкими пальцами прощупывал печень. — Больно?.. А здесь?
Архип Мартынович крепился:
— Терпеть можно...
— Что ж, согласен! Идите на выписку, — заключил Твердяков, закончив осмотр. — Только имейте в виду... никаких излишеств. На первых порах диета.
В конце дня в больницу принесли одежду. Архип Мартынович попрощался с товарищами по палате.
— Бывай здоров, казак! Да выше ветра голову не носи, — посоветовал Тебенькову его сосед.
Архип Мартынович почувствовал себя задетым, ответил с мстительной жестокостью:
— А ведь тебе, мил человек, отсюда не выйти!..
В городе Тебеньков задерживаться не стал и в тот же вечер выехал домой, в Чернинскую. Забежал он только в аптеку, где долго и обстоятельно расспрашивал провизора о лечебных свойствах минеральной воды «Ессентуки», рекомендованной ему доктором. Справился о цепе.
— Вам ящик? — спросил провизор.
— Одну бутылку, — невозмутимо ответил Архип Мартынович.
В Чернинскую поезд пришел поздно ночью. Архип Мартынович первым спрыгнул с подножки вагона на захрустевший под ним снег, вдохнул морозного воздуху и почувствовал себя окончательно выздоровевшим.
На станции, кроме Тебенькова с сыном да заспанного дежурного с фонарем, не было ни души. Каменное здание станции, недавно построенное военнопленными австрийцами, мрачно глядело в темноту черными, слепыми окнами. Лишь в комнате дежурного тускло горел одинокий огонек.
Вдали замирал шум ушедшего поезда.
— Узнать надо у начальника станции... Как дело с подрядом на поставку дров. Когда можно подписать контракт, — озабоченно сказал Архип Мартынович.
— Завтра узна-аем. — Варсонофий зевнул.
— Да чего откладывать! Сейчас спросим.
— Что ты, батя! Четвертый час... Неудобно, — запротестовал Варсонофий.
— Я ему за беспокойство завтра кулек крупчатки пошлю, — сказал Архип Мартынович и решительно постучал согнутым твердым пальцем в оконную раму.
— Ба-атя!..
— Отстань, говорю, — Архип Мартынович стукнул уже кулаком, погромче.
Изнутри к стеклу прильнула белая длинная фигура.
— Цо то такое?
— Отвори, Казимир Станиславович! Дело есть, — крикнул Тебеньков.
В окнах квартиры начальника станции засветился огонь; хозяин в туфлях на босу ногу прошлепал в сенцы, отворил дверь.
— Прошу, панове, проходить до комнаты, — недовольно, заспанным голосом сказал он, пропуская вперед Тебеньковых. — Цо стряслось?
Архип Мартынович не спеша снял шапку, повесил ее, сел на стул.
— Насчет контракта я, Казимир Станиславович. Беспокоюсь. Да и времени нет расхаживать. Прямо с поезда к вам.
Начальник станции почесал пятерней свою сильно волосатую грудь; длинные мятые усы у него поникли.
— Не можно теперь помочь, Архип Мартынович! Никак не можно...
— Что, что? — Тебеньков так и подался вперед, так и впился в него недобрыми глазами.
— Контракт вже подписан, — сказал начальник станции и вздохнул. — По тридцать пять рублей сажень.
— Та-ак... — Архип Мартынович поднялся чернее тучи. — По тридцать пять рублей!.. Кто же это подмазал тебя, а?
— Цо подмазал!.. Ково подмазал? — Гонористый начальник станции грозно засверкал очами; усы у него сразу полезли вверх, сердито задвигались. — Приехал комиссар Коваль, собрал сход. На што вам, говорит, десятку с сажени задарма подрядчику отдавать. Ни за што ни про што... Ну и заставил заключить контракт с обществом... Артелью возят.
Архип Мартынович только зубами скрипнул.
— Опять хохлы мне дорогу забежали! — хмуро посетовал он, шагая с Варсонофием через рельсы, и погрозил куда-то в темноту кулаком. — Ну, погоди-и!..
Дома он тотчас же потребовал от жены полного отчета.
— Как хозяйство? За всем доглядела?.. В рождество от кабака сколько выручили?.. А Лысуха кого принесла — телку, бычка? — донимал он Егоровну расспросами. Тут же распорядился: — В лавке товару хохлам в кредит больше не отпускать. Пусть платят наличными... с подряда, — и горестно вздохнул: — Проворонили, черти косоротые!
Егоровна хлопотала возле плиты, тревожно посматривала на мужа.
— Похудел как, господи! Почернел... Что приключилось с тобой, Архип?
— С вами почернеешь... Болел я. Вот уж не ко времени.
Егоровна нарезала горку приятно пахнущего свежего хлеба. Поставила на стол яичницу-глазунью с салом. Сало шипело на сковороде и потрескивало.
Архип Мартынович с негодованием уставился на жену:
— Уморить меня хочешь, негодница?
— Что ты! Я и так... мигом.
— Нельзя мне такую пищу... Рвет меня с нее. Диет нужен.
— Ди-ет? — Егоровна всплеснула руками. — Да где я его возьму — диет твой!.. Ешь уж, яички свежие...
— Не могу. Зарок дал против жирного. Так меня корежило.
— Что за напасть такая?..
— Печень расшалилась. Желчью так и шибало, — пояснил Архип Мартынович, с завистью глядя, как уписывал глазунью проголодавшийся Варсонофий. — Ох, жестокая штука. А диет — это пища легкая, меню... Супчик постный с тертой морковкой либо кашка манная. Вот ты мне и сготовь.
Чуть свет Архип Мартынович был на ногах. Пока готовился завтрак, он обошел громадный баз, заглянул в конюшню, свинарник.
— Егоровна-а! — послышался со двора его крик.
— Ну, высмотрел чего-то. — Егоровна на полуслове прервала разговор с Варсонофием, накинула платок и помчалась на баз.
Архип Мартынович ходил вокруг прыгающего на трех ногах кабанчика-подростка. Сурово взглянул на жену.
— С чего это он... захромал?
— Ах, Архипушка! Перебили ногу третьего дня...
— Кто перебил?
— Из соседского двора бежал. От Микишки. Это он, злодей!.. Вперед, говорит, не будете распускать скотину.
— Кабанчика дорезать придется! Не будет с него толку. Загубили животное. — Тебеньков с мрачной угрозой посмотрел через забор на соседскую избенку.
Не заходя в дом, он отправился на мельницу. Обошел холодное тихое помещение, стены которого изнутри были густо припудрены мучной пылью.
Сквозь стену из машинного отделения доносились глухие голоса. Машинист — он же мастер-вальцовщик — ходил с разводным гаечным ключом вокруг локомобиля. Два пожилых казака, рано забредших на мельницу, лениво переговаривались.
— Привоз есть? — спросил Архип Мартынович, здороваясь с казаками.
— Неважный.
— Однако надо обмолотить остатний хлеб, — заметил один из казаков.
— Много осталось?
— Должно быть больше половины. Мышей... откуда взялись?.. прорва!
— Н-да... На наш хлеб — едоков... — Архип Мартынович скосил на казаков хитроватые глаза, посоветовал: — Не спешите с обмолотом, станичники. Не ровен час — нагрянут с реквизицией. Ну, предложите... снопы. Небось не схватятся. А цена той порой вскочит поболее — в накладе не останетесь.
— Это будто так... но черт его знает!
— Соображать надо, станичники, — веско сказал Архип Мартынович, присаживаясь рядом и доставая пачку папирос. — Дай большевикам хлеб — они, гляди, и укоренятся. Тогда вовсе волком взвоешь. Не будет казакам вольного житья. А подведет им с голодухи животы — так небось присмиреют.
— Чужой бедой сыт не будешь, — возразил казак и со странной усмешкой поглядел на Тебенькова.
— Все жадность человеческая, — вызывающе громко сказал машинист и сплюнул.
Архип Мартынович сверкнул на него глазами, но продолжал тем же спокойным тоном:
— О себе разве хлопочу, казаки? Даст бог, проживу. За вас, станичники, душой болею. Трудное подошло время. Ох, грудное...
Архип Мартынович осторожно погладил рукой бок, вздохнул, вспомнил, что его ждет дома завтрак, заторопился.
— Нельзя нам, станичники, врозь идти. Казакам надо крепче друг за дружку держаться. Сегодня ты мне помог, завтра — я тебе... так оно и пойдет — тихо, мирно... по старинному завету да обычаю. Бывайте здоровы, казаки!
Покряхтывая, он потоптался перед ними и тихонько ушел, с горечью думая, что и сюда, в казачью станицу, начал проникать дух непокорства.
За столом Архип Мартынович хмурился, что-то соображал, побалтывая ложкой жидкую кашицу — «диет». Вспомнил про «Ессентуки», послал жену за бутылкой, откупорил, понюхал, глотнул немного и тут же выплюнул.
— Вылей, Егоровна, в помойное ведро! Пущай скот ее пьет. Может, ему вода минеральная на пользу пойдет. Чай, за нее деньги плачены.
— В станичное правление пойдешь, батя? — спросил Варсонофий, когда Архип Мартынович решительно отстранил от себя миску с пресной кашицей.
— А черта я там не видал!
Три дня чернинский атаман не выходил со своего двора, наводил порядок на базу, костил батраков, перемерял товар в лавке. Он сам заколол охромевшего кабанчика, перековал на передние ноги жеребую кобылу Машку. Заставил Варсонофия хорошенько промять застоявшегося в станке жеребца.
На исходе третьего дня, когда работник погнал скот на водопой, Архип Мартынович тоже спустился по узкому проулку на берег.
Морозы отпустили, и на стремительной Чернушке уже появились полыньи. Над ними стоял туман; прибрежные деревья постепенно покрывались инеем.
В некоторых местах ветром начисто сдуло снег со льда. Зато возле берега понамело сугробы, особенно в тальниковых зарослях по галечниковым косам.
Из-за реки по дороге тянулся обоз с дровами. Передние возы, скрипя полозьями, поднимались на крутой берег и сворачивали на улицу, ведущую к станции. Возчики — знакомые Тебенькову крестьяне из соседней деревни Зоевки — подталкивали сзади тяжелые сани и криками подбадривали заморенных лошадок.
Архип Мартынович затрясся от злости. С суковатой палкой в руках он кинулся от проруби наперерез обозу.
— Куда прешь, мужичье! Нет вам проезда по казачьей земле!
— Да ведь тут улица.
— Улица есть, да не про вашу честь.
— Эй, атаман! Не вводи во грех...
Подвод пятнадцать сгрудилось на дороге. Возчики с хмурыми лицами обступили Тебенькова.
— Ну чего шумишь, Архип Мартынович? Дорога широка — разминемся, — урезонивал атамана подошедший Василий Приходько.
— Пошел, говорю, обратно! Ну... — Тебеньков угрожающе помахивал палкой перед мордой передней лошади. Лошадь всхрапывала и пятилась.
— Ты, казак, лай, да коней не пугай! — хозяин подводы одним ловким движением вышиб палку из рук Архипа Мартыновича и наступил на нее ногой.
Тебеньков запрыгал перед ним злым кочетом:
— Да как ты посмел... мерзавец!.. на казачьей земле!
— А вот так и посмел. Не больно-то испугались, — усмехнулся возчик. — Тоже умник нашелся — дорогу закрыть.
— Окунуть его разок в прорубь, ребята! Нехай остынет.
— Посторонись, атаман! Сомнем...
Приходько за руку оттащил Тебенькова. с дороги.
— Не маячь на пути, Архип Мартынович! А хочется власть показать, задержи весной лед на реке.
Он засмеялся и побежал догонять подводы. За лесом садилось огромное красное солнце.
— Ба-атя, домой иди! — кричал со двора Варсонофий.
Архип Мартынович медленно поднялся на гору. Шумнул на сына:
— Ты что же?.. Не видишь, как хохлы над отцом измывались? Кликнул бы казаков, так мы им холку бы намяли.
— Не видал, батя.
— Чего звал?
— Нарочный из округа с пакетом.
Сломав сургучную печать, Архип Мартынович дважды перечитал бумагу из войскового правления. Лицо его прояснилось.
— Войсковой круг, слышишь, собирают. В Имане, — сказал он Варсонофию. — Вот делегата велят выбрать. Тебя, что ли? — Тебеньков критически посмотрел на сына и отрицательно мотнул головой. — Нет, сам поеду!
За ужином Архип Мартынович потребовал водки, выпил, крякнул, послал ко всем чертям супчик «диет», поспешно поставленный перед ним Егоровной, и приналег на жареную кабанину с гречневой кашей.
Весь следующий день он носился по станице, гремел шашкой по ступеням, разбрасывал шутки и обещания. Егоровна на кухне парила и жарила. Варсонофий с работником отнес в школу, закрытую по случаю предстоящего собрания, три ведра водки.
Вечером со всей станицы потянулись туда старики.
— Гуляй, казаки, пей мое вино! Уж я такой человек — для общественного дела себя не пожалею, — говорил Архип Мартынович, прохаживаясь вдоль столов.
Четвертый Войсковой круг уссурийских казаков собирался в Имане. Делегатов от станиц по установившемуся обычаю выбирали старики. Это были главным образом зажиточные казаки: подрядчики, владельцы винных и бакалейных лавок, поселковые и станичные атаманы. Их политическая физиономия была достаточно ясна и не внушала опасений устроителям съезда.
Казаки-строевики только начали возвращаться с фронта. Основная масса казачьих эшелонов тянулась где-то через Сибирь. Передовые эшелоны застряли на Китайско-Восточной железной дороге. Там казаков усиленно обрабатывали сбежавшиеся в полосу отчуждения КВЖД эсеро-меньшевистские политиканы и офицеры-монархисты.
Фронтовиков больше всего волновало, как скоро смогут они приехать домой. Им говорили, что причина задержки кроется в политике дальневосточных Советов, не желающих возвращения казаков в родной Уссурийский край. Это будто бы связано с намерением переселить казаков из обжитой пограничной полосы в отдаленные районы края, как элемент политически неблагонадежный с точки зрения новой власти. Ходили слухи, что на казачьи земли начали массами сажать крестьян. Другие уверяли, что казачьи заимки целиком отойдут корейцам-арендаторам.
Казаки волновались.
В поселках же и станицах, наоборот, задержку с возвращением казаков объясняли тем, что по требованию немецкого военного командования казачьи полки якобы насильно отправляют с дороги обратно на запад, чтобы там разоружить их и выдать Германии в качестве военнопленных. Таков-де залог, ценою которого большевики упросили немцев согласиться на мирные переговоры в Бресте. Обычно к этому добавлялись лестные для казачьего самолюбия рассказы о том, как здорово казаки насолили немцам и как люто ненавидят их за это Людендорф и Гинденбург. Получалось, что по отношению к казакам совершенно невероятное вероломство.
Трудовое казачество, начавшее уже составлять свое определенное мнение о том, как относиться к Советской власти, из-за установленной процедуры выборов на большой Войсковой круг фактически на нем не было представлено.
Всем заправляла казачья верхушка.
Сам выбор города Имана в качестве места для работы Войскового круга достаточно ясно говорил о намерениях его организаторов.
Захолустный городишко, находившийся в трех верстах от границы, как нельзя более подходил для того, чтобы попытаться здесь открыто выступить против быстро укреплявшейся на Дальнем Востоке Советской власти. В Имане не было сколько-нибудь крупных рабочих коллективов, которые могли бы быстро и энергично вмешаться в события и сорвать планы заговорщиков. В обе стороны от города по Уссури тянулась цепь казачьих поселений, управляемых атаманами, оставшимися еще с царского времени. Войсковые старшины могли здесь чувствовать себя довольно самостоятельными. Сюда переехало и Войсковое правление из Никольск-Уссурийска, где слишком уж накаленной становилась обстановка.
Тебеньков с сыном приехали в Иман за день до открытия круга. Остановились они у знакомого казака Алексея Смолина, старший брат которого, Иннокентий, был сослуживцем Архипа Мартыновича, а теперь исполнял должность атамана в ближайшей к Иману станице. Иннокентий был крестным отцом Варсонофия.
Смолин недавно перебрался в новый просторный дом городского типа, еще пахнувший свежей стружкой и краской. Два амбара под железной крышей, новая, прочно срубленная конюшня с узкими продольными окнами, высокий забор, окружавший усадьбу, говорили о зажиточности хозяина.
Старый дом, расположенный на этом же участке, Смолин давал внаем. Сейчас в нем квартировал есаул Калмыков — командир стоявшего в Имане казачьего полка.
Полк, если не считать офицеров, получавших жалованье по штатной ведомости, был почти не укомплектован личным составом. Состоял он из казаков старших возрастов, не замедливших разъехаться по домам, как только поослабла дисциплина.
Офицеры занимались непробудным пьянством и дебошами.
Пока Тебеньковы приводили себя в порядок после дороги, пока расспрашивали о местных новостях, подоспел Иннокентий. Он сам выпряг коня и вошел в дом с хомутом в руках.
— А, кум! Здорово!.. И крестник тут? — Иннокентий снял шубу, расцеловался с гостями, поздоровался с братом. — На круг прибыли?
Архип Мартынович мотнул головой:
— На круг.
— Говорят, большевики там поприжали вас, а? Сдрейфили вы... А теперь — всем хлопот.
— Смеху, кум, в этом мало, — мрачно заметил Архип Мартынович. — Они всю бедноту на ноги подняли.
— Ненажитое-то легко делить, — вздохнув, сказал хозяин и подал знак накрывать на стол.
Агаша — рослая смуглолицая девушка-казачка, батрачившая у Смолиных, — быстро расставила посуду. В комнате запахло жирным борщом.
— Хозяйка у меня расхворалась. Как бы не померла, — сказал Смолин, доставая из комода бутылку водки с белой головкой.
Иннокентий расправил рыжие усы, довольно крякнул:
— Значит, за здоровье Матрены Даниловны...
Недавно он по станичным делам ездил в Гродеково и теперь рассказывал о настроении в южных округах, сокрушался:
— Нет у казаков одного мнения. Вразброд идем.
— Стало быть, пути разные. Глаза тут закрывать нечего. — Архип Мартынович опасливо покосился на Агашу.
— Ты, девка, выдь пока. Нужна будешь — покличем, — распорядился хозяин.
Варсонофий с некоторым сожалением проводил взглядом красивую казачку. Он не совсем понимал намерения отца и довольно рассеянно прислушивался к разговору.
— Нужно свое войсковое правительство, свои порядки на казачьей земле. Хохлы нам не указ, — говорил Архип Мартынович. В глазах его светилась настороженная хитрость лисицы, видящей перед собой лакомый кусок.
Смолин улыбнулся в бороду, наполнил стопки, посоветовал:
— Войсковым атаманом надо избрать старшину Шестакова.
— Полковника Февралева, — сказал Иннокентий.
— Мендрина. Он профессор и с иностранными державами в ладах, — настаивал Архип Мартынович.
Рыжая с проседью большая борода Смолина затряслась.
— Эх, казаки, казаки! Трое между собой ладу не найдем. А ить свои.
— Сговоримся, кум. Не спеши, — заметил Архип Мартынович и прислушался к внезапному шуму и ругани на дворе.
Варсонофий поднялся со стула, поскрипывая сапогами, прошел к окну.
— Опять мой квартирант гуляет. Такой шалопут — сладу с ним нет, — сказал Смолин.
Варсонофия мало интересовал разговор стариков; он набросил шинель и вышел на улицу.
Возле калитки с конями в поводу стояли, вытянувшись во фронт, два рослых казака. Перед ними, подпрыгивая, как на шарнирах, металась невысокая фигура в мундирчике, казачьих шароварах с желтыми лампасами и сапогах-бутылках. Человек этот в ярости топтал ногами собственную шапку и на высоких визгливых нотах кричал:
— Молча-ать!
Казачьи кони, видно привыкшие к таким сценам, опустив головы, спокойно смотрели на беснующегося перед ними человека и, должно быть, удивлялись долготерпению своих хозяев.
Варсонофий молча прошел мимо. Но шагов через десять его остановил резкий, хрипловатый окрик:
— Хорунжий!
Казаки верхами уезжали прочь. Человек, распекавший их, держа шапку в руках, исподлобья, мрачным взглядом смотрел на Тебенькова, раздвинув широко ноги и слегка наклонив вперед голову.
— Есаул Калмыков, — буркнул он вместо приветствия, дыхнул винным перегаром и без всякого предисловия спросил: — Не одолжите десятку?
Варсонофий достал деньги.
Калмыков сгреб десятку лапой, с маху нахлобучил папаху на голову, еще раз царапнул по лицу Тебенькова неприветливым взглядом темных волчьих глаз и, высоко поднимая плечи, как цапля крылья, подпрыгивающей походкой пошел по двору.
Низкий лоб, черные жесткие волосы, тяжелая, немного отвисшая челюсть и угрюмый вороватый взгляд исподлобья — вот что запомнилось Варсонофию в Калмыкове.
В горнице Архип Мартынович рассказывал о своих злоключениях в городе:
— Большевики у меня вот где сидят... в печенках.
Смолин, задрав бороду, смотрел в потолок. Вдруг он свирепо грохнул по столу кулаком и матерно выругался:
— Эх, жизнь!..
Иннокентий воинственно топорщил усы, грозил:
— Доведут казаков до отчаянности, всех порубаем... Рука зудит.
В соседней комнате кашляла, задыхалась больная хозяйка.
...Войсковой круг открылся с опозданием на два дня. Два дня казацкие старшины сговаривались относительно общего кандидата на пост войскового атамана, но так и не могли столковаться. Наиболее вероятным кандидатом считался профессор-японист из Владивостока Мендрин. Затем как будто верх начали брать сторонники войскового старшины Шестакова. Но и февралевцы не сдавались. Ни одна из групп не могла рассчитывать на сколько-нибудь значительный перевес при голосовании.
Делегаты и на заседании круга уселись так, по группам: отдельно мендринцы, отдельно февралевцы. В тесном зале было жарко, дымно и шумно сверх всякой меры. Казаки громко переговаривались, курили, лузгали семечки, сплевывая шелуху под ноги на пол.
На возвышении впереди — отдельный стол, покрытый зеленым сукном, со стульями позади — это для председателя круга и секретаря. Другой такой же стол — для членов войскового правления.
Начальство в полной казачьей форме, сверкая желтыми лампасами, гурьбой вывалило из задней комнатки. В зале стихло. Делегаты из дальних станиц с любопытством глазели на правленцев, перешептывались.
Председатель круга — сотник с тремя Георгиями на груди и с бородой, достававшей до орденов, — размашистым крестом коснулся погон на плечах, густо откашлялся.
— С богом, станичники! Начнем...
Докладчик о политическом моменте — тоже сотник, но только лысый и бритый, в пенсне — патетически возвышая и понижая голос, скорбел о государственной разрухе, пугал пагубными последствиями большевистского сговора с немцами, призывал казаков-уссурийцев сплотиться вокруг войскового правительства и противостоять анархии. Он говорил, что казачество якобы искони питает отвращение к политическим партиям, не будет игрушкой в их руках, а, как всегда, явится надежной опорой властей предержащих.
— Заметьте, станичники, что предержащая власть теперь — Советы! — сказал в задних рядах чей-то насмешливый голос.
Докладчик запнулся, сбился, потерял нить рассуждений. Передние ряды зашумели, требуя призвать крикуна к порядку.
— Это Коренев однорукий из Хоперского. Скажи на милость, затесался-таки, — сказал Иннокентию Архип Мартынович.
Сотник на трибуне вспомнил Учредительное собрание, категорически высказался против переговоров о мире, поклялся в верности союзникам от имени всех казаков и сложил свои листочки.
На его месте уже мельтешила длинная, нескладная фигура в лихо сдвинутой набок фуражке с желтым околышем, с клоком рыжих волос, нависших над низким лбом. Оратор сразу понес такую околесицу, что председатель в досаде подергал себя за бороду и распорядился:
— Протрезвить!
Казака прямо с трибуны поволокли через запасной выход во двор остуживать снегом. Он упирался ногами, кричал в пьяном экстазе:
— Войсковому пр-равительству... ур-ра-а!
Архип Мартынович петушком проскочил вперед, подождал, пока унялся шум, посмотрел на ухмыляющиеся лица передних бородачей, подмигнул.
— Вот пьян казак, а что кричит?.. Ура войсковому правительству. Голос казачества, станичники, — и пошел хитрейший из станичных атаманов расписывать прелести свободной, независимой жизни казаков на казачьей земле под властью своего войскового правительства. Журчала быстрой говорливой струйкою его расчетливая, продуманная речь. Умел Архип Мартынович и польстить самолюбию зажиточного казака, и припугнуть его советскими порядками, и посулить ему златые горы и молочные реки с кисельными берегами.
— Молодец, кум! — орал с места Иннокентий и буйно топал ногами. — Вот кого надо в войсковое правительство.
— Кумовей? — опять спросил сзади Коренев и пошел вперед. В тесном проходе между скамьями он разминулся с Архипом Мартыновичем. Тот смерил его сердитым взглядом.
— Красиво тут расписал наше житье Тебеньков: рай земной, и умирать не надо, — с насмешкой начал Коренев. — Справный он казак. Хороший хозяин. У него и торговля, и мельница, и подряд большой. Может, сотни людей на него трудятся. Таких казаков у нас единицы. Им с их колокольни все прекрасно.
— А ты чего чужое добро считаешь?
— Считаю, — и моего пота там капля вложена, — спокойно возразил Коренев.
— Ограбить хочешь?
— Греха не будет.
— А свинцовую пульку едал?
— Я-то едал, — Коренев выразительно показал на свой пустой рукав, и голос у него зазвенел сталью. — Не пугайте меня. Я столько раз пуганый, что разучился пугаться. Тоже собрались ловкачи. Пьяный балбес кричит, а вы его голос хотите выдать за голос казачества. Казаку нужен мир. Казак ждет не дождется, когда избавится от самоуправства атаманов-мироедов. Все это ему дает Советская власть. А вы хотите столкнуть казака с нею. Да пошлет он вас к чертовой матери, плюнет и разотрет... Войсковая земля... правительство... Отрезанный ломоть от России, вот что значит ваша затея. Измена это.
Кто-то в зале взвизгнул:
— Большевистский агент!
Архип Мартынович тоже вскочил:
— Ты скажи... скажи, Коренев, сколько тебе заплачено?
— Да, должно быть, больше, чем ты своим батракам платишь, — с уничтожающим спокойствием ответил однорукий.
— Так, режь им правду-матку! — в общем шуме донеслось из зала, и Коренев улыбнулся, слыша чей-то дружеский голос на этом сборище.
Из-за стола старшин к нему подскочил толстомордый офицер, застучал шашкой в пол, свирепо заворочал глазами.
— Вон! Сию же минуту...
— Давай говорить спокойно. Не ори, — остановил его жестом Коренев.
— Убирайтесь! Или... вас растерзают.
— Ну, ну... полегче. — Коренев усмехнулся. — Или вы думаете, с вас за это не спросят?.. Я уйду — дольше тут оставаться не намерен. Мы, трудовые казаки, еще свое слово скажем. — И Коренев не торопясь, спокойно, будто и не слышал оскорбительных выкриков, свиста и гама, пошел к двери.
На китайской стороне за холмами догорала вечерняя заря; бледно-оранжевая полоска неба протянулась там вдоль границы. А вверху уже зажглись редкие первые звезды. И на станции тоже один за другим загорались желтые, красные и зеленые огоньки. Посвистывал и устало пыхтел маневровый паровоз.
На квартире Архипа Мартыновича дожидался Мавлютин. Прибыв поездом из Хабаровска, он успел переодеться из партикулярного платья в новенькую военную форму, сверкал погонами и, кажется, чувствовал себя великолепно. Полковник примирился с той ролью, какую отвел ему Хасимото, и был готов с присущей ему энергией взяться за дело.
— Слышал... слышал уже про вашу блестящую речь. Поздравляю! — такими словами полковник встретил чернинского делегата. — Так кого будем выдвигать на пост войскового атамана? Вы уж, конечно, надумали, Архип Мартынович?
Мавлютин спрашивал так, будто сам принадлежал к казачьему сословию. Тебеньков решил, что это неспроста.
— Разбиваются голоса, Всеволод Арсентьевич. Кто за Фому, кто за Ерему, — пожаловался он. — Мы уж прикидывали — нет ходу ни одному кандидату.
Мавлютин, прищурясь, посмотрел на Тебенькова, прищелкнул пальцами.
— Имеется простой выход из положения. Против всех трех кандидатов выставить четвертого.
— М-да... — Архип Мартынович быстро покосился на сына; тот подтверждающе кивнул головой. Вероятно, Варсонофий успел перекинуться с Мавлютиным словом-другим. И Архип Мартынович осторожно продолжал: — Выставить не штука: кого?
— Есаула Калмыкова, — сказал Мавлютин.
— Что, что? — Смолин даже подскочил. — Ведь он, прости господи, — недоносок. Хулиган... Я его с квартиры погнать хочу. А тут — в атаманы... Шутить изволите, ваше высокоблагородие. Не могу, извините, этого понять. Да у него и ума нет, одна нагайка в руках.
— Умом будет войсковое правление. А нагайка по нашему времени сгодится, — с циничной откровенностью ответил Мавлютин.
Тебеньков видел, что полковник не желает сразу раскрывать всех карт.
— Поддержка нужна атаману, — осторожно заметил он.
— Поддержка будет... от держав. С этим надо считаться, казаки. Нам одним с большевиками не управиться. Из двух зол надо выбирать меньшее.
Иннокентий Смолин посмотрел на него, удивленно приоткрыв рот.
— А ты не врешь это? — спросил он, позабыв про субординацию.
— Господа казаки, — голос Мавлютина зазвучал торжественно и строго. — Я говорю сущую правду. Крест поцеловать могу. Кроме того, я привез первую субсидию есаулу Калмыкову — двести тысяч рублей. А как расходовать деньги, вы уж подумайте. Вам виднее.
Архип Мартынович и братья Смолины выразительно переглянулись.
Может быть, если бы Калмыков не был здесь же, в Имане, не гонял с гиком по улицам тихого городка с головорезами из своего полка, агитация за него шла бы успешнее.
Съезд затягивался, а Мавлютин не был уверен в результатах голосования. Шла дискуссия о том, какими качествами должен обладать войсковой атаман.
Делегаты начали тяготиться бесконечным переливанием из пустого в порожнее. Они дружно проголосовали резолюции, требующие от казаков сплочения для борьбы с большевиками. Но в выборах атамана ни одна группа не хотела уступать. С этим были связаны разные материальные интересы, и тут единодушие старшин и атаманов кончалось.
А за кулисами продолжался отчаянный торг. Мавлютин отчасти убедил, отчасти припугнул войскового старшину Шестакова, и тот заколебался, заговорил о желании снять свою кандидатуру. С полковником Февралевым вздумали разделаться сами калмыковцы. Выждав темный час, когда он шел из войсковой канцелярии домой, они верхами наскочили на него и нещадно исполосовали ему спину плетьми, приговаривая:
— Задаток, Февралев! Задаток... А придет час — к стенке поставим. И Шестакова тоже[1].
Случилось, правда, так, что по ошибке пьяные экзекуторы отхлестали не самого Февралева, а одного из его приверженцев. Результат оказался совершенно обратным тому, на который рассчитывали. Не только февралевцы, но и их противники подняли страшный шум. Дело кое-как замяли. К счастью для партии калмыковцев, подоспела приветственная телеграмма от атамана амурских казаков Гамова. Гамов заверял, что не допустит передачи власти Советам в Благовещенске.
На другой день бородачи-уссурийцы были обрадованы предложением отложить выборы войскового атамана до следующего пятого круга, а пока утвердить исполняющим обязанности атамана командира казачьего полка есаула Калмыкова. Расчет Мавлютина оправдался: сторонников Калмыкова устраивала фактическая власть, противников — возможность утешить себя восклицанием: «Ну, поглядим! Поживем — увидим...»
Без особых проволочек выбрали войсковое правительство. Оно тут же назначило депутацию для вручения есаулу Калмыкову постановления круга.
Депутация, возглавляемая Тебеньковым — ныне членом войскового правления, — степенно прошествовала по главной улице городка. Архип Мартынович, сознавая значение момента, мысленно репетировал речь. Алексей Смолин в задумчивости теребил заиндевевшую бороду. Иннокентий похохатывал, слушая, как атаман соседней Графской станицы изображал в лицах императрицу Екатерину Вторую и графа Орлова. Атаман был известный сквернослов и похабник.
Пока хозяин привязывал на цепь рычавшего на чужих пса, Архип Мартынович отворил дверь в старый смолинский дом. Ставни в первой комнате были прикрыты, и в ней стоял полумрак. Дверь же во вторую половину, освещенную вечерним солнцем, была распахнута настежь. Оттуда доносились неожиданные звуки молчаливой борьбы, вздохи, сопенье.
Архип Мартынович глянул туда да так и обомлел.
Сразу за дверью лежало опрокинутое ведро, грязная вода лужицей растекалась по полу. Тут же валялась брошенная тряпка для полов. Возле широкой кровати с горой взбитых подушек смолинская батрачка Агаша держала за шиворот низкорослого Калмыкова одной рукой, а другой, мокрой, отвешивала ему звонкие пощечины. Кирпично-красная голова есаула моталась от веских ударов то влево, то вправо.
— Ах, ты, гнида несчастная! Скажи, пожалуйста, чего надумал, а? — возмущенно говорила Агаша.
Высокая, на целую голову превосходившая Калмыкова ростом, раскрасневшаяся от гнева, гордая и сильная, Агаша действительно была прекрасна в этот момент. Это была настоящая вольная казачка, способная постоять за свою честь.
Депутация, теперь уже в полном составе, оторопело глядела из-за дверей.
— Ах, господи, вот шельма! Как она его хлещет. Ка-ак хлещет, — в совершенном восторге шептал атаман из Графской. — Ну, девка. Огонь!
Смолин из-за его спины делал Агаше устрашающие знаки. Но та не замечала.
Архип Мартынович еле сдерживал разбиравший его смех.
Все члены депутации отлично понимали щекотливость создавшегося положения. Трудно было сразу сообразить, как лучше выйти из него.
Агаша наконец сочла, что покушение на ее честь достаточно отомщено, и оставила есаула в покое.
— Застрелю-у! — вдруг страшным голосом закричал Калмыков, когда Агаша нагнулась, чтобы поднять с полу ведро.
— Вот я тебя стрельну — ведром по башке, — спокойно ответила она, не удостоив его даже взглядом.
Калмыков сразу притих и начал одергивать на себе шаровары.
Агаша тряпкой сгоняла разлившуюся на полу воду.
— Иди, подлая! Иди сюда, слышь, — шипел из-за двери хозяин, делая Агаше знаки обеими руками.
Агаша с досадой передернула плечом и с тряпкой в руках, как была босая, с подоткнутым подолом, вышла в горницу пред очи депутации.
— Али нагайки захотела, негодница? — грозным шепотом спросил Смолин.
— А пусть не лезет. Пусть не насильничает, — вызывающе громко сказала она. — В другой раз я его, мерзавца, в ведре утоплю.
— Ну, ты гляди...
Смолин явно не знал, как ему быть.
Атаман из Графской шептал на ухо Иннокентию:
— Ядреная девка, черт побери! Вот такую, паря, обратать — это да... С нею в воде не утонешь, в огне не сгоришь.
Видно было, что Агаша произвела на него сильное впечатление.
Архип Мартынович густо кашлянул.
— Вы ко мне, господа казаки? — спросил из-за двери несколько оправившийся Калмыков.
— Так точно, господин есаул! Дозвольте? — обрадованно и громко сказал Смолин.
Все делали вид, что ничего не заметили.
Калмыков поспешил перейти на затемненную половину дома.
— Черт знает, зуб б-болит, — хмуро пожаловался он, перешагнув порог и держась рукой за ту щеку, по которой Агаша била наотмашь.
— И что же он, зуб, ноет али стреляет? Который зуб?.. — ехидно справлялся атаман из Графской, не упуская случая лишний раз позубоскалить.
Калмыков лютым зверем посмотрел на него, но смолчал.
Архип Мартынович хотел начать речь по всей форме, как подготовился, да догадался, что это поставит его в смешное положение. Он хмуро буркнул:
— Докладываю: назначили вас исполняющим... войскового атамана.
Калмыков подпрыгнул, как резиновый мячик:
— Назначили, ну?.. Черт побери! Все-таки назначили... — Пробежался мелкими шажками вокруг депутации, точно собака, обнюхивающая след, радостно тявкнул: — Хлобыстнем по стаканчику, а? Есть четверть крепчайшего ханшину.
— Один момент, господин атаман! Сооружу закуску. — Смолин засуетился и выскочил в дверь.
Остальные стали усаживаться вокруг стола.
Неделю спустя Архип Мартынович, покончив с неотложными делами в войсковом правлении и оставив Варсонофия в иманском конвойном эскадроне, возвращался поездом домой, в Чернинскую. Был он теперь напыщенный и важный. Даже голос у него стал будто басовитее.
Он сидел на трясучей скамейке, стесненный с боков чужой рухлядью, и с удовлетворением перебирал в памяти события последней недели. Добрался наконец и до сцены, когда он пришел с депутацией к Калмыкову. Вспомнил — и плюнул.
За окном на склонах сопок маячили желтые кусты дубняка, убегали назад телеграфные столбы. Поезд прогрохотал по мосту. Архип Мартынович посмотрел в окно на застывшую, покрытую снегом речку, и мысли его отвлеклись к домашним заботам.
Предаваясь в пути приятным мечтаниям, Тебеньков не знал, что беднейшие казаки станицы Чернинской сходятся в этот час в дом его соседа, чтобы послушать однорукого хоперца Коренева. Тот не стал дожидаться окончания Войскового круга. В каждом поселке у Коренева находились сослуживцы-однополчане: было с кем потолковать по душам. И прежде чем сюда дошло воззвание Войскового круга, большая часть казаков низовых станиц решительно осудила попытку казачьей верхушки толкнуть уссурийцев на братоубийственную войну. Знай об этом Архип Мартынович, не стал бы он задерживаться в Имане ни одного лишнего дня. Да что мог изменить его приезд?
Со двора Тебеньковых видны освещенные соседские окна, В вечерней тишине слышатся скрип калитки, негромкое покашливание казаков.
«Опять булгачатся. Должно быть, насчет заездка», — с неприязнью подумала Егоровна, закрывая амбар на большой висячий замок. Она не могла простить соседу подбитого кабанчика.
На реке Чернушке, бегущей с отрогов далекого Сихотэ-Алиня к Уссури, жители станицы зимой ставили заездки. Работа обычно производилась на артельных началах. Соберется десяток соседей, облюбуют протоку, по чистым прозрачным водам которой идет на нерестилища проходной ленок, и в пять-шесть дней перегородят ее. Рыба, наткнувшись на неожиданную преграду, долго ходит вдоль заездка, тычется носом в узкие щели и в конце концов, гонимая могучим инстинктом размножения, лезет в единственное оставленное открытым отверстие ловушки — «морды», сплетенной из тех же тальниковых прутьев. Артельщикам оставалось по очереди ходить на заездок (обязательно по нескольку человек, чтобы было без обману) и забирать улов. Чем ближе к весне, тем больше усиливался ход ленка. Иногда за день-два перед ледоходом вынимали рыбы больше, чем за все предыдущие месяцы.
Из-за проточек, удобных для постановки заездков, нередко возникали споры; станичники, случалось, доходили до драк. Каждая сложившаяся артель, если проточка оказывалась уловистой, стремилась закрепить ее за собой. На станичном майдане право первой заявки признавалось неоспоримым. Но его можно было перекупить, выставив артельщикам отступного — ведро или два водки. Таким путем лучшие заездки постепенно переходили в руки зажиточных казаков. Станичная же беднота оказалась оттесненной на самые дальние и неходовые протоки.
Архип Мартынович великолепно учитывал сложившуюся обстановку.
— Что ж, станичники! — говорил он соседям, поблескивая глазами, поглаживая аккуратно расчесанную бороду. — Потратился я, верно. Да, видно, нынче трех заездков самому не поднять. У меня хлопот знаете сколько?.. Общественные дела... Ни прибыли от них, ни корысти. А вас жалко, ей-богу! В такой одежде за десять верст по морозу ходить, и было бы из-за чего. Проточка мелка, поди, перемерзает. Ленок туда носа не кажет. Зря затеяли, зря...
— Да ведь хочется и нам ребятишек рыбкой побаловать, — возражали ему. — Не для продажи ловим.
— Эх, братцы! Труда своего ценить не умеете, — Архип Мартынович сокрушенно качал головой, задумывался. Потом он сдергивал шапку, швырял в угол и решительным тоном заявлял: — Так и быть, казаки! Поступаюсь своим интересом. Городите заездок на Домашней. Не ошибетесь. Вот ты, Микишка, артель сколоти... ты мастер, я тебе доверяю.
Об условиях, на которых соседям разрешалось ставить заездок на их же бывшей протоке, Тебеньков говорил коротко и кротко:
— Поделимся по-соседски, не чужие ведь. Половину улова — мне, остальное — делите на паи. Я в это не вмешиваюсь. Зато удобство какое... Из дому — рукой подать. Для променажу прошелся чуть, и тащи себе рыбку на уху. А самому недосуг, так и детишки вынут, им тоже приучаться к делу надобно.
При устройстве заездков существовало, однако, общее для всех правило: нельзя перегораживать фарватер. Архип Мартынович не раз прикидывал, сколько рыбы можно взять, если перекрыть ход по главному руслу. Он и место облюбовал — напротив своих окон. Но нарушить порядок не решался. Как станичный атаман, он боялся повредить себе слишком открытым проявлением алчности. Тебеньков был хапуга и хитрец одновременно.
Уезжая в Иман на Войсковой круг, Архип Мартынович решительно распорядился ставить заездок напротив своего дома. О намерении своем он объявил на собрании, после выборов, когда все станичные бородачи находились под хмельком. Тут же Тебеньков нанял мастеров, условился о цене и сроке окончания работы.
— Соображаете, казаки? — весело спрашивал он, потирая руки, довольный, что удалось устроить выгодное дельце. — Пущай теперь хохлы ленка ждут. На-ко, выкуси! Не пустим рыбу дальше казачьей земли. Научим хохлов уважать наши права. Казачьи привилегии...
К возвращению Тебенькова сооружение заездка закончили. Со двора Егоровне был виден на реке длинный ряд кольев, будто невысокий забор протянулся от ближнего берега к дальнему. Плескалась вода в широкой проруби.
В переулке заскрипели полозья: сани остановились возле соседского двора, и трое приезжих тоже прошли в дом.
«Званые гости у них, что ли? — Егоровна почувствовала смутное беспокойство, но посмотрела на заездок, и мысли ее отвлеклись. — Коптильню налаживать надо. В городе копченого ленка с руками оторвут», — хозяйственно подумала она, спустила собаку с цепи и пошла в дом.
Приезжими были Чагров и Савчук. Привез их из соседней деревни Василий Приходько. Они торопились к поезду, но хотели час-другой потолковать с казаками. Уже целую неделю друзья колесили по волости.
Василий отпустил чересседельник, привязал лошадь, положил на снег охапку сена.
— Ну, пошли! — сказал он затем. — Хозяина зовут Никитой Фомичом. Человек он порядочный. Собак опасаться не нужно, тут им стеречь нечего.
Своим приходом они прервали интересный для всех присутствующих разговор. В комнате было человек десять казаков, не считая детишек, головы которых виднелось во всех углах и на печке.
Савчук сразу приметил Коренева. Он сидел прямо под лампой, повешенной на гвоздь, вбитый в верхнюю часть оконного косяка. Свет падал на него сверху, лицо скрывалось в тени и казалось от этого резче, угловатое. Хорошо был виден пустой правый рукав. То, как Коренев держал голову, как повел на вошедших глазами, сухой горячий блеск которых был заметен даже в тени, обнаруживало в нем человека, знающего себе цену. Савчук сочувственно подумал: «Эге, брат-рубака, отмахался, знать!»
Хозяин — небольшой рыжеватый казак, проворный, ловкий — сидел на полу среди комнаты, по-китайски поджав ноги, и плел из прутьев внушительную по размеру ловушку — «морду». Его старший сынишка — мальчик лет тринадцати — распаривал в плите на жару прутья и подавал отцу. Дело привычное, судя по тому, как безошибочно угадывал он малейшее движение своего родителя. В комнате остро, по-весеннему, пахло красноталом и китайским лимонником.
— Садитесь, гостями будете, — приветливо сказал Никита Фомич, поздоровавшись с Василием и его спутниками. — У меня, видите, фабрика на полном ходу. Ты, Ваня, подавай прутья. Не задерживайся. Нам управиться надо, пока плита не выстыла.
Казаки на лавке потеснились. Двое молодых пересели на порожек. Гости уселись, и тут все взрослые сразу потянулись к кисетам — спасительная привычка.
Когда дым от цигарок смешался и поплыл широкой струей к раскрытой дверце плиты, один из казаков спросил:
— Городские, стало быть? Любопытствуете на наше житье?
— Помочь вам хотим, — ответил Чагров.
— Помо-очь, ну?..
— Что-то не видали мы таких охотников.
— Они помогут себе в карман!
— Да у вас самих в карманах один шиш, и выворачивать не надо, — смеясь, сказал Савчук.
Казаки загудели:
— Верно-о.
— Только счет, что хозяева. На три двора — один плуг, и тот без лемеха.
— Положеньице, хоть скачи, хоть плачь!
— Без лемеха в крестьянском деле действительно нельзя. А весна не за горами, — с чисто крестьянской степенностью сказал Чагров. — Что ж, дадим вам лемехи. В этом и будет наша помощь.
— Вот это дело, если не врете.
— Не приучены врать. Да и не к чему. — Мирон Сергеевич с доброжелательной улыбкой посмотрел на сидевшего ближе к нему рослого казака в желтом дубленом полушубке. Тот, прищурясь, выдержал его взгляд, спросил:
— Потом небось хлеба потребуете?
— А где нам взять хлеб-то? — вопросом же ответил Чагров. — На то у нас и есть союз рабочих и крестьян.
— Так то крестьян, а мы — казаки! — со смешком заметил парень с порожка, прекратив на минуту грызть семечки.
— Каза-аки... Знаем мы вашу вольную жизнь, — усмехнулся Савчук. — Если не считать атаманов.
Парень на порожке блеснул глазами.
— Вот у нас Тебеньков живет — всех в округе как липку дерет.
— Тебеньковых мы под корень срежем, дайте срок.
— Ага, так он и дается. — Коренев внимательно посмотрел на Савчука, на его шинель. — На Стоходе, случаем, не довелось добывать?
— Нет, мы на реке Стырь стояли, — ответил Савчук.
— Рядом. Был и я на Стыри, будь она проклята! — Коренев выразительно тряхнул пустым рукавом. — Выходит, мы — земляки. А Тебеньковых порода цепкая, это вам надо знать, — и он еще раз, но уже коротко рассказал о Войсковом круге в Имане.
Чагров нахмурился; слушал он внимательно, изредка поглядывал на казаков, пытаясь угадать, как те воспринимают сообщение однорукого. Его несколько смущало то обстоятельство, что Коренев лишь излагал факты, но не давал им своей оценки. Впрочем, казаки знали его отношение к событиям; об этом у них шел разговор перед приходом Савчука и Чагрова.
— Так что теперь у нас свое войсковое правительство, имейте в виду, — все с той же неясной усмешкой заключил Коренев. — Что, не по душе новость?
Савчук сердито отчеканил:
— Не было в тот час меня там с батальоном грузчиков. Я бы им прописал... правительство.
— Стрелять они умеют не хуже вашего...
— Выходит, брат на брата поднимают. Как это можно? — Приходько заметно волновался, ломал на мелкие кусочки подобранный с полу прутик.
— Да, брат на брата! В этом суть. — Чагров успел обдумать неожиданную и неприятную новость. — Хотят натравить казаков на крестьян и рабочих, чтобы богатым снова на шею народу сесть. На темноту вашу рассчитывают.
— Н-да... — задумчиво протянул казак в желтом полушубке. — Пороли мы вашего брата нагайками, пороли... а выходит, — сами себе вредили.
— Интерес у трудовых казаков и крестьян один, товарищ из городу правильно заметил. — Коренев ловко одной рукой свернул на столе цигарку, прикурил от лампы. — И насчет союза с рабочими сказано верно, — продолжал он, сделав одну за другой две глубокие затяжки. — Она, размежевка эта, по всей линии так и идет: богатые к одной стороне, а нам — в другую. Стеной друг против дружки. А там — чья возьмет.
— Тут, товарищи, в результатах сомневаться не приходится, — Чагров очень обрадовался поддержке, которую встретил у Коренева. — Главное — держаться дружно. Наша сила в организованности. Ленин так учит.
— От большевиков к нам представители, что ли? — спросил хозяин, прикручивая проволокой плетенную из прутьев крышку. — Вот и управились мы, Ваня! — Он поднялся, отряхнул со штанов мусор и ногой отодвинул готовую «морду» к стене.
— От большевиков! — подтвердил Савчук; шагнув через комнату, он деловито пощупал прутья ловушки, проверил крепость связок, усмехнулся: — Дурак, однако, ленок, если лезет в этакую вот штуку.
— Дураки не только ленки, — угрюмо отшутился хозяин и принялся мыть руки.
Приходько тоже подвигал «морду» взад-вперед, одобрил:
— В самый раз на фарватер ставить. Для Тебенькова смастерил, Никита Фомич? Широко размахнулся ваш атаман — через всю реку.
— Он и дальше пойдет, если не остановят, — язвительно заметил один из молодых казаков.
— Стало быть, дядю на помощь надо звать, сами не справитесь? — с нескрываемой насмешкой спросил Савчук, — Легко ему тут верховодить. Волк среди барашков.
— Ты, паря, казаков зря не задевай. У нас своя жизнь. Свои порядки. — Богатырь в желтом полушубке обиженно засопел, заворочал глазами.
— Вот и Тебеньков на Войсковом круге то же самое говорил. Вы с ним как спелись. — Коренев швырнул окурок в плиту и сел на прежнее место. — Беда, ей-богу! Казачьи привилегии нам вроде той «морды», что у стены стоит. Куда ни кинься — перед глазами прутья. Или канторы у лошади. Здорово придумали, едри их в корень!
— Сословие! Свое стойло для каждой скотины. По казарменному царскому распорядку, — живо подхватил хозяин, очень довольный, что разговор отошел от щекотливой и неприятной темы. Дело в том, что ловушку он действительно изготовил по заказу Тебенькова для нового заездка; дал уговорить себя и из-за этого все время испытывал неловкость.
Но Приходько тоже не лыком, шит. Известие о том, что чернинские казаки перегораживают главное русло реки, взбудоражило жителей верхних деревень. Горячие головы предлагали двинуться в Чернинскую и самим уничтожить заездок. При этом легко могло быть спровоцировано вооруженное столкновение, что было бы на руку лишь казачьей верхушке. Чагров не посоветовал сразу прибегать к крайним мерам. «Вот если бы казаки сами сломали заездок да поссорились при этом с атаманом — лучшего и желать не надо», — так он сформулировал линию их поведения, обнаружив тонкое и верное понимание остроты и сложности создавшейся обстановки. Действуя в соответствии с-этим. планом, Приходько счел момент для разговора о заездке самым подходящим.
— Однако вы с уловом будете. Гляжу, реку всю перехватили, — простодушно начал он, но не выдержал взятого тона и язвительно спросил: — Не жирно ли будет, а?
— Кому как. Нам — нет, — ответил с усмешкой молодой казак. — А Тебеньков у нас — человек поджарый, через него пища, как сквозь железную трубу, идет. Сам не съест — другому все равно не даст.
— Верно! У него рука от рождения в одном направлении действует — хватать, а чтобы разжать да выпустить — этого никто не видал.
— Стукнуть как следует по башке, вот и разожмет руки, — сказал Савчук.
— А ты, мил человек, то прими во внимание: ссориться с Архипом Мартыновичем нам расчету нет. Мы у него в долгу как в шелку, — неодобрительно заметил казак в желтом полушубке. — Да и время позднее, — продолжал он, потоптавшись нерешительно среди комнаты. — Утром за сеном ехать. Я уж пойду. — И он взялся за скобу двери.
— Вот такой у нас народ! — с досадой проговорил парень, первым начавший разговор о Тебенькове. — Соберемся, погуторим — и каждый в норку. Ну чисто суслики. Тьфу!
— Лиха беда — начать. Пяток-то смелых, наверно, найдется? — сказал Чагров; молодые парни ему определенно понравились.
— У казаков да не найтись!
— Вот сломайте Тебенькову заездок. Сами казаки. Пусть он беззаконие не творит.
— Да за такое дело при царе тоже по головке не погладили бы! Рыба-то переводится. Ей свободный ход нужен.
— Ох и взъерошится атаман! Крику будет, боже мой.
— Погодите, наши-то заездки ниже стоят, на проточках. Зачем нам ввязываться?
— А нам, значит, из-за вас и детишек ухой побаловать нельзя? — с нескрываемой обидой и раздражением спросил Приходько.
— Выходит, нельзя.
— А это справедливо?
— Н-нет. Но все-таки...
— Не по-соседски рассуждаете, казаки. Тогда с землей на бугру тоже.
— Да пашите вы эту землю, слова против не скажем! Бугор нам без надобности. Кто за реку потащится? Земли и здесь довольно, была бы горбушка крепкой.
— Тебеньков вам препятствует из принципа. Куражится.
— Это верно. А все же неприятности из-за вас наживать — охоты нет. Атаман у нас как-никак — начальник.
— Ну и целуйтесь с ним! — Приходько вскочил, позабыв свое намерение довести дело до конца мирным путем. — От вас справедливости, видно, не ждать. Завтра придем — сами тут все порушим, — и добавил угрожающе: — С оружием придем, если на то пошло.
— Ты сядь, пожалуйста, и не пори горячку, — одернул его Чагров. — Сядь. Можно спокойно с людьми договориться.
— Да что толковать! Они как собаки на сене.
— Кто собаки, мы?..
— Тихо, станичники! Ломать заездок — так непременно самим. Пусть Тебеньков знает: казаки его подлости не потатчики, — решительно вмешался Коренев. — Ведь как задумал, прохвост! Поссорить вас и ловить рыбку в мутной воде... А ты, Никита Фомич, чего притих? — продолжал он, обращаясь к хозяину, мрачный вид которого бросался в глаза. — Раньше будто похрабрее был?
— У меня, Антон Захарович, видишь — семь ртов. И каждый есть просит, да еще по три раза на дню, — хмуро сказал хозяин.
— Значит, для него «морду» смастерил? — без жалости спросил Коренев, не называя, впрочем, фамилии Тебенькова. — Не знал я, что нынче между вами дружба.
— Для него, — глухо подтвердил Никита Фомич, еще ниже опуская голову. Затем в какой-то неуловимый момент он весь преобразился: глаза у него засверкали, движения сделалась уверенными, быстрыми и голос посвежел. — Дружба между нами — только топором разрубить. Вот так!.. — Никита Фомич нагнулся, подхватил топор и несколько раз сильными меткими взмахами ударил по связкам только что изготовленной ловушки. На глазах у оторопевших зрителей все сооружение рассыпалось и осело на пол бесформенной кучей прутьев. — Ваня, поди сюда, — сказал Никита Фомич, заглянув за перегородку. — Выбрось-ка мусор во двор!
— Давайте утром соберемся часам к десяти. По дворам народ покличем, — предложил молодой казак, очень довольный таким оборотом дела. — Вы не думайте, у нас тебельковскую затею очень не одобряют, — сказал он затем Приходько.
— Вот и договорились. Вот и хорошо! — Чагров поднялся, посмотрел на часы-ходики. — А не пора ли нам, Иван Павлович, на станцию?
— Да поезд уже возле моста шумит. Опоздали вы, — сказал Ваня, вернувшись со двора, куда выносил прутья.
Действительно, с улицы донесся тонкий свисток локомотива и глухой шум: поезд шел по мосту.
— Придется вам у нас заночевать, — сказал хозяин. Теперь он чувствовал себя менее связанным. Неприятным было лишь предстоящее объяснение с женой; однако из-за гостей разговор с нею оттягивался. Все складывалось как нельзя лучше. — Чаю попьем и на боковую, — продолжал он таким тоном, будто предлагал бог знает какое угощение и сон в царских палатах. — Ты, Василий Иванович, задержись. Завтра поглядишь на ералаш. Пока Архип Мартынович дела государственные вершит — дома у него все вверх дном! Ловко, а? — И Никита Фомич в первый раз за вечер рассмеялся.
Казаки один за другим потянулись к выходу. Вышли и приезжие. Приходько распрягал лошадь и с помощью подоспевшего Вани устраивал ее на ночь. Савчук поглядел на реку, на небо, вспомнил Дарью и пожалел, что они так замешкались и не поспели на поезд. Чагров же думал: «Придется, однако, еще на сутки задержаться. Как бы они тут на попятный не пошли. Нет, не должны. Прошла и здесь плугом революция». Мирон Сергеевич поднял голову, посмотрел на звезды, и далекий Млечный Путь тоже показался ему гигантским следом невидимого плуга.
Архип Мартынович приехал утром. Вставало солнце, когда поезд шел по мосту через Чернушку. Тебеньков заметил протянувшийся через реку строгий пунктир кольев и удовлетворенно крякнул. «Молодец, Егоровна!» — похвалил он жену.
Поезд проскочил мост и пошел на подъем. Вместо широкой панорамы станицы перед глазами атамана замелькал рыжий глинистый откос глубокой выемки. Скорость движения сразу уменьшилась. Через минуту-другую состав еле тащился.
Архип Мартынович проводил глазами медленно уходящий назад верстовой столб, вспомнил, что от станции тащиться обратно целых две версты, и схватил с полки свой баул. Как прежде, в молодые годы, он решил спрыгнуть на ходу.
Но пока Тебеньков шел через вагон, расталкивая пассажиров, пока открыл пристывшую дверь, поезд перевалил высшую точку подъема и стал набирать ход. Вагон сильно потряхивало на стыках, внизу что-то скрипело, лязгало. С площадки бил встречный ветер. Открылся вид на расположенную в низине бурминскую лесопилку. Впереди показалась поднятая рука входного семафора.
«Эх, замешкался!» — с досадой подумал Тебеньков. В следующее мгновение — он не помнил, как это получилось, — его нога оттолкнулась от ступеньки вперед по ходу поезда, тело описало в воздухе некую дугу, и новоиспеченный член войскового правления уткнулся носом в сугроб. Прыжок, в общем, получился удачный. Тебеньков отряхнулся, подождал, пока промелькнет мимо последний вагон с не погашенным еще красным фонарем на задней площадке, подобрал баул и зашагал по шпалам до переезда.
Настроение у него было превосходное.
Домой он прошел переулком, что протянулся над самой рекой. Полюбовался заездком. Посмотрел, как вился дымок над железной трубой мельницы.
— Все живы-здоровы? Убытков не наделали? — спросил он, неожиданно для домашних открывая дверь своего дома.
— Архип Мартынович! — Егоровна так и присела. — Поезд ведь только прошел. Ты откуда взялся?
— Я в выемке соскочил. Договорился с машинистом, он тихий ход дал, — приврал Архип Мартынович, зная, что Егоровна будет по этому поводу целую неделю ахать и охать. — Микишка для заездка «морду» сготовил?
— Нет еще. Сегодня обещал закончить.
— Не беда. Ход сейчас так себе, — против ожидания Егоровны довольно миролюбиво заметил Тебеньков. — Муки по уговору дала им?
— Прибегала давеча Микишкина жена. Пришлось дать.
— То-то, — Архип Мартынович прошелся по горнице, расчесал у зеркала бороду. — Пока ты тут возишься с завтраком, я и Микишке схожу. Поторопить надо. Совесть у людей не больно велика.
И Архип Мартынович направился к соседу.
Никита Фомич, легко одетый, несмотря на морозец, как раз поил коня Приходько. Он вынес ему из избы целое ведро теплой воды; конь пил с жадностью, большими глотками. Его следовало бы напоить вечером, да Василий из-за позднего времени постеснялся спросить ведро, а хозяин не догадался предложить. Зато сейчас он без чувства собственного превосходства думал: «Что ни говори, а у крестьян нет казачьей сноровки. Разве ж казак позволит такое? Сам будет голоден, а коня накормит и напоит. Да еще укроет шинелкой от холода». Никита Фомич в эту минуту забыл, что на его дворе вот уже пять лет коней не бывало.
За такими мыслями его и застал неслышно подошедший сзади Архип Мартынович.
— С покупкой, Никита Фомич! Хозяйством, гляжу, обзаводишься. Давно пора, — не без иронии сказал атаман и взглядом знатока осмотрел коня. Он знал, что конь чужой. Но отчего не посмеяться над соседом? — Конишко-то староват, — безжалостно продолжал он, обойдя кругом и заглянув коню в зубы. — На задние ноги не припадает, не замечал?
— Резвый конек, по виду не скажешь, — сдержанно ответил хозяин двора и выжидательно уставился на Тебенькова. Вопрос о принадлежности коня он намеренно обошел.
— Егоровна говорит, «морду» ты закончить обещался. Надо поставить сегодня. И так задержались. Щиток верхний сделал? Или не догадался? — уже другим тоном осведомился Тебеньков и посмотрел на кучу тальниковых прутьев, лежавших в трех шагах от него.
— «Морду»?.. Сделал, как же. Вот она, забирайте, — ответил Никита Фомич и показал на прутья.
— Ты что, смеешься? — Архип Мартынович побагровел. — Я таких шуток не люблю, должен знать, Микишка.
— А я не шучу, Архип Мартынович. Я сущую правду говорю. — Никита Фомич настороженно следил за каждым движением Тебенькова; атаман был горяч и частенько давал волю рукам.
— Ах ты, сукин сын! Прощелыга! — завопил Тебеньков. — Муку небось не постеснялся — взял.
— Об этом жену мою спроси, почему она поторопилась. А у меня душа не лежала с самого начала. Незаконное дело затеял, Архип Мартынович, — с достоинством ответил Никита Фомич. И хотя Тебеньков, как задиристый петух, наскакивал на него, он не отступал ни шагу.
— Законное?.. Незаконное?.. Тебе, что ли, судить? Ты кто такой? Что за шишка на ровном месте? — хрипловатым тенорком выкрикивал атаман, смущенный, однако, спокойствием и твердостью соседа. — Я тебе этого не спущу, Микишка. Видит бог, не спущу.
— Да не в вашем обычае — спускать, я знаю, — спокойно согласился Никита Фомич и вдруг тоже озлился. — А ты чего орешь тут, на чужом базу? Чего кричишь, я ведь не глухой! — В свою очередь он стал наступать на Тебенькова, держа на отлете пустое ведро. — Вот турну тебя зараз, чтобы наперед потише был. Кончилась ваша власть!
Оторопев от неожиданности, Архип Мартынович попятился, отступая. Так друг за другом они прошли шагов десять и очутились у самого крыльца.
— Да ты что, Никита Фомич! Белены объелся? — Тебеньков уперся спиной в перильце и остановился. — Я ведь должностное лицо, — сказал он, обретая вновь подобающие ему осанку и достоинство. — Криком мы друг другу ничего не докажем. Разве нельзя по-хорошему договориться, по-соседски?
— По-хорошему? Ладно. — Никита Фомич поставил ведро на крыльцо. Он заметил, что атаман струсил, и это было приятно. — Не думай, что я сам по себе решил. Я ведь «морду» твою, будь она проклята, сделал. Сколько времени потратил. Да после топором порубил. Потому что справедливости на твоей стороне нет. Против общего интереса одному идти нельзя. Негоже это, Архип Мартынович, — и Никита Фомич довольно путано и бессвязно рассказал атаману о намерении казаков уничтожить заездок, — Да вот, кажется, вдут уже. Зараз твою городьбу поломают, — заметил он, услышав голоса и смех в переулке.
Архип Мартынович побледнел пуще свежевыпавшего снега, у него даже язык на некоторое время отнялся. Раскрыв рот, он жадно хватал губами холодный воздух.
— А-а-а!.. Разорить меня сговорились! Смутьяны! Большевики! — прорвался наконец из горла истошный крик, и он в бешенстве затопал ногами. — Ну, я же вам... Я вам!
На крик Тебенькова из избы вышли люди. Первым появился Ваня, затем жена Никиты Фомича, а за ней — Савчук, Чагров и Приходько. Тебеньков, оказавшись в окружении, сразу осекся. Щеки его после приступа бледности порозовели, кадык дергался, глаза лихорадочно бегали по лицам. Как ни был взвинчен Архип Мартынович, острый взгляд его примечал и военную осанку Савчука, и спокойно-насмешливое выражение глаз Мирона Сергеевича, и откровенное любопытство, написанное на простоватом, бесхитростном лице Приходько.
— Что за шум? — грубоватым тоном спросил Савчук, сверху вниз посмотрев на оторопевшего Тебенькова. Он возвышался перед атаманом как монумент.
— Мы с соседом тут поговорили. Да не сошлись по мелочам, — сказал Никита Фомич; в глазах у него заплескался смех.
Архип Мартынович воинственно задрал кверху бородку, внимательно посмотрел на Савчука.
— Что за люди? Откудова взялись? — спросил он привычным, начальственным тоном.
— А ты сам кто будешь? — дерзко ответил вопросом же Савчук, хотя Приходько успел шепнуть, что перед ним чернинский атаман собственной персоной.
— Я — станичный атаман, — с достоинством сказал оправившийся от замешательства Архип Мартынович. — Прошу предъявить документы!
— Пожалуйста! — Мирон Сергеевич сунул руку во внутренний карман замасленного пиджака и протянул Тебенькову свернутую осьмушкой бумагу — мандат от Хабаровского Совета. — Тут и цель поездки обозначена, — сказал он.
Пока Тебеньков сухими, желтыми от табака пальцами развертывал документ, Савчук грозным взглядом смотрел на него и легонечко барабанил пальцами по деревянному футляру маузера. Архип Мартынович прекрасно понял значение этого жеста. Сердце у него екнуло. Но у него все же хватило благоразумия не подать виду, как он перетрусил. Он нарочито долго читал бумагу, вернее, делал вид, что без очков плохо разбирает написанное. Тревожные мысли теснились в голове. «Значит, и сюда они добрались. Вот не было печали! Ага, по ремонту, стало быть. Ишь с какой стороны подъезжают...» Холодный пот выступил у него на лбу под папахой.
— Что ж, милости просим, граждане дорогие, — сказал он наконец, делая широкий приглашающий жест. — Плуги, бороны для починки у нас тоже сыщутся. Инвентаря, который в негодности, тут хватит. А от добра кто откажется? Будет вам полное содействие от станичного правления. — И Архип Мартынович повернулся к Никите Фомичу. — А ведь ты прав, сосед! Заездок придется сломать. Я против мнения казаков идти не могу. Ошибся, видать, спасибо людям — поправили. Так оно и должно быть. Так нашу новую жизню сообща и строить, — легко и быстро говорил Тебеньков, бегая взглядом от Савчука к Чагрову.
«Ну, хитер! Ну, изворотлив!» — думал Чагров, не без удивления наблюдая новый для него экземпляр человеческой породы. Тебеньков представлялся ему действительно опасным и сильным противником.
— Железных изделий нынче мало. Голод. А цена какая будет лемехам? — допытывался Архип Мартынович. — Вам в розницу торговать расчета не будет. Накладной расход. Убыток.
Снизу от реки донеслись удары пешней о лед. По переулку с криком и гамом неслись ребятишки.
— Однако оденемся да пойдем. А то без нас там скучно, поди, — откровенно смеясь над попыткой Тебенькова навязать себя арсенальцам в посредники, предложил Никита Фомич.
— Пойдем! Оно и сподручнее, ежели сам хозяин. Пойдемте, граждане, — не моргнув глазом, сказал Тебеньков, будто в горячую, страдную пору приглашал всех к себе на помощь.
Он забежал в свой двор, схватил железный ломик и рысцой потрусил по крутому спуску к реке. Его появление произвело как раз то самое впечатление, на которое он рассчитывал. Когда он показался из-за баньки с ломиком на плече и решительно зашагал к небольшой группе казаков, возившихся у края заездка, сверху раздался предостерегающий женский возглас:
— Ой, казаки, Тебенько-ов!
— Неужто драться станет? — неуверенно спросил кто-то.
Казаки делали вид, что не замечают приближения атамана. Архипу Мартыновичу это особенно не понравилось.
— Бог помощь, станичники! — крикнул он громче обычного, чтобы привлечь внимание. И упрекнул: — Вот ведь не могли меня дождаться!
— Да думали управиться сами, Архип Мартынович. Не затруждать, — насмешливо сказал молодой казак, который был одним из главных зачинщиков.
Атаман смерил его гневным взглядом.
— Не болтай, пришел ведь дело делать! — и яростно ударил ломиком об лед.
Архипу Мартыновичу казалось, что не ледяные осколки летят во все стороны из-под острия, а рушится вся его, тебеньковская, жизнь, сверкают радугой под солнцем его разбитые, несбывшиеся мечты. Но мало-помалу атаман поостыл, в голове у него прояснилось, и положение перестало казаться ему таким безнадежным. Он стал зорко присматриваться к казакам, примечать поведение каждого, даже порадовался тому, что подоспел вовремя. Для его планов надо было знать действительное настроение станичников. Стоило пожертвовать ради этого даже заездком.
Пока шло разрушение заездка, Архип Мартынович переходил от одной группы казаков к другой и в каждом месте терпеливо объяснял, почему он ошибся.
— Дела, общественные дела! Голову прямо как застило. Из-за того и убыток терплю. Да бог с ним! Зато с людьми не в ссоре. — Он был так кроток, выражал такую готовность подчиниться общему решению, что казаки только переглядывались. Никто не узнавал атамана. Все гадали, отчего это с ним приключилась такая перемена? А Тебеньков как ни в чем не бывало шутил, смеялся. Казалось, он больше других был доволен тем, что тут происходит. Он так вошел в роль, что опять начал командовать и покрикивать.
— Веревку сюда надо, колья расшатывать. Беги-ка, парень, во двор ко мне. Скажи Егоровне, — говорил он в одном месте. Через минуту в другом конце заездка слышалось: — Фашинник под лед спускайте! На кой ему тут мусором лежать.
Вскоре с заездком было покончено, истоптанный снег покрылся разбросанными повсюду прутьями, кольями. Чернушка весело бурлила в свежих прорубях.
На душе у Архипа Мартыновича, несмотря на наигранную веселость, было мрачно. От голода и всего пережитого ломило под ложечкой. Перенести до конца свое унижение было нелегко.
Когда последняя группа казаков стала подниматься на яр, Архип Мартынович повернулся к ним спиной и сделал вид, что с интересом созерцает реку. Он знал, что люди будут оглядываться на него, и хотел еще раз продемонстрировать свою безучастность к случившемуся. Но в фигуре его, помимо желания, заметна была пришибленность. И это всем бросилось в глаза.
Подождав немного, Архип Мартынович поболтал для чего-то ломиком в проруби, вздохнул и устало поплелся по тропке на свой баз. Теперь уже не было нужды скрывать свои чувства.
На перелазе, едва Тебеньков занес ногу над жердочкой, его чуть не сбил с ног дворовый пес Полкан, на всякий случай спущенный Егоровной с цепи. Архип Мартынович пинком отбросил его. Но пес опять забежал вперед и ошалело, с игривым повизгиванием кинулся ему на грудь. Архип Мартынович сдернул с плеча ломик, молча развернулся и наотмашь изо всех сил ударил собаку по передним лапам. Полкан сразу осел на снег, дикий собачий вой разнесся по двору.
Егоровна выбежала на крыльцо, когда Архип Мартынович с грозным видом поднимался по ступенькам. Он швырнул ей под ноги лом и молча прошел в дом. Егоровна поставила ломик в угол, подошла к собаке, ползавшей на снегу. На руках перенесла ее к конуре возле крыльца. Пес тихо скулил, лизал ей руки. Но он сразу зарычал, как только она попыталась ощупать повреждение. Впрочем, и так было ясно, что правая нога у собаки перебита начисто.
«Ах, изверг! Собака ему помешала, скажи на милость!..» — с давним раздражением подумала она. Полкан был отличным сторожем, и Егоровна ценила его.
— Покалечил Полкана, совести, видно, у тебя нет, — сказала она со слезами в голосе, вернувшись в горницу.
Архип Мартынович весь затрясся, лицо его так сильно исказилось, что Егоровна испуганно отшатнулась. Она подумала, что мужа хватил удар.
— Молчи! Я пса твоего изничтожу и тебя тоже, — рявкнул не своим голосом Тебеньков, сорвал со стены винтовку и выбежал во двор. Тотчас там один за другим грянули два выстрела. Собачий вой оборвался.
Архип Мартынович, не глядя на жену, притихший после внезапной вспышки, прошел в комнату и начал разбирать и чистить винтовку. И, странное дело, холодок металла, осязаемый пальцами, окончательно успокоил его не в меру расшалившиеся нервы. Архип Мартынович присел у стола и глубоко задумался.
А на кухне, в уголке, прижавшись лицом к стене, беззвучно плакала Егоровна.
После отъезда Архипа Мартыновича у Смолина продолжалось гулянье. В обоих домах ночь напролет светились окна. На улицу вырывались разухабистые песни, топот, пьяная ругань.
У изгороди позванивали уздечками оседланные кони.
Смолин был очень удивлен тем, что есаул Калмыков так неожиданно и быстро пошел в гору. Шутка ли, исполнять обязанности войскового атамана! И что такое есть в нем? Сколько, однако, Смолин ни ломал голову, никаких достоинств в своем квартиранте обнаружить не мог. Это смущало и раздражало одновременно. Затем практичный домовладелец сообразил, что из создавшегося положения можно извлечь выгоду: он сразу переменил свое отношение к квартиранту.
Смолин был ловок в делах, изворотлив и жаден; поговаривали, что его богатство нажито прямым преступлением. Когда-то, охотясь в тайге, он подстерег и убил удачливого искателя женьшеня. Да и позднее он не раз выходил с берданкой на потайные тропы. Этому охотно верили... и все же Смолина уважали и боялись, как человека сильного. Он никому не был, должен, но зато многие в маленьком городке были в долгу у него.
Не лебезя перед Калмыковым чрезмерно, Смолин разговаривал теперь с ним тоном самым почтительным, атаману ни в чем не перечил и пожелания его выполнял быстро. Смолин оказался незаменимым человеком. Неведомо каким путем он доставал запечатанные сургучом четверти со смирновской водкой, очищенный спирт, коньяк. На дворе у него резали гусей, кололи раскормленных кабанчиков.
Заметив однажды косой взгляд; брошенный Калмыковым на Агашу, Смолин счел за лучшее убрать пока строптивую батрачку с глаз атамана. Он разгадал мстительный и злобный характер Калмыкова. «Еще сотворит чего с девкой, дуракам закон не писан», — подумал он и туг же подал Агаше знак, чтобы она вышла из комнаты.
Смолин взял девушку в дом несколько лет назад, после смерти ее отца, одевал, кормил, нагрузил до отказа работой, но позабыл платить за нее. Агаша так и батрачила за еду и жилье; сперва она жаловалась соседям на свою судьбу, потом перестала — куда денешься?
Терять даровую работницу Смолину не хотелось.
— Ты, девка, поезжай к моему братану, Иннокентию. В молотьбе пособишь, что ли. Вертеться тебе тут не следует. Поняла? — сказал он, хмуро и неодобрительно глядя на Агашу.
— А я сказала: полезет он еще, так в поганом ведре прохвоста утоплю! — с вызывающей смелостью отозвалась девушка.
— Ду-ура, ты меня утопишь, не только его. — Смолин не знал, как вести себя в таком случае. Смелость и независимость батрачки вызывали у него какое-то сложное и противоречивое чувство. — Запрягай гнедого и поезжай. Я тебе сто раз говорить не буду. Да не болтай там, чего не положено.
Агаша собрала вещи, запрягла коня. Она несколько раз с вызывающим видом прошлась перед окнами Калмыкова и уехала.
А Смолин с отъездом Агаши забеспокоился: положение войскового правления перестало казаться ему прочным. Он подсчитал произведенные расходы, прикинул лишку и направился за расчетом в войсковую канцелярию.
Канцелярией управлял Мавлютин. По его указаниям писцы строчила множество бумаг, которые рассылались по округам и станицам с конными нарочными. Создавалась видимость напряженной работы. Но Мавлютин был достаточно трезв, чтобы видеть, как повсеместно строевые казаки уклоняются от явки в полк, хотя приказы об этом были изданы наистрожайшие. Более того, за одну последнюю ночь из полка и конвойного эскадрона дезертировало с десяток человек. Рядовые казаки открыто выражали недовольство действиями своей верхушки.
Особую те симпатию казаков вызывало стремление советского правительства покончить с войной. Четырехлетняя кровопролитная война принесла этим людям столько страданий, что никакая ложь не могла уже скрыть от них истинного значения декрета о мире, подписанного Лениным. К разноречивым сведениям о ходе мирных переговоров в Бресте казаки прислушивались с величайшим вниманием.
Мавлютин понимал опасность такого рода настроений.
— Скажите, полковник, вы в самом деле не верите, что большевики хотят мира? — прямо спросил его один из работавших в правлении войсковых старшин. Это был пожилой, рассудительный человек с солидным военным образованием.
— Нет, мира они добиваются искренне. Но я не хочу их мира, понимаете! Мир — это гибель для нас, — ответил Мавлютин, полагая, что в данном случае можно быть вполне откровенным.
Войсковой старшина покачал головой и ничего не сказал. На другой день стало известно, что он уехал к себе домой.
К тому же и местный Иманский Совет не терял времени даром. Иманские большевики вели агитацию не только среди железнодорожников и рабочих лесозавода, среди крестьян уезда, — их представители все чаще появлялись в казачьих станицах и в самом иманском конвойном эскадроне. Под боком у войского правления проходил обучение иманский отряд Красной гвардии. И с этим скрепя сердце приходилось мириться. Правленцы понимали, что попытка разоружить местных красногвардейцев завела бы их слишком далеко. Они не чувствовали себя достаточно сильными для того, чтобы первыми бросить вызов.
Приход Смолина за расчетом, как тот ни хитрил, ссылаясь на неотложный платеж, показал Мавлютину, что их шансы удержаться здесь расцениваются невысоко даже такими богатеями. Это его встревожило, и он решил серьезно поговорить с атаманом. Для разговора Мавлютин выбрал утренний час, чтобы застать Калмыкова трезвым.
Но уже подходя к воротам смолинского дома, Мавлютин понял, что расчет не оправдался. По меньшей мере десяток голосов горланило на всю улицу; в чьих-то неумелых руках коротко взвизгивала гармошка.
— Атаман давно встал? — хмуро спросил полковник у Варсонофия Тебенькова, который в это утро был дежурным офицером.
Тебеньков поднялся, козырнул.
— Да мы еще не ложились, — сказал он.
Два дня тому назад приказом Калмыкова Варсонофий был произведен в следующий офицерский чин. Несмотря на хмельную ночь, на дежурство он явился новенький, отутюженный; на нем блестели ремни, пряжки. Щеки его горели румянцем. Он гордился положением доверенного человека при войсковом атамане. В его гордости было много смешного, но он этого не замечал. Даже прежнюю мальчишескую болтливость Варсонофий пытался уложить в рамки, усвоив себе новую манеру разговаривать — четко, коротко и командным тоном.
Накануне вечером Варсонофий и его дружок возвращались из разъезда. В железнодорожном поселке через улочку метнулась чья-то тень. Офицеры стегнули коней и погнались за убегающим. Человек попытался уйти от них огородом. Варсонофий первым подскакал к забору, прицелился из нагана. Они выпустили по пять пуль, пока попали в убегающего. Человек взмахнул руками и рухнул в снег.
Возбужденно переговариваясь, офицеры объехали кругом забор и приблизились к месту, где лежал упавший.
— Подержи, пожалуйста, повод, — сказал Варсонофию его спутник, спрыгнул на снег и повернул убитого вверх лицом.
Перед ними был мальчишка лет четырнадцати.
— Ошибочка вышла. Зря парня ухлопали.
— Нашел о чем жалеть. Мало ли что случается? — Варсонофий явно бравировал спокойствием.
— Постой. Может, он живой еще? — спутник Тебенькова взял у него обратно повод, но не решался сесть на коня.
— Живой, так скоро замерзнет, — ответил Варсонофий и поехал прочь.
Теперь, на дежурстве, это событие еще раз промелькнуло в его памяти, не потревожив особенно совести. Хуже было то, что вокруг инцидента поднялся шум. Калмыков, когда Варсонофий доложил об этом, пренебрежительно махнул рукой: «Ер-рунда! Не то будет...» Человеческая жизнь для него не представляла ценности.
Из горницы, где находился Калмыков, вдруг гурьбой повалили его собутыльники.
— Что такое? Куда уходите? — спросил Тебеньков у толстяка с обвисшими рыжими усами.
— Тсс! Совещание!.. — толстяк предостерегающе прижал палец к губам, гаркнул: — Братия-шатия, айда к Алешке Смолину! Пусть раскошеливается, сукин сын!.. После недавнего шума и крика в доме стало особенно тихо. Из-за двери доносился хриплый, испитой голос Калмыкова. Варсонофий насторожил уши.
— Ну что скажешь, полковник? Ты по какому это праву выпроводил их? Я здесь атаман, — недовольным голосом выкрикивал Калмыков, приподнимаясь на носки и покачиваясь перед Мавлютиным. Воздух с шумом и свистом вырывался у него из груди. С лица не сходило сумрачное выражение.
В последние дни окружающие наперебой заискивали перед ним. Калмыков пыжился, надувался, тянулся изо всех сил, чтобы казаться хоть чуточку повыше. Его малый рост, служивший мишенью для злых шуток однополчан, причинял ему немало огорчений.
Мавлютин поморщился оттого, что Калмыков, бывший лишь в чине есаула, обращается к нему, полковнику, подчеркнуто на «ты».
— Обстановка осложняется, господин атаман. Нам следует посоветоваться о мерах защиты.
— Что?.. Ты думаешь тут удержаться?.. В этом паршивом городишке... Брось! — Калмыков покачал головой. — Да если большевики пришлют сюда хотя бы роту, придется дать тягу. За кордон! Я, брат, не дурак. Не-ет!.. Между прочим, советую тебе, полковник, приготовиться к эвакуации. Упакуй дела, ящик с казной, войсковую печать. Чтобы все было под рукой, — сказал он затем неожиданно трезвым голосом. И Мавлютин впервые подумал, что атаман, пожалуй, не такой уж дурак. Он решил внять совету Калмыкова, чтобы не оказаться застигнутым врасплох.
Калмыков, вероятно, догадывался об отношении Мавлютина к нему. Он посмотрел на полковника и сказал:
— Не будь умнее начальства, это — воз-бра-няется! — Качнулся, уставился опять на него ненавидящим взглядом. — Тебе, слышь, полковник, дороги потому и нет, что ты шибко умный. Ха-ха! Думаешь, я не знаю! Ты ведь шельма... — Погрозив Мавлютину пальцем, Калмыков опять протиснулся за стол. — К черту дела! Зови остальных.
Варсонофий Тебеньков, придерживая рукой шашку, побежал в новый дом Смолина.
К середине дня Калмыков, которого мутило от выпитого вина, выбрался на двор подышать свежим воздухом.
— Что за дьявол! — Он уставился на небо: в небе висело три солнца.
— Это к ветру, ваше превосходительство. Завтра ветер ждать. Должно быть, с утра подуст, — сказал оказавшийся рядом чернобородый казак с плутоватым, цыганского типа лицом. Он намеренно величал Калмыкова как персону генеральского звания.
— А, ветер!.. Ну ладно, братец, ступай, — Калмыков разрешающе махнул казаку рукой и громко икнул. — Ветер, ветер... — недовольно бормотал он, возвращаясь обратно в дом.
Но еще раньше ветра калмыковцев начисто вымела из Имана пулеметная стрельба, раздавшаяся перед рассветом со стороны вокзала. Это выступил по призыву Иманского Совета местный отряд Красной гвардии, поддержанный прибывшим со станции Муравьев-Амурской сводным отрядом матросов Сибирской флотилии и красногвардейцев-железнодорожников.
Машинист тихо, без огней, привел на станцию состав из нескольких платформ и пяти теплушек. Как обычно, у вспомогательных поездов передние платформы были завалены шпалами и рельсами. За ними и укрылись расчеты двух пулеметов «максим».
Когда казаки дежурного взвода, удивленные приходом поезда в неурочный час, высыпали из вокзального помещения на перрон, с платформ по ним ударили длинными очередями. Стреляли нарочно поверх голов. Этого, однако, оказалось достаточно: казаки бросились врассыпную. В железнодорожном поселке их встретили огнем местные красногвардейцы. Возле лесозавода в это время обстреляли казачий патруль.
Через пять минут стрельба подняла на ноги весь калмыковский гарнизон. Никто не помышлял о сопротивлении. Когда красногвардейцы, заняв вокзал, начали продвигаться к центру города, калмыковцы ринулись, в сторону границы. Атаман прежде других.
Утром редкая цепь красногвардейцев беспрепятственно прошла через Иман до станицы Графской, что расположена на самой границе.
...Варсонофий не слышал ни стрельбы, ни поднявшейся при этом паники: он спал крепким, безмятежным сном.
Смолин растолкал его самым бесцеремонным образом.
— Слышь, парень! Беда. Пришли большевики, — говорил он, сильно встряхивая Тебенькова за плечо.
— А?.. Что? — Варсонофий спросонья никак не мог понять, где он находится и что с ним.
— Я форму твою прибрал. Ты надень полушубок да спускайся в подвал, от греха подальше, — продолжал Смолин, еще раз встряхивая не ко времени разоспавшегося квартиранта. — Придется тебе день-другой посидеть взаперти. Под горячую руку попадаться не следует.
— Погоди. А наши где? Мне тут нельзя оставаться, — Варсонофий вдруг вспомнил про убитого мальчика, испугался за себя, затрясся.
— Эге, хватился! Поди уж в китайской харчевне сидят, ханшин пьют, — сказал Смолин. — Я сперва-то кое-что прятал, забыл про тебя. Думаю, задал и ты стрекача. Вернулся в избу, слышу: мычишь, будто телок. Давай будить. Надо же так случиться! Перед Архипом Мартыновичем я за тебя в ответе.
— Как все произошло?
— Да обыкновенно. Поднялась вдруг стрельба... — Дальше рассказывать Смолину не пришлось: послышался сильный стук в ворота. Собаки во дворе подняли лай. — Вот пришли и по мою душу! — заметил Смолин, впрочем, без особой робости.
Тебеньков поспешно нырнул в подполье и чуть не разбил себе лоб.
Днем Смолин на короткое время выпустил его наверх, сообщил с озабоченным видом:
— Скверная, парень, история получается. Ищут тебя. Мальчонку ты какого-то стрелил, что ли?
— Это не я, это другой убил, — поспешно сказал Варсонофий дрожащим, испуганным голосом. — Что же теперь делать? Что делать?
Смолин мрачно покачал головой.
— Вот уж не знаю, — изрек он, задумчиво пощипывая бороду. — Если тебя тут задержат, мне тоже несдобровать. Попробую распустить слух, что ты сбежал за границу. Тебе туда в самый раз было податься.
Дня через три Смолин сказал:
— Ну, будто улеглось. Калмыков с остальными подался в Пограничную и Гродеково. Там им действительно сподручнее. Думают, что и ты с ними. Слава богу... Вот тебе на выбор две дорожки: либо за границу уходи, либо к отцу езжай. Есть у меня знакомый главный кондуктор. Довезет.
Варсонофий выбрал второе.
В Чернинскую он прибыл со всеми предосторожностями: сошел с поезда не на своей, а на предыдущей станции и ночью пешком отмахал десять верст, отделявших его от дома. Он был рад, что никого не встретил на улице.
На стук дверь открыла Егоровна.
— Господи, дождалась-таки! — она всхлипнула у него на груди, посторонилась. — Проходи. Ты каким это поездом? — и чиркнула спичкой.
— Погоди, мать. Я ставни закрою, — сказал Архип Мартынович; по выражению лица сына он догадался, что тот предпочтет, чтобы его прибытие домой оставалось в тайне. — Значит, разбежались, ерои? — без насмешки спросил он, вернувшись в горницу.
Вести о финале иманских событий опередили Варсонофия.
— Ничего нельзя поделать, батя. Сила солому ломит.
— Ломит, ломит, — Архип Мартынович насупился. — Пьянствовали, поди, без просыпу?
— И это было, батя. Было, — улыбнулся Варсонофий. Впервые за последнюю неделю он почувствовал себя в относительной безопасности.
— Всыпать каждому по полсотне горячих. Небось поумнели бы, — Архип Мартынович сердито оборвал смех сына.
— А вы тут как живете? — помолчав, спросил Варсонофий.
— Живем... — неопределенно протянул Архип Мартынович, помолчал и крикнул: — Грабят нас, слышь! Грабят...
Он рассказал сыну о заездке, о новой беде, случившейся только вчера.
— Ездил я на ту сторону. Спирту привез банчков двадцать. Для продажи рабочим с лесопилки. А утром нагрянула корчемная стража как снег на голову. И шасть прямо в омшаник. Свой кто-то доказал.
— Микишкиных рук дело, — со злобой заметила Егоровна. Она собирала на стол; Варсонофий заметил, что руки у матери дрожат.
— Может — его, может — нет. У меня неприятелев тут много. Люди — завистники, — сказал Архип Мартынович, и глаза его сверкнули. — Знаешь, кто корчемниками командует? Васька Ташлыков — левченковский конюх. Этот здесь всю подноготную знает. А сынок Алексея Никитича у него в подручных.
— Саша?.. Не может быть! — усомнился Варсонофий.
— Я тебе точно говорю: он. Мы сперва с ним за руку поздоровались, потом он банчки штыком пороть начал. Все вино на снег вылили. До последней капли. — Архип Мартынович захлебнулся горестным вздохом. — А после Васька Ташлыков говорит: снег на этом месте с навозом смешать надо. Я было думал кое-что собрать. Как в мыслях у меня читал, сукин сын!
Они сели за стол, молча чокнулись стаканами и молча выпили. Варсонофий проголодался, ел с аппетитом.
— Алексей Смолин здоров? Жена у него не померла? — после паузы спросил Архип Мартынович. Он снова наполнил стаканы до краев.
— Болеет. Ее и не слыхать! — Варсонофий единым духом осушил посудину, закусил соленым огурцом. — А Смолин, батя, с другими за компанию в петлю не полезет.
— Я знаю, — Архип Мартынович мотнул головой. — Иннокентий — тот проще. Да будто я погорячее. Мы с ним на службе такое вытворяли... Эх, обидели меня, сынок! Кровно обидели.
— Вашу обиду, батя, я Сашке не прощу. — Варсонофий стукнул кулаком по столу, посуда задребезжала. Ему вспомнилась стычка с Сашей на встрече Нового года у Парицкой.
— Не связывайся ты с ними, ради бога. Сиди уж, — сказала Егоровна, переставляя чашки подальше от края стола. Она не любила и опасалась драк; боялась, чтобы не пострадал близкий человек.
— Нет, не прощу! — Варсонофий посмотрел на отца и в глазах у него прочел одобрение. — Они где квартируют, корчемники? Много их?
— На нашем участке три человека. Ездят больше по двое. — Архип Мартынович закурил папиросу, предложил курить сыну. — Живут у старовера на хуторе. На отшибе, значит, — тут он понизил голос, чтобы не услышала Егоровна: — Был насчет тебя телеграфный запрос.
— А-а!.. Я не жалею, батя. Нисколько, — сказал Варсонофий. Вино придало ему храбрости. Однако сообщение было не из приятных. Он коротко рассказал отцу о случае с мальчишкой.
Архип Мартынович задумчиво пожевал янтарный мундштук, которым всегда пользовался при курении.
— Все-таки дома тебе оставаться нельзя, — рассудительно заметил он. — Переберешься за кордон, будешь жить пока у купца. Я с ним на такой случай договорился. Потом свяжешься с Соловейчиком. Он тебя наставит, как дальше быть. Это мой старый знакомый, курсирует тут по границе. Ну, еще по одной! Когда теперь придется вместе сесть за один стол?..
Третий стакан разобрал и Архипа Мартыновича. Пьянея, он становился мягче, утрачивал обычную свою суровость.
— Ты не реви, дура-а-а, — Тебеньков ласково потрепал жену рукой по плечу. — Ну что теперь делать? Будет скоро переворот, Варсонофий вернется. Жив-здоров и с почетом. Служба перед ним откроется. — Архип Мартынович верил, что переворот неминуемо наступит, возвратятся прежние порядки, и уж тут-то он развернется! Эта вера поддерживала и питала его оптимизм.
Тебеньков умел при нужде стать добродушным, спрятать когти. После истории с заездкой его будто подменили. Но в своей семье Архип Мартынович не находил нужным таиться. Взволнованный предстоящим расставанием, подогретый винными парами, он принялся наставлять Варсонофия:
— Ты, сынок, одно пойми: чем отличается человек от зверя? Скажешь, тем, что на двух ногах ходит, разговаривает, книжки читает? Ерунда!.. Человек понимает пользу хозяйства, а зверь — нет. Хозяйство — это все!.. — сказал он с необычайной убежденностью. — Зверь без хозяйства живет, а человек — подохнет. Вот ты и держись за хозяйство, коли хочешь человеком быть. Тяни домой разное добро. В этом твоя человеческая сущность. Уразумел, а?..
...Утром совершенно неожиданно явился Кауров. На этот раз он был одет под мастерового: суконные брюкв, пиджак е чужого плеча, немудрящая облезлая шапчонка.
— Вот и свиделись мы, Варсонофий! — сказал он с кислой улыбкой, бросив на лавку мятое пальто. — Ты из Имана, я из Хабаровска: везде нашему брату худо. Взялись за нас большевики! Меня чуть не ухлопали, еле удрал... Ради бога, дай стакан водки! В горле страшная сушь...
Не закусывая, он завалился спать и проснулся поздно.
Узнав о намерении Варсонофия рассчитаться с Ташлыковым и Сашей Левченко, Кауров обещал свою помощь.
— Надо обоих живьем взять. Непременно. Устроим прощальный разговор. — Кауров хищно осклабился. — Однако киснуть в китайской лавчонке я тебе не советую. Будем пробираться в Харбин.
Пропели вторые петухи, и они выехали со двора, сопровождаемые Архипом Мартыновичем.
Старовер — вдовый старик неопределенных лет — жил на хуторе, возле самой границы. Место было открытое и веселое. Хутор с довольно многочисленными хозяйственными постройками располагался в излучине Уссури. Река и берег просматривались отсюда на большом расстоянии.
В полуверсте от хутора начинался поселок с единственной улицей, протянувшейся вдоль берега. В половодье река заливала низину между хутором и поселком; сообщение тогда поддерживалось на лодках, или надо было делать верст семь крюку. В поселке жили три сына владельца хутора; после женитьбы они один за другим выделились из отцовского двора. Двух дочерей старик незадолго перед войной тоже выдал замуж и остался один. Батраки у него были из поселка и ночевать уходили домой. Старик жил на хуторе в полном одиночестве. Говорили о нем в округе разное.
Василию Ташлыкову хутор приглянулся как удобное место для наблюдения за прилегающим участком границы. Обзор тут был верст на восемь. Он знал также, что поблизости пролегают тропы контрабандистов. Да и сам старик казался ему подозрительным.
Неделю назад Василий побывал здесь, осмотрел участок и теперь в сопровождении двух молодых конников, одним из которых был Саша Левченко, направлялся сюда нести службу. Оба его товарища впервые выезжали на границу. Боясь пропустить что-либо важное, они вертели головами, глядели по сторонам.
Саша думал о так внезапно происшедшей перемене в его положении, подмечал и оценивал красоту пейзажей, открывавшихся перед ними по мере того, как дорога уходила все дальше и дальше от города.
Левый, китайский, берег на большом протяжении был низменный, изрезанный множеством проток и стариц. Высоко на кустах следы ила, песка и разного мелкого мусора, оставленного минувшим наводнением.
Дорога была занесена снегом, местами на нее вышла наледь, покрытая тонкой корочкой льда.
Впереди показалась большая полынья, следы полозьев обрывались как раз на краю ее. Василий взял палку и, прощупывая ею крепость льда, пошел искать дорогу в обход.
— Придется проехать над берегом, — сказал он, вернувшись. — Лед ненадежный. Видно, тут сильное течение.
Он взял коня за узду и, притаптывая снег, пошел вдоль береговой кромки. Повыше снега кора тальников была почти начисто обглодана — это потрудились зайцы, их следы встречались тут на каждом шагу. Кое-где яр, подмытый рекой, обвалился; обнажились корни деревьев.
Сажен через сто они снова выбрались на дорогу.
Долина расширилась. Большая часть ее была покрыта лесом.
Василий торопился поскорее добраться на свой участок. Он облегченно вздохнул, когда впереди показался хутор.
— Вот здесь, ребята, нам жить. Я договорился с хозяином, — с этими словами Василий повернул коня.
Саша с любопытством огляделся вокруг. Перед ним простиралась равнина, занесенная снегом. Кое-где торчали пучки буро-желтой травы, сухие стебли полыни или зонтичных растений. С другой стороны виднелась осиновая роща, а дальше чернел лес.
Солнце прошло большую часть пути и теперь низко плыло над безлесным китайским берегом.
Неизвестно, каким путем Василию удалось повлиять на хозяина, но он разрешил им занять под жилье давно пустовавшую старую избу. Он даже продал им стожок сена и кулей пять овса.
Старик был немного глуховат, а может, прикидывался таким. Если требовался топор или ломик разбить лед в проруби, приходилось два-три раза повторять просьбу.
— Ась?.. Что? — спрашивал он, а поняв наконец, о чем шла речь, молча указывал место, где лежала нужная вещь.
— Ну, выбрали местечко! Старик определенно шельма. Почему с ним никто из собственных детей не живет? — не скрывая своей неприязни к хозяину, говорил третий боец.
Саша был с ним согласен.
— Бог шельму метит. И нам зевать не надо, — посмеиваясь над опасениями своих товарищей, заметил Ташлыков. — Сюда, ребята, много разных концов тянется.
Ташлыков поразительно быстро установил связи с местными жителями, разузнал, кто чем дышит. Пока молодые бойцы ремонтировали избу, устраивали коновязь, пока печник из Чернинской перекладывал печь, Василий уже со многими в поселке был на короткой ноге. Неразговорчивый, вечно хмурый хозяин тоже охотно беседовал с ним.
— Вы что, контрабанду здесь ищете? Нету тут ничего, — сказал он в первый вечер, понаблюдав, как устраиваются на житье его квартиранты.
— А ты почем знаешь? — спросил Василий.
— Я, мил человек, на три аршина в землю вижу, — похвастал старик.
— В землю видишь, а что на земле делается — не разбираешь, — спокойно ответили ему.
У Саши создалось впечатление, что старик не без задней мысли присматривается к ним. Но о подозрениях своих он пока никому не стал говорить.
Отправляясь на границу, Саша думал, что время у них будет занято непрерывными разъездами, сидением в «секретах», погоней за контрабандистами. Но все оказалось гораздо проще.
Дней пять они безвыездно просидели на хуторе. Затем среди бела дня Василий устроил обыск во дворе одного из поселковых богачей. Владелец двора клялся и божился, что контрабанды у него нет. Пока Василий с завидным терпением слушал его, Саша через узкую отдушину полез под амбар: на сухой земле там аккуратными рядами стояли банчки со спиртом.
— Значит, не твое добро? Бог, видно, послал, — насмешливо сощурив глаза, спросил Василий. — Тогда, ребята, вылейте жидкость на снег. Пусть ею сам бог и пользуется.
Хозяин только зубами скрипнул.
Иногда Ташлыков с Сашей или Саша с третьим бойцом проезжали дозором по участку. Делалось это в разное время суток, без всякой видимой системы (в том и состояла хитрость Ташлыкова). Василий умудрялся совершенно неожиданно появляться там, где его никак не ждали. Этим он удачно компенсировал недостаток сил для охраны такого обширного и сложного по рельефу участка. Саша начал понимать, что куда чаще открытых действий на границе встречаются тайные, невидимые ходы, хитрость. Он удивлялся Василию: тот чувствовал себя здесь в родной стихии.
После обыска у Тебенькова Василий послал третьего бойца в город, наказав возвращаться как можно скорее. Они с Сашей остались вдвоем.
Саша подбросил коням сена и пошел в избу. Еще на крыльце он услышал громкий, насмешливый голос Василия.
— О чем это вы теперь? — спросил Саша.
— Да вот спорим: есть бог или нет, — усмехаясь, сказал Василий.
— И до чего дошли?
— Не порешили еще. Вроде бы и должен быть, хозяин так полагает. Но присмотришься — незаметно... И что за бог, когда зло терпит?
— Зло от диавола, — сердито перебил старик.
— От диавола? Допустим, — Ташлыков лукаво усмехнулся. — Бог всемогущ, а вот черта одолеть — не может. Не справится!.. Как же это понимать, а?
— Диавол допущен в наказание людям за грехи отцов, — возразил старик.
— Наказание?.. А попы говорят, бог добр. Добр и — наказание. Да еще за чьи грехи — ада-мо-вы!
— О попах спору нет, — старик насупился, сердито махнул рукой. — Попы — обманщики. Бога надо в душе чувствовать.
— А душа — что такое? Ее ведь тоже по-разному можно понимать.
Логика была сильной стороной Василия. Старик, чувствуя, что его начали прижимать к стене, рассердился, начал плеваться, вскочил и убежал.
— Я этого человека все-таки словлю. И бог ему не поможет, — сказал Василий, когда шаги старика перестали быть слышными.
Он развернул кисет и стал свертывать из газетной бумаги папиросу. Ему давно хотелось курить, но старик совершенно не терпел табачного дыма. С этим приходилось считаться.
— Утром мы с тобой в Чернинскую поедем. Пораньше надо встать, — продолжал Василий, прикуривая от уголька, захваченного рукой прямо из печки. — Там кончик один следует подхватить.
Рано поутру они встали, позавтракали и собрались ехать. Саша посмотрел на него.
— Кажется, погода начинает портиться. Как, Василий Максимович?
— Погода? — сказал хозяин, выйдя вслед за ними во двор. — Это я, парень, могу сказать. Ошибки не будет. Меня за это астрономом прозвали.
Он внимательно поглядел на небо, подумал, поморгал глазами, лениво произнес, как бы взвешивая каждое слово:
— Кто ж его знает? Если ветер подует, то, может, и разгонит тучи. Опять же и нагнать ненастье может... Я так насчет погоды полагаю: либо распогодится, либо снег пойдет.
— Да ты, папаша, на все случаи сразу загадываешь, — рассмеялся Саша.
— Так оно, парень, лучше. Не прошибешь, — невозмутимо ответил хитрый старик.
Он опять оглядел серое от туч небо, потянул ноздрями воздух, но так и не пришел к определенному заключению о прогнозе погоды на предстоящий день.
— Когда домой вернетесь? — спросил старик, закрывая за ними ворота.
— Да, должно быть, к обеду. Разве припозднимся чуть, — ответил Василий и повернул коня в сторону, противоположную той, куда они на самом деле намеревались ехать.
Лишь за рощей осинника, когда владелец хутора уже не мог их видеть, Василий пустил Нерона прямо по снежной целине. Час спустя они выбрались на торную дорогу в Чернинскую.
Дальше дорога шла лесом. Саша вертел головой, старался угадать породы деревьев и кустарников. Но это оказалось нелегким делом. Кусты, лишенные листвы, делаются похожими друг на друга; даже хорошо знающий местную флору человек не сразу разберет, с каким именно растением он имеет дело.
Среди ветвей Саша заметил поползня. Где-то в глубине леса усердно долбил кору дятел. Целая стая ворон вдруг с гамом и криком пронеслась над дорогой и скрылась за лесом.
Поползни и снегири, занятые поисками пищи, не обращали внимания на конников.
У самого развилка дороги на дереве, точно сторож, сидел желтоногий сыч. При приближении людей он нахохлился и обеспокоенно заворочал головой. Саша крикнул, сыч сорвался с ветки и полетел против ветра, усиленно махая крыльями.
Показалась одинокая скалистая сопка. К дороге она подходила тремя отвесными обрывами, почти лишенными растительности. Снега на них не было, и среди господствующего кругом белого цвета скалы выделялись серо-желтыми цветными пятнами.
— Пять верст осталось до Чернинской, — сказал Василий.
Возвращались они затемно. Василий был доволен результатами поездки. Его Нерон и Сашин Серый шагали бок о бок по дороге; ноги всадников соприкасались.
Саша любил такие поездки. Хорошо покачиваться в седле, вдыхать морозный воздух и с легким волнением всматриваться в тени придорожных кустов. Чего только не нарисует твое воображение! Хорошо одновременно слушать спокойную речь Ташлыкова о предметах самых обыкновенных. Все, что Саша видел, давало богатую пищу для размышлений. Теперь в помине не осталось того гнетущего ощущения одиночества, оторванности от людей и собственной ненужности, которое порою овладевало им в доме отца.
Дорога была длинной; они о многом успели поговорить до той поры, как за лесом послышались лай собак и пение поздних петухов. Лошади, почуяв близость конюшни, прибавили шагу.
— А старик, выходит, промахнулся. Погода — ни то ни се. Без перемены, — с улыбкой, угаданной Василием, заметил Саша.
— Погоди. Снежок, кажется, начинает падать. — Василий снял рукавицу и повернул кверху открытую ладонь. — Точно, падает, — сказал он, видимо, очень довольный таким обстоятельством.
Навстречу с равнины потянуло чуть приметным ветерком. Сашин мерин вдруг встрепенулся, поднял голову и звонко заржал.
С хутора, постройки которого чернели в каких-нибудь двухстах саженях от них, донеслось ответное ржание.
— Значит, посыльный вернулся. Пора, — с облегчением сказал Василий. Он уже начал тревожиться из-за того, что тот задержался больше положенного срока.
Нерон рысью взял крутой пригорок и понесся к воротам. Саша ударил своего коня ногами в бока, побуждая его бежать вслед.
Все дальнейшее произошло прежде, чем кто-либо из них успел отдать отчет в том, что случилось.
Едва Василий поравнялся с бревенчатой постройкой, возле которой дорога делала последний поворот, как от стены отделились два человека и молча кинулись на него. Один забежал вперед коня, второй сильно рванул Василия за ногу. Еще двое подбегали с противоположной стороны.
Василий едва удержался в седле. Выпустив стремя, он коротким пинком в грудь отбросил нападавшего. В следующее мгновение он круто повернул коня, ударил его поводом. Нерон рванулся вперед, сшиб грудью человека, пытавшегося ухватить повод, и шибко поскакал обратно по дороге.
— Назад, Саша! — крикнул Василий.
Когда сзади грохнули выстрелы, Ташлыков уже сворачивал с открытого места в овражек. «Ну, спасся на этот раз. От неминуемой смерти ушел», — подумал он.
Саша, отставший несколько, не видел начала схватки. Этому мешал угол постройки. Он подоспел к повороту как раз в тот миг, когда Ташлыков с криком промчался мимо него в обратном направлении.
Не успел Саша ни подивиться, ни вскрикнуть, как перед глазами у него сверкнула молния, тупо ударило по голове, и сознание сразу померкло.
Василий понял, что с Сашей случилась беда. Он долго прислушивался, но хутор был тих, будто там вымерли все. «Убит или живого схватили?.. Как его выручать теперь?»
Что Сашу надо выручать и немедленно, в этом у Василия колебаний не было. Но он знал, что одному лезть на рожон бесполезно. Отправиться сейчас за подмогой — пройдет слишком много времени. «Эх, как это я промашку дал! Конь меня, видно, попутал. Дурак я, дурак!» — ругал себя Василий.
Снег тем временем как следует разошелся. С места, где за кустами черемушника стоял Василий, держа в поводу Нерона, жарко дышавшего ему на щеку, хутора не стало видно. Хуторские постройки как бы растворились в белесой мгле.
Недалеко в поселке начали перекличку петухи.
«Третий час. Ну, пойду! Двум смертям не бывать, а одной не миновать», — решил Ташлыков.
Он завел коня подальше в кусты и привязал его. Затем проверил карабин и напрямик, увязая в снегу, побрел к хутору. Когда сквозь падающий снег перед ним совсем близко возникли хуторские постройки, Василий лег на живот и пополз. Двигался он со всей возможной осторожностью. Он был почти у ограды, когда по ту сторону ее кто-то невидимый Ташлыкову громко сказал:
— К черту! Конечно, он не вернется.
— С перепугу до самого города побежал! — с веселым смешком откликнулся другой человек, судя по голосу, более молодой. — А холодно лежать, — продолжал он, звучными шлепками отряхивая со своей одежды снег. — В избе погреться бы перед дорогой.
— Можно, — согласился первый, видимо бывший за старшего. — Этот Левченко жив?
— Куда!.. Наповал убит. Чего с трупом делать теперь? Староверу оставить разве?..
— Самое разумное — в прорубь спустить.
Голоса удалялись.
«Эх, Саша, Саша!.. — горестно думал Василий. — Перестрелять разве этих? Да много их...»
Ташлыков послушался голоса благоразумия и отказался от намерения немедленно отомстить за смерть товарища. Сначала ползком, а затем быстрым шагом, почти бегом, он вернулся к тому месту, где оставил Нерона. Горько и больно было ему в эту минуту.
«Что же я Лексею Никитичу скажу?» — подумал он, садясь в седло и выезжая на дорогу.
...Было уже светло, когда Ташлыков в сопровождении понятых вернулся на хутор. Никаких следов Саши Левченко они не нашли. Только возле строения, где разыгралась схватка, Василий, разгребая руками свежий снег, обнаружил темные кровавые пятна.
К проруби и обратно вели человеческие и конские следы, присыпанные снегом.
Снег продолжал валить.
Ветер дул порывами, вздымал мягкий, неулежавшийся снег, кружил его над землей. Казалось, сам воздух был смешан со снежной пылью.
Старик старовер, которого они обогнали по дороге из поселка, ходил вслед за Василием, всплескивал руками, сокрушался.
— Меня на такой грех дома не было! В кои веки к сыну меньшому в гости собрался, с ночевкой. И вот — на тебе... Ах, господи! Господи-Сусе...
Василий, повернувшись к нему спиной, смотрел на реку. Сомнений в гибели Саши у него не было никаких. Гнев и ненависть тяжелым обручем сжимали ему сердце. Если бы старик в эту минуту мог увидеть лицо Ташлыкова, оп постарался бы больше не попадаться ему на глаза.
А верст на семь выше по берегу в эту минуту к реке спускались два закутанных в башлыки всадника. Передний — Варсонофий Тебеньков — придержал коня на крутом спуске, оглянулся.
— Выходит, на родной земле нам места нет? — спросил он с жалкой блудливой улыбочкой.
Второй всадник, в котором нетрудно было узнать сотника Каурова, выругался, хлестнул коня плетью и поскакал к чернеющему вдали чужому берегу.
Варсонофий двинулся за ним.
Падающий густой снег тут же засыпал их следы.
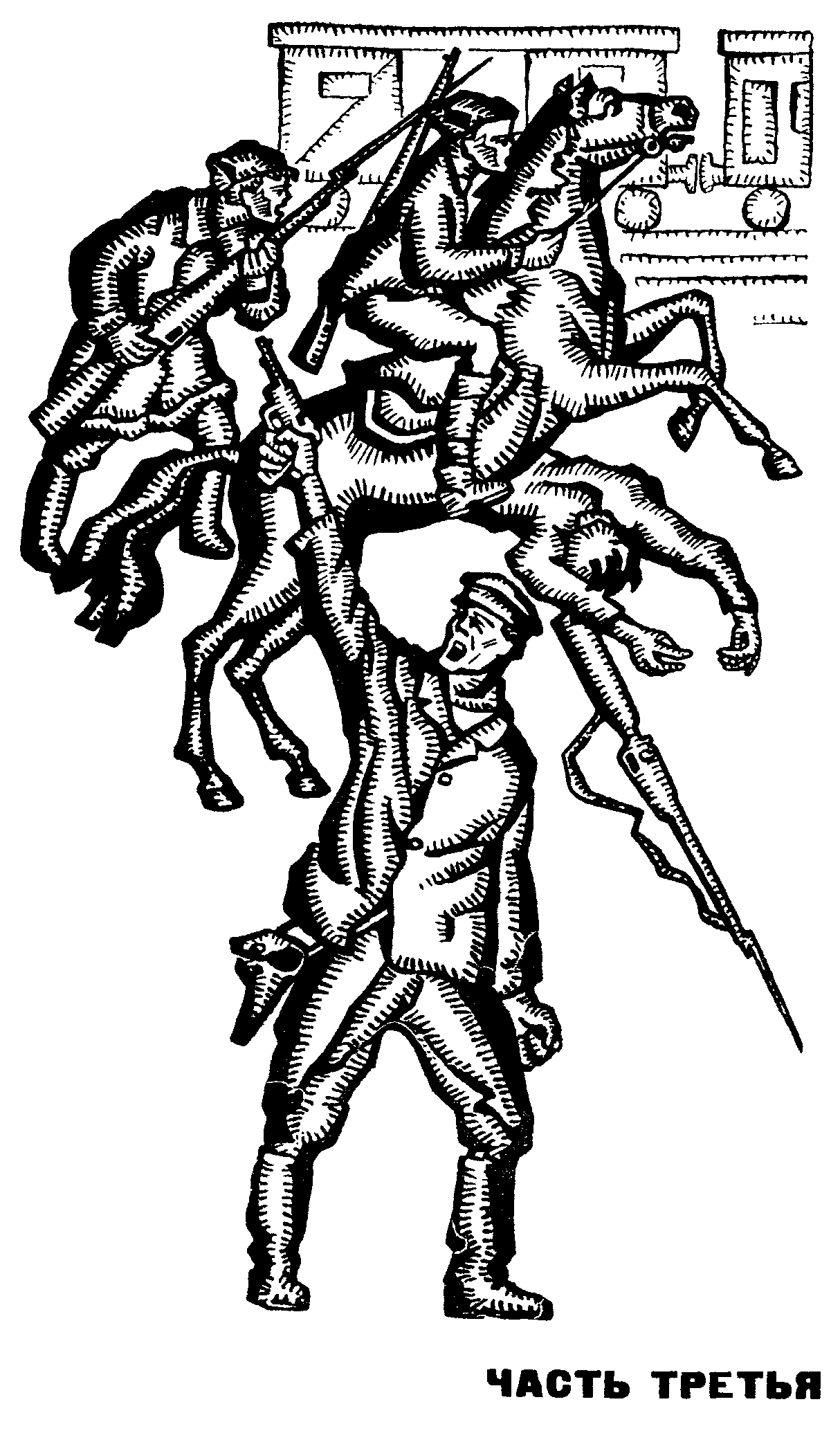 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |