"На восходе солнца" - читать интересную книгу автора (Рогаль Николай Митрофанович)
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
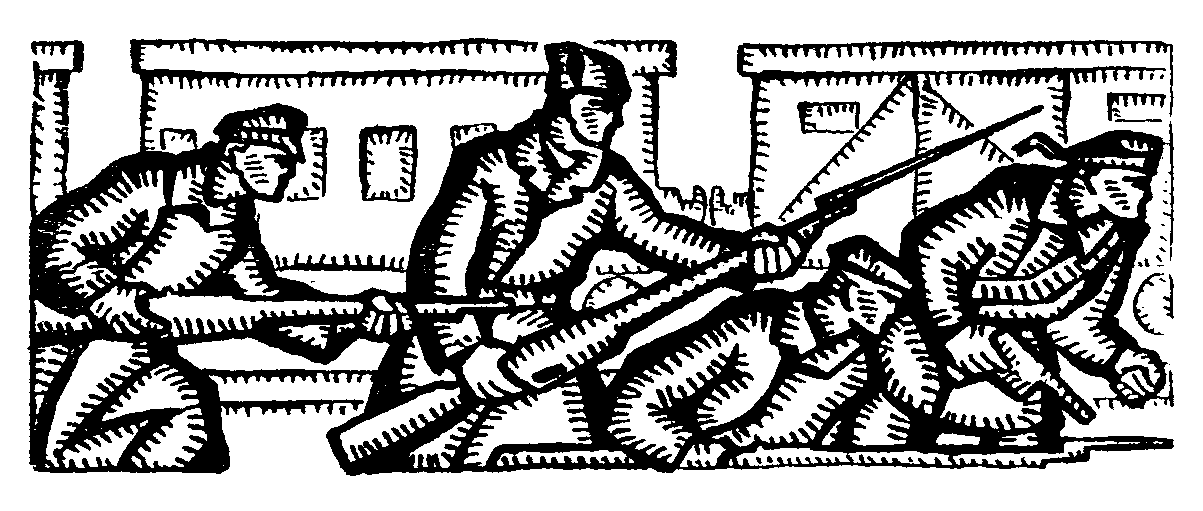 |
Хотя Сашина гибель была очевидной, Василий Ташлыков не уезжал с хутора: искал какие-нибудь концы. Он вновь со всей тщательностью обследовал двор. Увязая по колени в снегу, пешком трижды обошел вокруг хутора.
Поразительно белая сверкающая пелена свежего снега отражала так много солнечных лучей, что смотреть было больно. На снегу никаких следов.
Тогда Ташлыков принялся за старика хозяина. Алиби у того было как будто полное. Василий и понятые сами видели, как он утром возвращался на хутор из деревни. По наведенным справкам, старовер действительно ночевал у своего сына. Пришел поздно, выпили малость, с устатку его разморило — прилег и уснул. С кем не случается. Но при всей правдоподобности объяснение это не удовлетворило Василия. Нюхом он почуял неладное.
— И часто ты в гости ходишь? — осторожно расспрашивал Василий, сидя на лавке напротив старика спиной к окну. Он нарочно выбрал такое положение, чтобы свет падал на лицо хозяина и легче было наблюдать за ним. — Говорят, не очень-то сынов жалуешь...
— Я не государь, чтобы их жаловать. Поставил на ноги, отделил — ну и живите, как бог велит! — хмуро отвечал старик. — А заходить — захожу. Надо. Я им все-таки отец.
— Н-да... Это верно, — согласился Василий. — С хутора уходил, никого не встречал?
— Я?.. Нет.
— А имущество проверил, все у тебя в сохранности? — допытывался Ташлыков.
— Да бог миловал. Ни я чужого, ни люди моего. — Старик усмехнулся, но тут же прикрыл усмешечку ладонью, будто усы погладил.
— К тебе они верно — добрые, ничего не скажешь. — Василий со вниманием рассматривал прочные скобы, вбитые в толстые половицы. Продетый в них большой ржавый замок запирал вход в подполье. Насколько помнил Василий, прежде замка тут не было. Вмятины возле скоб были свежие: на них еще не накопилась грязь.
— Так, так. — Василий с удовольствием перехватил косой взгляд старика, брошенный на те же половицы. Он с нескрываемой уже насмешкой, даже с торжеством посмотрел на сгорбившегося хозяина. «Вот я тебя и поймал! Не отвертишься, голубчик», — говорил его взгляд. — Гостей в дом пустил, а доверять, значит, поостерегся. Запор на подпол давно наладил?
— А нет, недавно, — охотно ответил старик. — Вчера в первый раз замкнул. Аккурат, выходит, подгадал под этот случай.
— Следовательно, заранее сговорились? Так, что ли? — и Василий опять скользнул взглядом по невозмутимо-спокойному лицу старика.
— Ну что ты, мил человек! Что ты, господь с тобой! — Старик в испуге замахал на него руками; выражение лица у него мгновенно изменилось. — Вот ведь как можно повернуть, скажи, пожалуйста, — добавил он с искренним удивлением.
Но Василия трудно было сбить с его линии; с той же усмешечкой он, прищурясь, смотрел на хозяина.
— Все-таки ты мне объясни, зачем, тут замок? От кота картошку прятать? В своей-то избе...
— Зачем от кота — от людей, — сказал старик после минутного колебания, и опять что-то похожее на насмешку промелькнуло на его тонких губах. — Раз вы меня вынуждаете, я скажу: очень обыкновенно это! Вот я, допустим, скотину напоить пошел, а вы с товарищем в горнице остались. Что вам стоит картошки на еду прихватить? Минутное дело, верно? И мне, стало быть, беспокойство, и вам — соблазн. А так — от греха подале, со спасением, значит, души. Вот как.
— Тьфу! — Василий плюнул и с любопытством посмотрел на старика. — Однако ты — свято-ой... не возьмешь голой рукой! — Он зажег спичку, лег на пол и еще раз осмотрел заинтересовавшие его половицы. «Позабивал скобы вкривь и вкось. Значит, перед самым уходом сделал, второпях», — решил он, укрепляясь в своем подозрении. Ташлыков был убежден, что старик действовал заодно с бандитами, устроившими засаду на хуторе, знает их и что они, должно быть, люди местные. А раз так — Василий должен до них добраться, посчитаться за Сашу. Василий считал себя виноватым в том, что случилось. Ведь держал же он на подозрении этого проклятого старовера. И поселились они на хуторе не случайно — в самом, можно сказать, логове. А вот вели себя неосмотрительно, глупо. И Василий корил себя и ругал, еще более растравляя свежую рану утраты. Только теперь он понял, как сильно привязался за это время к Саше и какими крепкими нитями оказались связаны их судьбы.
— Послушай, батя! Ты Варсонофия Тебенькова знаешь? — спросил Василий у старика, поразмыслив как следует над обстоятельствами дела. Накануне в Чернинской кто-то говорил ему о молодом Тебенькове, будто видели его в отцовском дворе. Василий тогда не придал этому значения, а сейчас вспомнил и как-то сразу поставил в связь приезд хорунжего и события минувшей ночи.
— Варсонофия?.. Архипа Мартыновича сынка? Знаю, знаю, — старик подтверждающе кивнул головой. — Останавливаются они у меня, а я у них, когда случается быть в станице. Давно знаю, давно, — и он с необычной словоохотливостью принялся рассказывать Василию, как Архип Мартынович ездил за товаром на китайскую сторону да дня по три гулял на хуторе. — И никто от этого не оставался в убытке. Власть раньше на такие дела смотрела сквозь пальцы. Сунет он красненькую кому следует. Хозяин!.. Сам начальник корчемной стражи бывал у меня. С солдатками как зальется гулять. Ну-ну. Такой лихой мужчина... — старик хихикнул, покосился на сурово внимавшего ему Ташлыкова и вздохнул. — Прежнее-то начальство — не чета вашему брату. Понимающие были люди. По-божески все делалось. Тогда и убийствов этих не слыхать было.
— Ага. Драли шкуру с молитвой — тихо и верно. Я эти дела, батя, не хуже тебя знаю. — Василий был несколько озадачен тем, что старовер не стал отрицать близкого знакомства с Тебеньковым. — А вчера Варсонофий тоже тут был? — неожиданно спросил он и впился острым взглядом в лицо старика.
— Да ну!.. У кого? — в свою очередь с поразительным простодушием спросил тот. Потом, нахмурившись, будто сейчас только догадался о скрытом смысле вопроса, подозрительно посмотрел на Ташлыкова. — Припутать меня хочешь, мил человек?.. А для чего? Я в деревне ночевал, свидетели есть. Видеть, следовательно, никого не мог: ни Ивана, ни Степана, ни Варсонофия. Конечно, без местного человека тут не обошлось. Проводник им нужен, — продолжал он рассуждать, показывая, что понимает и точку зрения Василия. — Однако Варсонофий?.. Нет, не должен он тут быть. — Старик не прятал глаз от Василия, а смотрел ему в лицо открыто и прямо. — Почему не должен? Да не такие люди Тебеньковы, чтобы первыми в драку полезть.
«Оба вы — одного поля ягода», — думал Василий, слушая его рассуждения и отдавая должное их логичности. Впрочем, это нисколько не ослабило его подозрений. Теперь старик казался ему еще более опасным и хитрым. «Будь ты проклят, лис старый. Не такой я дурак, чтобы сказкам твоим поверить». Василий злился, понимая, что и на этот раз старик ловко вывернулся. Он все же не стал прерывать разговор в слабой надежде, что недавний «глухой» что-нибудь да сболтнет. Настроившись слушать, Василий забылся и полез в карман за табаком.
— Ты погань эту брось. Либо на двор ступай, — строго заметил старик и неодобрительно посмотрел на Василия. — И мне пора скотину поить! — Кряхтя, он поднялся с лавки и стал надевать старую облезлую шубенку с заплатами.
Ташлыков тоже оделся. Он думал о Саше, тело которого, видно, бросили ночью в реку.
— Погоди, батя! Я тебе прорубь пробью в другом месте.
Захватив в сенях лопату и лом, он прошел к старой, застывшей за ночь проруби. Мела поземка, рядом с прорубью образовался высокий сугроб, как могильный холмик. Василий постоял возле него, затем под прямым углом отмерил в сторону полсотни шагов, разбросал лопатой снег и сильными точными ударами начал ломом скалывать лед. Подошел старик с другой лопатой и молча стал выгребать у него из-под ног ледяную, крошку и отбрасывать ее прочь. Потом они вместе расчистили дорожку к новой проруби, притоптали снег.
Хозяин ушел на баз, скрипел воротами, выгонял скот со двора. А Василий, воткнув лопату в снег, стоял на берегу. Однообразно холодная простиралась перед ним широкая Уссури, вся в снежных застругах, со струящейся по льду белой поземкой — равнодушная свидетельница разыгравшейся здесь трагедии. За рекой вдоль низкого берега тонкой строчкой протянулся реденький тальник. В снежном мареве чуть заметны дымки нескольких убогих китайских фанз. Да над самой границей вверху кружилась стая воронья.
День был морозный, деревья сильно заиндевели.
«Ну ладно. Надо ехать в Чернинскую», — Василии вскинул на плечо лопату и лом.
Час спустя он уже выводил за ворота оседланного коня и по дороге обдумывал, как лучше подступиться к Архипу Мартыновичу. Допрос Тебенькова представлялся ему очень важным, могущим пролить свет на все это загадочное дело.
Однако застать дома чернинского атамана Василию не удалось: Архип Мартынович с вечерним поездом укатил в город. Варсонофий, по словам его матери, находился в Имане. Служил там в полку. Заплаканные глаза и убитый вид хозяйки насторожили Ташлыкова, но доискиваться причины ее слез он не стал — мало ли отчего плачут женщины. Василий купил табаку в тебеньковской лавке, потолкался среди казаков. Побывал он и на станции. Достоверных данных о пребывании Варсонофия в Чернинской он не нашел. Казак, который будто бы видел хорунжего в тебеньковском дворе, на прямой вопрос об этом поскреб затылок, помялся и сказал: «Ошибся, видно. Ночью каждая собака за волка сойдет».
Так ни с чем Ташлыков вернулся на хутор.
В это самое утро Алексей Никитич занимался текущими делами. Но что это были за дела? Просмотр старой отчетности, проекты переустройства прииска, которым не суждено осуществиться, переписка с бывшими клиентами, — тоже никому не нужная, бесполезная.
О сыне, ушедшем из дома, Левченко старался не думать. Решительность, с которой Саша порвал с привычной для него средой, вызывала у Алексея Никитича двойственное чувство: с одной стороны — боль и уязвленное отцовское самолюбие, а с другой — невольное уважение к сыну. Были минуты, когда он в мыслях почти оправдывал Сашу, принимая во внимание свойственную молодости горячность и неумение серьезно подумать о последствиях. Но тут же начинал сердиться и сам опрокидывал свои доводы.
Человеку со стороны Алексей Никитич показался бы погруженным в глубокое раздумье. Он задумчиво постукивал карандашом, рассеянно чертил замысловатые фигуры. Но мысли его были далеко. Затем он перемогал себя и начинал вновь читать и перечитывать давно осточертевшие документы. Что могли изменить эти бумаги? И какой смысл заниматься ими теперь? Пожалуй, наиболее тягостным для Алексея Никитича было ощущение бесполезности его труда. Как аккумулятор электричеством, он заряжался в такие часы тяжелой и слепой ненавистью.
Потом появлялся кто-нибудь из знакомых и подливал масла в огонь. Каждый день приносил малоутешительные новости. Несмотря на прогнозы и предсказания тертых политиков, Советская власть не нала ни в прошлом месяце, ни на этой неделе; похоже было, что она и не собиралась рушиться, как этого ожидали Чукин, Бурмин, Парицкая, да и сам Левченко. Алексей Никитич не мог не видеть, что действия людей, руководивших Советом, были разумными и целесообразными действиями. Слова у них не расходились с делами: за счет имущего меньшинства они делали все возможное, чтоб облегчить положение народа. Были национализированы банки, предприятия, у торговцев реквизировались запасы продовольствия. Имущие люди лишались собственности — основы их могущества. А что такое Бурмин без его лесопильных заводов? Чукин без универсального магазина и оптовых складов? Парицкая без прииска Незаметного, тоже национализированного по требованию рабочих после того, как Левченко отказался завозить на прииск продовольствие на предстоящий сезон? Если бы Алексей Никитич предусмотрительно не перевел наличные капиталы общества в харбинское отделение Русско-Азиатского банка, у него на руках остались бы одни бумаги. Те самые бумаги, которые он перебирает теперь день за днем, создавая для себя видимость работы. Впрочем, кое-что осталось, оказалось надежно спрятанным и у Чукина, Бурмина... Но Левченко, пожалуй, лучше всех их понимал, что капитал, не приносящий прибыли, — мертвый капитал.
Частенько сверху к Алексею Никитичу спускался Джекобс. Журналист был человек осведомленный; его суждения бывали остроумны и не лишены меткости. Он умел в то же время не быть чересчур назойливым. А Левченко сейчас особенно не терпел в людях бесцеремонности. Он заметно охладел к тем, кто были завсегдатаями у него в доме.
Говоря с Левченко о политике, Джекобс от него не скрывал своих опасений: многое шло теперь кувырком. Быть пророком в такое время — нет уж, увольте!
Нельзя сказать, чтобы высказывания журналиста успокаивающим образом действовали на Левченко. Алексей Никитич понимал, что старого не вернешь. Но с тем большим упорством он отстаивал свои взгляды, может быть, из-за желания идти наперекор новому, из старческого упрямства. Сложное и противоречивое явление — человеческий характер, и не гладкими, ровными путями идет человек к познанию истины.
Вдобавок ко всему у Левченко стало пошаливать сердце. Собственно, первые симптомы заболевания появились давно. Алексей Никитич просто не обратил тогда на них внимания. Когда-то он обладал железным здоровьем и в простоте душевной полагал, что износа ему не будет.
Иногда Алексея Никитича требовала к себе наверх Парицкая. Она нет-нет да и придумывала какой-нибудь совершенно нелепый проект. Левченко, хмурясь, выслушивал ее и коротко бросал: «Ер-рунда!» Тогда бывшая владелица Незаметного начинала плакать и упрекать его в том, что это именно он довел ее до разорения. Алексей Никитич поворачивался к ней спиной и уходил.
Юлия Борисовна вообразила, что у нее катар желудка и болезнь печени. Врачи не разделяли ее мнения: не было никаких объективных признаков заболевания. Но она не верила врачам, даже Твердякову, и неустанно говорила о том, что теперь никому верить нельзя. «Ах, почему я не умерла раньше, я бы не испытала столько мучений!» Все больше времени Парицкая проводила в постели, обложившись грелками. В спальне на туалетном столике выстроилась целая батарея пузырьков, склянок, баночек; во всем доме пахло лекарствами.
Все сочувствовали Юлии Борисовне; в доме ходили чуть ли не на цыпочках. Один Чукин говорил с усмешкой:
— Эх, милая! Да разве болезнью от них отгородишься. Терпи уж, а лекарства выбрось на помойку. Не в них дело.
Скептицизм Чукина усилился и носил подчеркнуто злобный характер. Да и внешне он изменился за эти два месяца: волосы на висках заметно побелели, весь он как-то осунулся, сгорбился, хотя и старался по-прежнему казаться бодрячком.
Матвей Гаврилович понимал мятущееся состояние души Левченко и по-своему воздействовал на него, раздувая в нем мстительное чувство обиды. Он завел немало знакомств среди выброшенных революцией из поместий и особняков бывших людей, приводил их в дом к Алексею Никитичу и заставлял вновь и вновь рассказывать историю своего падения.
С людьми, потерпевшими крушение, невыгодно иметь дело. Это прежде всего бьет по карману. Но сейчас потерпели крушение все, кого знал Чукин. Приходилось и ему как-то по-новому прилаживаться к создавшейся обстановке. «Еще не все потеряно — авось кривая вывезет, — думал он, слушая рассказы беженцев из центральных губерний России. — Сколько людей задето, а? Да ежели мы все...»
Так тощие, худые волки сбиваются зимой в стаю, чтобы вместе накинуться на добычу, рвать и терзать ее зубами, жадно наверстывать период вынужденной голодовки. Потом они снова разбредутся каждый в свое логово.
«Это великое несчастье — не иметь возможности быть наедине с самим собой», — думал Алексей Никитич. Но выпроводить всех за дверь, как сделал бы прежде, — не мог. Ему было страшно оторваться от привычной обстановки, от людей, недостатки которых он слишком хорошо знал.
Вот уже несколько дней у него болела голова, стучало в висках. «Поехать отдохнуть в Японию, что ли?» — думал Левченко.
Днем у него были Поморцев и Лисанчанский. Капитан 2-го ранга после месячной отсидки был выпущен из тюрьмы под честное слово. Он с иронией рассказывал о днях, проведенных в общей камере, посмеивался над собственными страхами. Но глаза у него оставались холодными и злыми.
По решению рабочего собрания полковник Поморцев был восстановлен в должности начальника Арсенала. Он клятвенно обещал, что больше ничем не запятнает себя, и теперь старался поскорее сплавить куда-нибудь своего не примирившегося с поражением родственника. Поморцев просил Алексея Никитича дать Лисанчанскому рекомендательное письмо к кому-либо из благовещенских золотопромышленников. Левченко подумал и написал Золотову.
Появился румяный, как всегда, Судаков. За ним вошел сердитый с виду старик с надвое раскинутой бородой; стуча палкой о пол, он прошествовал мимо Алексея Никитича к дивану и мягко погрузился в него.
Судаков тоже собирался в Благовещенск. О цели поездки он говорил уклончиво.
— Будем надеяться, господа... час пробьет, — и многозначительно посматривал на безучастного ко всему Алексея Никитича.
— Да, а где теперь Мавлютин? Вот — человек твердых убеждений, — вспомнил Чукин.
— Вы так думаете? — сощурился Левченко.
— Что такое убеждение? Ловко составленные фразы. Сегодня одни, завтра — другие. Они так же старятся, как перчатки, — громко заявил сердитый старик. — Если вы хотите обратить на себя внимание, сделать карьеру, вам действительно нужны убеждения. Но именно те, которые сегодня в моде — и не слишком резкие. Чем и объясняется успех в нашем обществе господ умеренных социалистов.
— Позвольте, менять убеждения нелегко, — возразил Судаков, задетый упоминанием о социалистах. — Ведь это связано с душевным разладом... Может быть, только суровые уроки жизни...
Старик рассмеялся неприятным, скрипучим смехом, будто две сухие ветви потерлись на ветру друг о друга.
— Э-э, ерунда! При чем здесь душа?.. Не единым духом жив человек. Материальные блага прежде всего. Да-с. А убеждения — для досуга, язык чесать. Я, господа, материалист, — так же громко провозгласил он.
— С вашей философией самого себя продать можно.
— За приличную цену... почему бы и нет? Продал же Фауст свою душу... И вы не зарекайтесь, ибо душа ваша принадлежит золотому тельцу, сударь мой, — едко закончил старик.
Судаков пожал плечами, отвернулся и заговорил уже о другом — об ультиматуме, предъявленном недавно фон Кюльманом советской делегации в Бресте...
— Это надо было предвидеть. Надежды большевиков на возможность договориться с немцами рухнули окончательно. Мы, господа, тысячу раз были правы, когда возражали против похабного мира. Тысячу раз...
Другой сенсацией было решение местного Совета о предании революционному суду начальника почтово-телеграфной конторы Сташевского. Обнаружилось, что он, пользуясь служебным положением, передал на хранение японскому консулу двести пятьдесят тысяч рублей, присланных из Петрограда для нужд детских приютов.
Левченко только сейчас догадался, что это за деньги Сташевский передал при нем японскому консулу.
Голова у Алексея Никитича разболелась не на шутку. Он ушел в кабинет и лег на диван.
Из передней доносилось шарканье ног и гул голосов: гости разбирали пальто и шапки. Кто-то громко топал, должно быть, надевал тесные калоши.
Судаков, рассчитывая поговорить с глазу на глаз с Алексеем Никитичем, задержался в гостиной.
— Ну-с, красавица моя, как живется? Замуж скоро? — с обычной фамильярностью спросил он, когда они с Соней остались вдвоем, и хотел рукой потрепать ее по щеке.
Соня поспешно отстранилась.
— Оставьте! — резко, с раздражением сказала она. — Терпеть не могу фамильярности!
Судаков снял очки, протер их, оседлал вновь свой нос и с удивлением воззрился на нее.
— Гм... Кхм!.. Собственно, я не давал повода... Вы, София Алексеевна, несправедливы ко мне.
Он впервые стал величать ее по имени и отчеству.
— Прощайте! — не глядя на него, сказала Соня.
Раньше пустопорожняя болтовня гостей мало задевала ее. Но сейчас Соня все злопыхательские шуточки и анекдоты воспринимала с позиции тех, против кого они были направлены. Здоровый ум и нравственная чистота позволили ей безошибочно угадывать, где правда, а где ложь. О, она начала понимать этих людей. Как это отец не видит, с кем имеет дело?
Когда гости разошлись, Алексей Никитич сел за стол. Взяться за работу — лучший способ преодолеть недомогание.
В голову лезли мысли о Сташевском. «Как он мог все-таки... Ведь это подлость». Алексей Никитич знал, как бедствовали детишки в приютах.
Было слышно, как в гостиной ходила Соня. Левченко подумал о дочери, о сыне, который скитается неизвестно где. «Ох, дети, дети!..»
Неожиданно он почувствовал сильную боль в груди и едва дошел до дивана. Было такое ощущение, будто кто-то железной рукой захватил сердце и безжалостно сжимает, терзает его. Чувство страха, что он умрет здесь, беспомощный, одинокий, покинутый собственными детьми, внезапно с большой силой охватило Алексея Никитича. Но он обладал тренированной волей и справился со страхом. Боль не проходила, усиливалась. Онемели пальцы. Пульсировало в висках. Алексей Никитич с трудом поднял руку и обнаружил, что весь лоб у него покрылся испариной. «Плохо дело. Finita la comedia»[2], — подумал он и тут же закричал громким, встревоженным голосом:
— Соня! Соня-а!..
Когда дочь прибежала на его зов, он устало откинул голову на подушку, пожаловался:
— Боже, целая вечность прошла!
Соня посмотрела на него и всплеснула руками. На короткий миг она испугалась. Но чутье женщины подсказало ей, что отец сейчас нуждается в ее поддержке.
— Папочка, тебе плохо, да? — она участливо нагнулась к нему, заглянула в глаза.
И оттого, что он почувствовал на своей щеке ее теплое, влажное дыхание, что она назвала его «папочкой», как в детстве, когда доверчиво взбиралась к нему на колени, Алексей Никитич испытал заметное облегчение.
— Не пугайся, ничего страшного. Переутомился, кажется, — спокойным тоном ответил он, но взгляд его говорил другое.
— Я пошлю за врачом. Кого лучше позвать? — Соня говорила решительно, не допускающим возражений тоном, и Алексей Никитич впервые подчинился ей. Он видел, что дочь сильно встревожена. В конце концов она вправе здесь распоряжаться. Он ободряюще улыбнулся ей одними глазами.
— Пошли к Марку Осиповичу, — сказал он и закрыл глаза.
Соня скоро вернулась, села рядом с ним на стул. Алексею Никитичу страшно захотелось взять ее руки в свои ладони, прижать к губам. Но он не решился на такое открытое проявление нежности, а только сказал:
— Ничего, девочка. Отец тебя не оставит. Мне уже лучше.
Боль и в самом деле немного унялась. Вскоре пришел доктор Твердяков. Он пощупал пульс, послушал сердце, дал выпить лекарство.
— Что, батенька, испугались, а? — спросил с улыбкою доктор и сел писать рецепты. — Симптомы неприятные, я знаю. Но страшного пока ничего нет. Говорю вам ex professo[3].
Еще не очень старый, живой, остроумный доктор считался приятным собеседником.
— Вы напрасно принимаете все близко к сердцу, — уговаривал он Алексея Никитича. — Давно сказано: «объективность оскорбленного равна нулю».
Твердяков просидел долго. И он и Алексей Никитич принадлежали к тому поколению, которое вступало в сознательную жизнь как раз на рубеже двух веков. В молодости у них была коронация Николая Второго и ходынская катастрофа; в зрелые годы оба стали свидетелями полного крушения царизма. До октябрьских залпов «Авроры» они, вероятно, не разошлись бы во взглядах на настоящее и будущее страны. Теперь — другое дело. Но Твердяков был бы плохой доктор, если бы у постели больного не нашел нейтральной темы для разговора.
Часто замкнутые, угрюмые люди, из которых клещами слова не вытянуть, становятся удивительно откровенными в разговоре со своим врачом. Так и Алексей Никитич. Пожаловавшись на здоровье, он затем стал сетовать на жизнь, на застой в делах, наконец, на детей, которым становятся совершенно чужды интересы родителей. Пусть ушел сын. Ладно. Но дочь он убережет любой ценой.
Марк Осипович слушал, покачивал головой.
— Соня не ребенок. Вот увидите, ее характер проявит себя. Надеюсь, с самой хорошей стороны. Молодежь лучше нас понимает требования века. — Твердяков посмотрел на часы, еще раз проверил пульс. — А сердце, дорогой мой, придется лечить. Такое уж наше стариковское дело.
В конце следующей недели Василий Ташлыков сдал участок прибывшему на смену старшему милиционеру и выехал в Хабаровск.
Перед тем как хутору скрыться из глаз, Василий обернулся и долго смотрел назад.
К вечеру он достиг предгорий Хехцира. Когда-то, судя по пням, здесь был густой лес. Но затем пожары уничтожили богатый древостой. Место пожарища стало зарастать березняком и травой. Часть земли, освобожденной от леса, была распахана. Неподалеку на берегу реки приткнулся поселок.
Василий выбрал двор попроще и попросился ночевать.
Утром он поднялся с петухами. Сыпалась изморозь; дым от труб, смешиваясь с морозным туманом, окутал поселок. Отдохнувший конь цокал подковами по крепко прихваченной морозцем, накатанной дороге.
К концу дня Василий был в городе.
...К Алексею Никитичу Ташлыков шел с тяжелым сердцем. Как бы он ни относился к своему бывшему хозяину, нелегко было принести в дом такую весть. Но уклониться от печальной обязанности Василий не мог, не считал себя вправе.
Медленным шагом он пересек левченковский двор, отмахнулся от собаки, которая, приседая и повизгивая, виляла перед ним хвостом. Позвонил.
Дверь отворила Соня. Она, видно, была у плиты и не успела снять передник.
— Василий? — удивилась она и отступила немного, пропуская его вперед.
— Здравствуйте, барышня! — сказал Ташлыков, снимая шапку, и смущенно, даже е робостью посмотрел на нее. Он знал, какие нежные отношения были между братом и сестрой. Сказать сейчас ей о горе, с каким он пришел в дом, оказалось выше его сил. Он в замешательстве переступил с ноги на ногу, не зная, как выйти из положения.
— А где Саша? Почему он не пришел? — спросила Соня, и чувство неопределенной тревоги заставило сжаться ее сердце. Она интуитивно почуяла беду.
— Саша?.. Я потом скажу. Лексей Никитич дома? — горестно спросил Василий и, не дожидая ответа, пошел к двери. Он хорошо знал расположение комнат.
— Василий, ради бога! Скажите, что случилось? — воскликнула Соня, теперь уже убежденная в несчастье.
Ташлыков не ответил ей, открыл дверь и шагнул в кабинет.
Соня в ту же минуту подбежала к закрывшейся двери и прижалась ухом к холодной филенке. Сердце у нее отчаянно билось. Не видя происходившего за дверью, она слово в слово слышала весь разговор.
Алексей Никитич, когда Василий без стука вошел к нему, сидел за письменным столом и разбирал почту. Подняв голову, он увидел Ташлыкова и сперва даже удивился его появлению здесь, затем весь побагровел от гнева. В лице его бывшего конюха для Левченко отождествлялось все то, что он так возненавидел. Опять он в его доме! Зачем пришел? Да как он смеет, мерзавец! Алексей Никитич прямо-таки задохнулся от злости и в первое мгновение ничего не мог сказать. Он только глядел на Василия тяжелым ненавидящим взглядом.
— Лексей Никитич, с бедой я к вам. Горе такое случилось, избави бог, — начал Василий, прежде чем Левченко успел хоть слово сказать.
— Вон отсюда! Убирайся из моего дома сию же минуту! — крикнул наконец Левченко, поднимаясь и сжимая рукой пресс-папье с тяжелой латунной крышкой.
— Сын ваш Александр Алексеевич... в прошлую среду... убит, — тем же горестным тоном продолжал Василий, не слыша гневного выкрика хозяина.
Соня за дверью обмерла и чуть не упала. Она ухватилась за дверной косяк и с трудом удержала крик.
Алексей Никитич, пораженный известием, выронил пресс-папье, и оно со стуком упало на пол. Он медленным шагом отошел к окну. Широкая спина его заметно сгорбилась.
— Как это произошло? Расскажите мне, — спросил он затем, обойдя письменный стол и останавливаясь перед Ташлыковым. Боль то сжимала, то отпускала сердце.
Не перебивая, он молча дослушал рассказ Василия об обстоятельствах гибели сына. Это был уже совсем другой человек: горе пришибло его.
— Я думал Сашу вызволить. Да вот как получилось-то. Беда, — и Василий сокрушенно развел руками. У него у самого сердце стеснило болью. — Не судьба ему, значит. — Василий вздохнул, потоптался еще немного на месте и взялся за шапку. — Прощайте, однако, Лексей Никитич. Не обессудьте уж.
— Постой. Я тебе денег дам, — глухим, убитым голосом сказал Левченко, открывая ящик письменного стола.
— Эх, Лексей Никитич, не обижайте вы меня! — сказал Василий, и Левченко не посмел настаивать.
Провожая Ташлыкова, Левченко едва не столкнулся в дверях с дочерью. Завидев отца, Соня торопливо вышла в другую комнату. Алексей Никитич услышал, как она всхлипнула там. «Слышала. Знает», — подумал он с болью. Он хотел пойти к ней, но пересилил в себе это первое, естественное побуждение.
Круто повернувшись, Алексей Никитич зашагал по комнате взад и вперед; каждый раз, высоко поднимая йогу, он перешагивал через цветное пятно на ковре, пока весь ковер не показался ему сплошь залитым кровью. Тогда он бросился на диван лицом вниз и зарыдал, зарыдал судорожно, громко. Многое ему теперь хотелось бы взять назад, переменить. Да не в его это было власти.
А Соня тоже плакала. Плакала и думала об огромной потере, о пустоте, которая образовалась вокруг нее. Нет близкого друга, и опостылел ей свой дом. «Что же мне делать теперь? Что мне делать?» — одна эта мысль вертелась у нее в голове.
Все ее тело содрогалось от беззвучных рыданий. Она сидела у окна и упорно смотрела на улицу. Будто ждала, что появится тот, кого она уже оплакала.
Небо на западе порозовело, по снегу от строений протянулись синие тени: наступал вечер, морозный, ветреный.
В гостиной зазвонили часы: четверть седьмого.
Часы напомнили ей, что она бросила плиту на произвол судьбы. Соня вытерла платочком глаза и мокрые от слез щеки и пошла на кухню. Кастрюльки там все повыкипели, жаркое пережарилось, картофель на большой сковороде превратился в коричневые сухарики. Соню это мало огорчило. Она передвинула кастрюльки, поставила на конфорку кофейник, открыла форточку, чтобы выпустить чад. А думала о другом. Вся ее недолгая и до этого не очень трудная жизнь промелькнула перед нею в один час. Перебирая в памяти эпизоды своей затворнической жизни, она с раздражением думала о деспотическом характере отца. Ну зачем он выжил из дому Сашу? Не было бы и этой беды. Злится на всех, негодует, а разве сам он прав? Почему держит ее в окружении постылых, пошлых людей? И что за публика толчется у них в доме — прохвосты, жулики! Да гнать их надо прочь! Нет, тысячу раз был прав Саша, когда не захотел жить в этом омуте! Тысячу раз прав...
Соня представляла себе на все лады то, что услышала от Василия, и с каждым разом гордость за Сашу, который оказался таким самостоятельным, смелым и отважным, все более охватывала ее наряду с печалью горькой утраты. Образ брата вырастал перед нею, обретая новые, ранее скрытые от нее черты.
Совсем другие мысли были у Алексея Никитича. «Отняли сына, погубили, — думал он, каменея от боли и злости. — Нет, дочь не отдам! Надо всерьез заняться ее воспитанием. Непростительно мало я уделял внимания детям. Непростительно... Эх, Саша, Саша!» — и опять он скрипел зубами и слезы застилали ему глаза.
Ожесточенность — вот, пожалуй, точная характеристика состояния Левченко в эти первые часы. Он лежал, не замечая, что в комнате стало темно.
Соня неслышно открыла дверь, щелкнула над его головой выключателем.
— Ужинать будешь? — негромко спросила она.
Алексей Никитич посмотрел на часы: ровно девять. Обычное время ужина.
— У меня голова болит. Вообще ты меня не беспокой сегодня. Уйди, — сказал он с неожиданной резкостью.
Это задело Соню за живое. Ах, так! Ну так она тоже не бездушный манекен. Мог бы найти хоть слово для своей дочери. Вся пылающая и будто выросшая, с раздувающимися от напряжения ноздрями, она стояла перед ним, как Живое олицетворение бунта. Все случившееся сегодня привело Соню в такое волнение, вызвало такое смятение мыслей и чувств, что ни привычное преклонение перед суровой волей отца, ни детский страх перед его гневом уже не могли остановить ее. Она заметила слезы в глазах Алексея Никитича, и это почему-то еще больше обозлило ее.
— Плачешь?.. Теперь плачешь, — заговорила она безжалостно суровым тоном; голос ее дрожал, как сильно натянутая струна. — А ведь это ты виноват! Ты! Только ты...
— Нет, нет! — Алексей Никитич не вспылил, не обиделся даже; он хотел спокойно объяснить ей, что в их горе виноваты другие люди, — и вдруг с ужасом почувствовал, что у него нет таких слов. И тогда он ладонями закрыл лицо, словно мог этим защитить себя от тяжкого обвинения.
В то время как в доме Левченко происходили эти события, Саша действительно находился между жизнью и смертью. Он упорно боролся за свою жизнь, хотя и не сознавал этого.
Лежа на спине с открытыми, невидящими глазами, он то беспокойно метался, стонал, грудь его поднималась прерывистыми неровными толчками, то, слабея от сделанных усилий, надолго затихал, и надо было внимательно приглядеться, чтобы обнаружить дыхание.
В такие минуты над ним склонялся человек, разжимал палочкой его стиснутые зубы и вливал в рот Саше несколько капель какой-то жидкости. Чаще это был старик китаец, иногда же молодой парень примерно Сашиного возраста. Время от времени они вдвоем меняли ему повязки, прикладывали к груди тряпочки, смоченные в отваре из трав. Старик сухими, костлявыми пальцами ощупывал его ребра.
Очнувшись, Саша долго не мог понять, где он находится и что с ним. Перед глазами плыли круги, мелькали цветные, радужные пятна. Они мешали сосредоточиться на чем-нибудь. Затем Саша разглядел низкий, закопченный потолок с грязными подтеками и толстой балкой посередине. Откуда-то со стороны падал скупой свет. Саша попытался повернуть голову к источнику света, но у него не хватило сил. Хотел пошевелить рукой — и тоже не смог.
«Ах да, я еще не проснулся!» — подумал Саша и открыл глаза пошире. Перед ним оказался тот же самый потолок.
«Где я? Как попал сюда?» Вчера — это Саша помнил отчетливо — он с Василием ездил в Чернинскую. Он начал восстанавливать события в их точной последовательности. Ночью они возвращались на хутор. Саша припомнил даже разговор, который они вели. Василий ехал впереди. Затем он опрометью поскакал назад и что-то крикнул. «А что он кричал? Что кричал? — Саша напряг память. — Что такое он мог сказать?.. Нет, не помню». Он все возвращался и возвращался к этому месту, чувствуя, как важно восстановить картину во всех деталях. Но в памяти у него оказался провал. Саша забеспокоился, попробовал рывком повернуться на бок и застонал от боли. Перед глазами снова замелькали мерцающие круги.
«Что с моей головой?» — Саша подумал это и тут же опять провалился в пустоту и мрак. Когда он снова очнулся, была ночь.
В ноздри ему ударил сложный запах прогорклого бобового масла, чеснока, залежалых циновок и отстоявшегося дыма. Где-то рядом во тьме похрапывал спящий человек. С другой стороны доносилось сухое покашливание, кто-то там курил, и ко всем запахам примешался еще и запах крепкого табака.
— Где я? — спросил Саша. Голос его прозвучал тихо, но был услышан.
— Твоя си-пи. Си-пи, капитана. Моя потунда[4], — сказал старческий голос, и ноги зашаркали по циновкам.
Саша почувствовал, как ему приподняли немного голову; у самых губ оказалась чашка с водой. Он сделал несколько глотков. Вода была горьковатой на вкус, но приятной.
Саша передохнул и сделал еще пять-шесть глотков.
— Шанго![5] Си-пи, — стоявший над ним человек добавил еще несколько слов, которых Саша не понял, и отошел.
«Китаец. Однако куда меня занесло?» — Саша потянул носом воздух, ощущая тот же непривычный запах.
Перебирая события последнего дня (он считал, что все произошло не далее, как вчера), Саша наконец сообразил, что они с Василием попали в засаду. «Почему так адски болит голова?.. Ага... я ранен. А Василий?.. Жив он или нет?»
Вдруг в памяти явственно прозвучали чьи-то странно знакомые голоса. «Что с трупом делать теперь?» — спросил один. А другой ответил равнодушно, с хрипотцой: «Самое разумное — в прорубь спустить».
«Это меня — в прорубь. Ну нет! Не дамся», — подумал Саша. И тут он вспомнил, как поднялся со снега и побрел в деревню, выбрав кратчайший путь по реке. Пурга слепила ему глаза и мешала идти.
Но почему он в китайской фанзе? Ведь в деревне китайцев не было, там жили одни казаки.
Саша не стал ломать голову над новой загадкой.
«Жив, и ладно! Главное, что жив», — подумал он с радостью. У него было такое ощущение, будто его качает на крутой волне. И от этого неудержимо хотелось спать, А сквозь шум и плеск тысячи серебряных колокольчиков вызванивают один удивительно бодрый мотив: жив, жив, жив, жив!..
Проснулся он от небольшого шума. За дверью слышались приглушенные голоса. В циновку, на которой он лежал, рядом с его лицом уткнулся косой солнечный луч. По лучу Саша определил, что еще рано: солнце стояло низко, видно недавно взошло. На самом деле был конец дня: Саша проспал подряд почти шестнадцать часов.
Сон благотворно сказался на нем: боль поутихла, и голова была ясной. Саша с интересом стал осматривать помещение.
Он лежал на теплом кане в небольшой низкой фанзе в два окна. При дальнейшем рассмотрении одно из окон оказалось дверью, верхняя решетчатая часть которой была оклеена желтоватой промасленной бумагой. Такой же бумагой заделано и окно, лишь в нижнем углу косячком был вставлен маленький осколок стекла. Через него солнце просвечивало всю толщу пыли, взвешенной в воздухе. От потолочной балки к стенам протянуты оструганные шесты. На них висели связки лука, белые головки чеснока, стручки красного перца, раскрытые янтарно-желтые початки кукурузы и пучки какой-то травы. На кане лежали плетеные циновки. От круглого котла, вмазанного в низкий очаг, поднимался пар, и запах варева щекотал ноздри. Саша почувствовал голод и жажду.
— Эй, есть тут кто-нибудь? — спросил он, отказываясь от попыток рассмотреть заднюю часть фанзы. Для этого надо было повернуться на бок, а Саша боялся разбередить успокоившуюся рану.
Разговор за стеной оборвался. Тотчас приоткрылась дверь, и в помещение неслышно скользнул старик китаец в старом стеганом халате. Увидев, что Саша глядит на него, он приветливо закивал головой, заулыбался.
— Чифан, чифан![6]
Старик пододвинул широкую гладкую доску, заменявшую стол, принес две чашки — одну с бульоном, в котором плавали редкие блестки жира, другую — с мелко нарезанными овощами. Вместо хлеба подал сваренные на пару пампушки из белой муки.
Сашу он осторожно повернул на здоровый бок, подсунул ему под спину скатанное валиком ватное одеяло. Старик поддерживал и Сашину голову и чашку с бульоном. «Вот бы посмотрел кто на меня. Смех и грех», — думал Саша, попивая тепленький бульон. Затем старик кормил его овощами, ловко подхватывая еду палочками, и оба они смеялись — Саша несколько смущенно над своей беспомощностью, а старик над его разыгравшимся аппетитом. Старик говорил что-то по-китайски. Саша не знал слов, но воспринимал сказанное по-своему: дескать, ешь больше, парень, поправляйся. И он не заставил упрашивать себя.
Через несколько дней Саша уже садился на своей постели. Однажды, воспользовавшись отсутствием хозяев, он отважился спустить ноги с кана и попытался встать. Но у него так закружилась голова, что он опрокинулся на спину прежде, чем довел затею до конца. В таком положении его и застал старик, возвратившийся в фанзу с охапкой дров.
Уложив Сашу, китаец затем долго и сердито выговаривал ему, должно быть, за ребячество. Саша блаженно улыбался.
— Ладно, хозяин! Не ругайся. Буду лежать смирнехонько, — примирительно сказал он, вытянулся на кане во всю длину и сложил руки на грудь. — Когда же я, по-твоему, поднимусь — дня через три? — и Саша показал три пальца.
Старик в ответ поднял обе руки и растопырил все пальцы.
— Десять дней! — ужаснулся Саша. — Ну, это мне никак нельзя. Нельзя. Дезертиром сочтут. Пойми, милый человек. Нельзя, — взволнованно и бессвязно заговорил он. — Ты позови из русских кого-нибудь. Русского позови.
Саша не знал, где он находится. Его попытки расспросить об этом старика были безрезультатны. Он полагал, что в пургу сбился с пути и забрел на соседний участок, где на казачьих заимках жили китайцы-арендаторы. Удивляло только одно — ни Василий, ни кто другой из милиционеров до сих пор не заглянули в фанзу. Что там у них стряслось?
Старик же, слушая Сашу, только качал головой и по-прежнему показывал ему десять пальцев.
«Вот беда, не понимает! Ну как растолковать?» Из-за невозможности объясниться Саша еще больше разволновался. «А вдруг меня нарочно упрятали, потом уволокут за границу?» — от такой мысли лоб его сразу покрылся испариной. Если до этого Саша испытывал к старику самые теплые чувства, то теперь он с большим подозрением посмотрел на него. И как это лицо казалось ему добрым, привлекательным? Сейчас Саша видел на нем скорее хитрость, затаенную жестокость и тысячу других пороков. Разве не странно, что старик упорно не хочет позвать к нему русских? Тут у многих свои счеты с корчемниками. Ах, если бы сил побольше. Саша сумел бы постоять за себя.
Старик знаками показал, что ему нужно выпить приготовленное питье.
— Чифан, капитана. Си-пи.
— Не буду! — Саша отрицательно замотал головой. — Позови русских, слышь. Пусть отвезут меня в лазарет. — И он с враждебностью оттолкнул руку с питьем.
Тогда старик сзади обхватил его шею, нажал пальцами на подбородок. Саша невольно открыл рот, и тотчас туда было вылито питье из чашки. Саша поперхнулся, глотнул, во рту остался характерный горковатый вкус опиума. Слезы полились у него из глаз от досады, обиды и собственной беспомощности.
На другой день мысли о западне ему самому показались вздорными. Но беспокойство не проходило. После некоторого подъема у него наступил упадок сил. Апатия и безразличие ко всему овладели Сашей. Он лежал и с мрачным видом смотрел в потолок, молча глотал лекарства, отказывался от еды. Старик что-то говорил, в чем-то убеждал его, — Саша был глух ко всему.
Однажды в фанзу вместе с молодым хозяином зашел рослый китаец с рябым лицом. Он тотчас заговорил на ломаном русском языке, мешая русские и китайские слова.
— Тебе чего — больной? Кушай много надо. Кушай нету — ходи нету. Совсем тогда фангули, — весело блестя зубами, сказал он Саше. — Хабаровска еси?.. Моя раньше тоже Хабаровска ходи. Работай! Паяй-а-а-а! — вдруг пронзительно-громко завопил он, как раз так, как кричат паяльщики на улицах.
Саша рассмеялся.
С грехом пополам они объяснились. Саша узнал, что он вышел прямо на китайскую сторону (раньше это ему и в голову не приходило). Молодой китаец, который был сыном старика, подобрал его, истекающего кровью, на Уссури. Долго он не приходил в сознание, и хозяева опасались за его жизнь. Его лечили женьшенем, который старик давно тайно выкопал в горах и берег для себя. Если он будет послушным — через полмесяца вернется домой.
Из деликатности китайцы не задавали ему никаких вопросов. Но Саша сам рассказал о себе. Рябой сочувственно покивал головой, посоветовал без нужды не выходить из фанзы.
— Худой люди еси. Купеза.
— Ладно, это я понимаю, — сказал Саша.
Он проникся безграничным доверием к своим хозяевам-китайцам. И стыдно ему было за необоснованные подозрения, и радостно в то же время.
— Старику спасибо скажите, я его век не забуду. И женьшень оплачу, в долгу не останусь, — со слезами на глазах говорил Саша.
Старик долго говорил что-то рябому, посматривая то на Сашу, то на сына. Молодой китаец тоже поглядывал на кан и улыбался,
— Его старик еси — все равно скоро помирай. Деньги не надо, — перевел рябой. После некоторого раздумья он взял молодого китайца за руку и подтолкнул его к Саше. — Твоя, его — друга еси. Вот... То-ва-ли-са... — он соединил их руки.
Саша в искреннем порыве обнял молодого китайца.
Как рассказал рябой, здесь уже слышали о революции в России. Хорошо, что русские прогнали царя и плохих начальников. Старик и его сын очень обрадовались, узнав, что Саша есть новый русский капитан. Впрочем, об этом они догадывались и раньше.
Саше хотелось узнать, что происходит сейчас на родном берегу. К сожалению, китайцы ничего нового не могли сообщить ему. Он узнал только, что через Уссури по льду на эту сторону переправляются по ночам небольшими группами какие-то русские. В поселке они не задерживаются, а двигаются дальше в глубь страны. «Должно быть, господа офицеры в Харбин бегут, — весело подумал Саша. — Значит, все идет, как надо».
С этого дня у него пробудился интерес к окружающему. Появился волчий аппетит — верный признак того, что дела пошли на поправку.
В дни болезни Саша как бы углубился в себя; в его голове подверглись суммированию и переработке все те факты и впечатления, которые принесла жизнь в последние месяцы. Над многим он пораздумал теперь на досуге — о судьбе отца, Сони, Василия и о судьбе страны.
Настал наконец день, когда молодой китаец в первый раз вывел Сашу на улицу. Его посадили на дровяной чурбак; Саша спиной прислонился к стене и жадно вдыхал морозный, пьянящий воздух.
Был тихий зимний вечер. Саша глядел на звездное небо, припоминал созвездия, которые когда-то заучивал на уроках астрономии.
Китаец тронул его за плечо и показал рукой вдаль. За белесой неясной равниной Уссури, почти в ряд с нижними звездами, мерцали два-три желтых огонька. Саша сперва довольно равнодушно посмотрел на них, затем сердце у него забилось: он видел огни поселка на русской стороне. Пожалуй, это как раз та деревня, где они с Василием несли службу. Вот здорово!
Он смотрел не отрываясь, и мысли его унеслись далеко-далеко.
На другой день Саша получше рассмотрел противоположный берег и убедился, что это действительно тот самый поселок. Всего полторы — две версты отделяли его от родного берега. Но где-то посередине протянулась невидимая линия государственной границы. Саша не знал правил пограничного режима, принятых в Китае, но понимал, что бедному рыбаку не так-то просто перейти на другой берег.
Что ж, еще неделя, и он будет дома!
Саша отвернулся и стал рассматривать двор и фанзу своих хозяев. Незатейливым оказалось хозяйство полунищего китайца-рыбака: обмазанная глиной фанза, крытая камышом; узенький дворик с двумя клетьми — в одной помещался худой длинноногий поросенок, в другой — три курицы; небольшая поленница дров из плавника — вот и все. Забор из ивовых прутьев отделял двор от такого же соседнего дворика.
С другой стороны тянулась невысокая глинобитная стена, похожая на букву «с», открытые концы которой упирались в реку. Странно было видеть эту стену в небольшом поселке с его единственной узкой и кривой улочкой, протянувшейся от реки к западным воротам. Какую защиту могла дать она жителям? Стена скорее была данью потерявшей значение традиции, да, может быть, имела фискально-полицейское значение.
Пока Саша изучал расположение поселка, старик деревянной лопаточкой подбирал куриный помет и складывал его в ящик. Он всегда был чем-нибудь занят — мастерил из проволоки самодельные крючки, плел веревки из конопли, шил матерчатые туфли с двойной подошвой из толстого войлока. На нем же лежало домашнее хозяйство.
Питались хозяева скудно — чашечка вареной чумизы или бобов, немного овощей. Иногда кусочек вареной или вяленой рыбы. И неизменный зеленый чай. Сашу кормили отдельно и гораздо лучше (для него старик зарезал петуха и трех куриц), но он постоянно ощущал пустоту в желудке.
Молодой рыбак чуть свет уходил со двора, долбил на реке лунки, ставил снасти. Выкраивался свободный час, и он подбирал плавник на галечниковых косах. Согнувшись под тяжестью ноши, на рогульках тащил дрова в поселок. Ходил он быстро, почти бегом, поражая Сашу и неутомимостью своей и жизнерадостностью.
«Вот жизнь — не позавидуешь. А люди-то хорошие. Душевный народ, ей-богу», — думал Саша. С каждым днем он проникался все большей симпатией к старику и его сыну.
Объяснялись они при помощи жестов и мимики.
Как понял Саша, старик жил на Уссури давно. Прежде у него была большая семья — четверо сыновей и дочь. Лет восемь тому назад двое мальчиков погибли во время большого наводнения, когда река разлилась на десятки ли вокруг. Затем от оспы умерли старший сын и жена. Старик плакал, рассказывая о постигших его несчастьях. Саша так и не понял, куда девалась дочь старика. Ее, видно, не было в поселке: за все время, что Саша провел здесь, женщина ни разу не переступала порог фанзы.
«Притесняют их все, кому не лень. А тоже, гляди, терпение истощится», — думал он, проходя первый раз по узкой и тесной улице.
Со стороны реки слышались крики. Пепельно-черный бычок с белой лысиной тащил одноосную арбу с двумя такими высокими колесами, что их спицы погружались в снег едва на треть своей длины.
Навстречу Саше от околицы, согнувшись, шли вереницей носильщики с грузом в рогожах из рисовой соломы. Шли они, видно, издалека: веревки рогулек глубоко врезались в ватники, а рогожки заиндевели от дыхания. Ступая след в след, носильщики свернули к одной из стоявших на яру лавок.
В поселке было всего полтора десятка фанз, одинаково обмазанных глиной и производящих самое жалкое впечатление. Четыре из них, побольше размером, — купеческие лавки. Они стояли на берегу все в один ряд.
На одной из лавок Саша увидел вывеску на русском языке: «Галантерейно-питейная торговля...» После имени хозяина стоял большой вопросительный знак. Художник, видно, был не силен в синтаксисе. А может, вывеска содержала определенный намек. Самостоятельность торговцев в пограничной линии была чисто номинальной: под их маркой прибыльной контрабандной торговлей занимались крупные харбинские и цицикарские фирмы. А за ними в свою очередь стоял иностранный капитал — лондонские, нью-йоркские, токийские и парижские банки.
В лавках продавались мануфактура, чай, керосин, соль, спички, сигареты и, конечно, спирт в банках и плоских банчках из белой жести. Здесь можно было купить сортовую муку в аккуратно зашитых пудовых мешочках, сахар, арахис и разную мелочь — гуттаперчевые гребни, нитки всевозможных расцветок, подвязки, чулки. При надобности хозяин мог выложить на прилавок отрез первосортного китайского шелка, туфли парижской модели или маузер с патронами в фабричной упаковке. Здесь также принимали пушнину, скупали золото, меняли одну валюту на другую. Общая сумма торговых операций, видимо, была значительной, но не легко поддавалась учету.
Саша сперва подивился тому, что в маленькой нищей деревушке столько торговцев. «Да кто же у них покупатели? Кому здесь нужен такой товар? — думал он, рассматривая полки. Потом сообразил, что все это предназначено для контрабандной торговли. — Вот ведь пристроились, скажи, пожалуйста! Сколько денег таким манером перекачать можно? — Он представил себе число таких незаметных торговых пунктов вдоль всей тысячеверстной границы и ахнул. — Ну, тут крупное дело! И упаковка, видать, специальная... А что-то незаметно, чтобы купцы роскошествовали. Прибыль, наверно, большим тузам в карман идет — в Харбин или подальше», — размышлял он, суммируя свои наблюдения.
Саша не знал всей сложности существовавших здесь отношений, но понимал, что заинтересованность в контрабандной торговле простирается далеко. Он попытался расспросить об этом лавочников. Они охотно показывали свой товар, но делали вид, что не понимают вопросов.
— Моя так торгуй — покупай, продавай. Убытка нету — ладно. Хо! Убытка есть — пухоу. Шибико плёхо, — на русско-китайском жаргоне сказал владелец лавки со знаком вопроса на вывеске.
Это был плотный пожилой китаец в черном шелковом халате, в круглой черной же шапочке на голове. Ласково-добродушное выражение его лица располагало к разговору. Голос у него был размеренно-журчащий, приятный. В узких щелочках глаз застыла улыбка, в манерах так и сквозила готовность услужить.
Как же удивился Саша, когда, вернувшись в фанзу, застал там этого же лавочника в совсем другом настроении. Неприятным визгливым голосом он бранил хозяев и что-то требовал от них. Лицо у него было жестоким и высокомерным в то же время.
Старик оправдывался и униженно кланялся. Молодой рыбак стоял позади него и смотрел на лавочника таким ненавидящим взглядом, что Саша испугался, как бы дело не дошло до драки.
На кане, заложив ногу за ногу и болтая носком сапога, сидел невысокий скуластый человек с матово-желтым лицом и прищуренными глазами смотрел прямо перед собой. На нем был белый полушубок армейского образца и белая папаха с малиновым верхом.
Когда Саша попал в его поле зрения, он перестал болтать ногой и снисходительно кивнул ему.
— А я вас дожидаюсь, земляк. Какими судьбами сюда!
— Да вот... заболел, — неопределенно сказал Саша.
Лавочник выпалил еще несколько фраз и ушел, хлопнув дверью. Вслед за ним выбежал и старик, сильно расстроенный разговором.
— Что это он кричал на них? — спросил Саша, ничего не поняв в разыгравшейся перед его приходом сцене.
— Обычная тут история — долги, — сказал гость, отвернул полу и вытащил из кармана пачку японских сигарет. Закурив, он стал расспрашивать молодого рыбака. Говорил он по-китайски так бойко, что Саша не мог уловить разницы в произношении одного и другого. — Оказывается, лавочник девку у них отнял, его сестру. Продал ее в другую деревню. А теперь поросенка хочет забрать. У такого из долгов не вывернешься, сколько ни плати, — закончил он равнодушным тоном, считая эту историю делом обычным и заурядным.
Он назвался служащим японо-китайской фирмы, прибывшим сюда по делу из соседнего городка.
— Услышал про вас и счел своим долгом... Вы из Хабаровска, видно?
Саша подтвердил. Он обрадовался приходу русского и в то же время не знал, как следует себя держать с ним. Что это за человек и каковы его намерения? Когда Саша назвал себя, гость вскричал:
— Те-те-те! Вот не ждал. Алексея Никитича сын?.. Ну рад, рад, — и он церемонно пожал Саше руку. — Папаша ваш человек известный. Вели мы с ним дела. Башка!
Говоря это, он извлекал из карманов запечатанную бутылку водки, копченую колбасу и хлеб, завернутые в серую оберточную бумагу. Ловким ударом в донышко бутылки вышиб пробку.
— Эй ты, давай сюда чашки. Живо!
Распоряжался он с бесцеремонностью человека, привыкшего не встречать отказа своим требованиям.
Саша только пригубил, а пить не стал. Гость из-за этого нисколько не огорчился. Под небольшими рыжеватыми усами у него появилась холодная усмешечка, которая в сочетании с настороженно-внимательным взглядом вызывала у Саши недоверие к нему и ответную настороженность.
— А я — Соловейчик, слышали, наверно? — с откровенностью подвыпившего человека похвалился он. — Тут про меня много историй рассказывают, да большей частью — вранье. Однако провести меня трудно. Не за всякое дело я берусь. Мелочишка разная, чулки, пудра — это не мой масштаб. Теперь, брат, такие грандиозные дела предвидятся... Антик, одним словом. Вальпургиева ночь! — Он захохотал, обнажив желтые, прокуренные зубы. Затем совершенно трезвыми глазами посмотрел на Сашу и спросил, кого еще из хабаровских коммерсантов он знает. Саша назвал Чукина.
— Жулик. Но талант, талант! — сказал Соловейчик, совершенно успокоившись. — Революция подрезала ему крылышки, да ведь это не надолго. Тут такая будет акция, — продолжал он доверительно. — Ожидаются большие транспорты оружия. Из Америки. Вот надо наладить переправочные пункты. Через границу, значит. Найти подходящих людей, склады. Дело спешное. А потом — трах, бах! — и нет ваших... Адью, господа большевики! — Он положил руку на Сашино колено и предложил:
— Знаешь, плюнь на свои дела и поедем со мной! Не прогадаешь. На таком деле крупно заработать можно. Ей-богу! По обе стороны границы шуровать будем.
Саша только присвистнул: граница неожиданно открылась ему еще одной стороной. Он был, однако, достаточно осторожен и виду не подал. Но очень встревожился. «Вот так фрукт! А попадись где-нибудь на дороге — не подумал бы даже. Нет, не знаем мы еще эту публику». Саша впервые так ясно увидел, какие сети плетутся здесь и сколькими бедствиями грозят они его стране. Он возненавидел Соловейчика, как самого заклятого врага.
Должно быть, Соловейчик уловил эту перемену в его настроении. Он опять настороженно посмотрел на Сашу и погрозил пальцем:
— Не хочешь? Дело твое. Только цыц! Шито-крыто и заметано. Как в проруби подо льдом. Понял?
«Завтра уйду на свою сторону, — решил Саша, когда Соловейчик, допив бутылку, убрался наконец из фанзы. Оп почувствовал, что уже в силах проделать такой путь. — Завтра, завтра...» — думал он, засыпая.
Но уходить пришлось раньше. Еще не пропели первые петухи, как кто-то в темноте осторожно постучал в дверь. Старик пошептался с пришедшим и тотчас разбудил сына и Сашу. Тревога, как понял Саша, была связана с намерениями Соловейчика. Ему каким-то образом стало известно о службе Левченко в милиции.
Молодой рыбак вывел Сашу со двора и все торопил его знаками поскорее уходить, видимо, боялся погони. Не менее часа шли они тропинкой по кустам тальника, и только потом проводник по снежной целине повернул к противоположному берегу. Холодный, резкий ветер дул в спину. Идти было трудно. Ноги скользили по мелким торосам, вязли в снежных застругах. Саша нет-нет и падал. Когда его силы совсем уже иссякли, молодой рыбак остановился и весело сказал:
— Ходи, ходи!
Под ногами у них была накатанная дорога. Рядом виднелся крутой яр русского берега, чернели кусты. А за небольшим мыском впереди приветливо мигал огонек.
«Вот я и дома!» — подумал Саша.
И точно камень с него свалился.
Извозчик, которого Саша подрядил с вокзала, высадил его возле «Чашки чая» на Муравьев-Амурской. Из кафе доносилась музыка. Была оттепель, капало с крыш. На тротуарах гуляла публика, слышались веселый говор и смех.
Саша улыбался оттого, что он опять здоров и что день выдался такой ясный и воздух чистый. Он представил себе, как забежит сейчас на минуту к Соне и обрадует ее (Саша и не подозревал, что в родном доме его оплакали, как покойника). Черная проталина на дороге, веселая возня воробьев, ледяные сосульки под застрехами — ничто не укрылось от его острого взгляда.
В самом прекрасном настроении он шел по улице к родному дому. Последний поворот. Вот и калитка. И тут грусть охватила его при мысли, что не может он, как прежде, весело и непринужденно взбежать на крыльцо и с беззаботностью юности застучать сапогами, обивая приставший к подошвам снег. Многое пережил Саша с тех пор, как в последний раз захлопнулась за ним массивная дверь с бронзовой ручкой. Невидимый, но прочный барьер отделил его от отца. Но в доме жила Соня — от нее Саша не мог так отстраниться. Теперь сестра была единственной нитью, которая еще связывала его с домом, где протекли его детство и юность. Он не мог не прийти к ней. Поколебавшись мгновение, Саша ступил на крыльцо и позвонил.
Никто, однако, не открыл ему дверь. Видно, никого не было дома. Саша вздохнул и, медленно ступая, сошел с крыльца.
Поселился он в казарме конного дивизиона. В рапорте Саша описал все случившееся с ним, не позабыл и разговора с Соловейчиком.
На другой день его вызвали в Совет к Потапову.
— А-а, это вы! Я так почему-то и думал, — сказал Михаил Юрьевич, поднимаясь и крепко пожимая Саше руку. — Садитесь пожалуйста. Здорово вы тогда эсеров проучили, в кинематографе. Не простят вам.
— Я ведь ушел из дому, совсем ушел, — сказал Саша, садясь на стул.
— С отцом не поладили? — Потапов чуть поднял левую бровь, лицо у него от этого стало совсем простецким.
У Саши и следа не осталось от той скованности, которую он обычно испытывал в общении с официальными лицами.
— Конечно, не поладил, — подтвердил он. — Если бы вы знали характер моего отца.
— А вот знаю. И представьте, нравится мне Левченко, честное слово, — сказал Потапов без тени улыбки. — Как думаете, отец пойдет служить к нам?
— Ну, нет! Не думаю...
— Пойдет. Обстоятельства принудят к этому. Впрочем, посмотрим. Посмотрим... Так что происходит у нас на границе? Что за Соловей-разбойник объявился там? — Глаза Потапова пытливо уставились на Сашу.
Сообщение о предстоящей переброске оружия из-за границы не могло не насторожить Михаила Юрьевича. В разговоре он несколько раз возвращался к этому.
— Интересный, видно, тип этот Соловейчик. В какой фирме он служит?.. Ага. Значит, тут уже внешние силы действуют. Как думаете, найдутся у них подходящие каналы, скажем, щели с нашей стороны, чтобы транспорты эти просунуть?
— Щелей много. Нам их сразу не закрыть, — сказал Саша, вспомнив старовера с хутора.
За последний месяц Саша сильно изменился. В углах рта образовались две глубокие складки, глаза впали, но горели ярче, лицо похудело, выступили скулы. Он стойко перенес тяжелое испытание, спина его не сгорбилась, характер — закалился. Держался он просто и с достоинством. Чувствовалось, что все, о чем он говорит, прежде тщательно обдумано им.
Саша понравился Потапову. «Грамотный, думающий парень. Может, его в газету послать? Нет, пусть побудет там, где труднее. Ему полезнее», — решил он, присмотревшись к молодому Левченко.
В конце разговора Потапов позвонил Демьянову.
— Придется, товарищ Левченко, щели эти закрыть, как ни трудно, — продолжал он, положив трубку. — А врачам вы уже показались? Нет?.. Как же так, молодой человек! Нехорошо. Идите завтра в госпиталь. Я позвоню начальнику дивизиона.
В результате медицинского осмотра Сашу Левченко на две недели освободили от несения службы. Он действительно чувствовал себя слабым, больше лежал на койке. В солнечные часы посиживал на скамье во дворе казармы, ждал возвращения Ташлыкова. Дня за три перед Сашиным приездом Василия послали на станцию Вяземскую, где подозрительно зашевелились богатые казаки.
В дивизионе Саша встречался со знакомыми милиционерами, отвечал улыбкой на их удивленные восклицания. Все радовались, что слух о его гибели не подтвердился. И хорошо и тепло становилось Саше от дружеского участия.
В этом состоянии радостного возбуждения, опьянения возможностью снова двигаться, действовать Саша позабыл о том, что следовало известить родных о своем возвращении. Обида на отца несколько потускнела, отодвинулась, но была еще достаточно свежа, чтобы помешать ему запросто прийти в дом. Встречаться с отцом Саша не хотел. Поэтому и встречу с сестрой отложил до более удобного случая. В полном неведении о домашних делах Саша прожил еще неделю, пока не вернулся Василий.
Ташлыков бурей ворвался в помещение, обнял Сашу. Затем он зорко оглядел его худую, вытянувшуюся фигуру.
— А здорово тебе попало, парень! Могли ведь и убить.
— Могли, — подтвердил Саша с улыбкой, которая была самым решительным опровержением этому.
— Да-а. Выходит, поспешил я маленько. Не чаял живого-то тебя увидеть. — Василий сел на табурет и смущенно подергал себя за ухо. — Главное, следов никаких. Возле проруби как обрезало. Значит, думаю, — они тебя под лед. Обыкновенное дело в таких случаях.
— Я хотел в деревню уйти. Да сбился, попал на китайскую сторону, — пояснил Саша, не в силах сдержать улыбки. Он живо представил себе, как Василий шел по следу к проруби и что он думал при этом. — Снег падал. Хотя я ничего не помню. Ничего не помню, — повторил он, с удовольствием вслушиваясь в звуки собственного голоса. То, о чем они говорили сейчас, было чем-то далеким, сторонним, как сюжет интересного рассказа, который волнует воображение, а все-таки не вполне достоверен.
— Да, снегу за ночь выпало четверти на две, — подтвердил Василий. — Однако не в нем дело. Не чаял я тебя живого увидеть. Вот глаза мне и застило. — Василий коротко вздохнул, положил на колени загрубевшие от мороза и ветра руки с потолстевшими в суставах пальцами и крепко сцепил их. — Перед родителем твоим я виноват, выходит. Виноват...
— Постой, Василий Максимович! Ты о чем? — спросил Саша, гася улыбку, и в упор посмотрел на Ташлыкова. Сердце толчком ударило в грудь, и вместе с тем пришло ощущение неясной тревоги.
Василий, не мигнув, выдержал Сашин взгляд.
— Похудел, однако, ты — кожа да кости! Ну, жирок нагуляешь, был бы аппетит... А Лексею Никитичу я все сказал, как есть. То есть, как прежде сам насчет твоей судьбы полагал, — тут же поправился он. — Скрывать-то зачем? Отец ведь. — Убрав руки с колен, Василий виновато потупил голову. — Дело сделано — хочешь ругай, хочешь нет.
У Саши вдруг похолодели пальцы, а щеки медленно стали наливаться краской. Только сейчас он понял, что произошло и как он виноват, откладывая со дня на день встречу с родными. Да, нехорошо получилось...
— Ты что же, Александр Лексеич? Стало быть, не показался еще? — спросил Василий и махнул рукой. — Одно, значит, к другому. Ну-у, дела-а...
— Боже мой, я и не знал! Не думал, — Саша в страшном волнении вскочил и забегал по пустому в этот час помещению. — Нет, мои обиды — сущая чепуха. Я кругом виноват. Что же мне делать?
— А ты, Александр Лексеич, ступай. Прямо отсюда и двигай, — мягко сказал Василий, подходя к Саше и кладя руку ему на плечо. — И не бойся. Не бойся. Уж коли горе не убило, радость — не покалечит. Ступай.
В это утро у Сони произошла новая стычка с отцом. Характер у нее, как и предсказывал доктор Твердяков, действительно начал проявляться. Вступив на путь самостоятельных суждений, она больше не хотела терпеть духовной опеки над собой.
Соня дала почувствовать гостям Левченко, как они ей неприятны. Кто-то пожаловался Алексею Никитичу. Дескать, смотри — дочь тоже от рук отбивается. Левченко сам видел, что с дочерью, с его точки зрения, происходит что-то неладное, но молчал. Молчал, пока об этом не заговорили совершенно посторонние люди. Тут он взорвался.
Соня нисколько не испугалась. Былой страх перед отцом прошел безвозвратно. Очень спокойно она объяснила ему, что вольна в своих симпатиях и антипатиях: она уже взрослый человек, и отец должен с этим считаться.
Алексей Никитич не нашелся, что сказать. Спокойствие дочери и ее почтительный в то же время тон обезоружили его. Взгляды Левченко на жизнь расходились все больше со взглядами детей. Когда он понял это, уже было поздно что-либо поправить. Дело быстро дошло до разрыва с сыном. Но теперь и дочь — его тихая и безропотная Соня, так похожая этими чертами на мать, его покойную жену, — она тоже восстала против него. Нет, это уж слишком! Алексей Никитич просто онемел от неожиданности. Он так ничего и не сказал ей, повернулся и вышел. Но за стеной еще долго слышались его тяжелые, грузные шаги.
За время, прошедшее после памятного ему визита Ташлыкова, Алексей Никитич заметно постарел. Между бровями у него пролегли резкие складки, и во всем его облике такого деятельного прежде человека теперь чувствовались усталость, вялость, апатия. Жизнь как-то шла мимо него; он сознавал это, мучился, злился — и был бессилен и вне дома и в своей собственной семье. Каково было ему при его властолюбивом характере мириться с этим?
Как ни странно, но его опять потянуло к таким же вышибленным из колеи людям. В их брани и диком озлоблении Алексей Никитич находил для себя какое-то удовлетворение. Но брань — слабое утешение.
Когда отец уходил из дому, Соня сидела у себя в комнате и не вышла закрыть дверь, как обычно делала. Она даже обрадовалась, что осталась одна. Их кухарка (другой прислуги Левченко теперь не держал) отпросилась в деревню к больной сестре и еще не вернулась. Соня эти дни сама вела хозяйство.
Накануне она заснула поздно и спала недолго: чуть посинели окна, как она проснулась и уж больше не смыкала глаз. Теперь она забралась на диван и отдыхала с книгой в руках. Роман был пустейший, однако с интригой. Соня бегала глазами по строчкам, что почти не мешало свободному течению ее мыслей.
Весть о смерти брата потрясла Соню до глубины души. Человека слабого такой удар мог надолго выбить из колеи, надломить; но Соня при всей ее кажущейся мягкости принадлежала к натурам сильным. Заботы по дому, работа отвлекали ее, и она уже спокойнее могла думать о случившемся. В первый момент она ощутила только ужасающую пустоту вокруг и растерялась. Такого ощущения полной безвыходности больше не было. Она начала пытливо приглядываться к окружавшим ее людям и сама стала более определенной в отношении к ним. Мысли ее получили новый толчок. Пусть Соня пока не пришла к решению, коренным образом меняющему весь образ жизни, — внутренне она готовилась к этому. Все случившееся за последнее время оставило у нее глубокий след: она повзрослела.
Но странное дело! Думая теперь о брате, глубже понимая его характер, она верила и не верила в его смерть. Где-то жила все-таки надежда. Ведь Василий потом не видел Сашу (Соня в мыслях своих всячески избегала слова «труп»), никто его не хоронил. А если?.. И столько этих «если» вдруг возникало в ее голове, что для Сони брат все еще находился где-то на грани жизни и смерти.
Вдруг послышались шаги в квартире. Она слегка повернула голову. Да, кто-то шел по коридору; шаги были не отцовские, легкие, быстрые. Соня вспомнила, что не закрыла дверь, и испугалась. Кто это мог быть?
Человек подошел к двери и остановился, прислушиваясь. Какое-то мгновение оба они, Соня и тот, за дверью, задержав дыхание, с тревогой внимали тишине. Было слышно, как часы в столовой размеренно чеканили секунды. Затем время понеслось в невообразимо стремительном темпе.
— Сонечка, ты дома? — негромко и потому особенно слышно спросил Сашин голос за дверью.
Соня, будто ее сбросило пружиной, спрыгнула на пол, как была в чулках, и с радостным криком помчалась к дверям. Дверь растворилась, и Саша успел подхватить сестру в объятия прежде, чем она коснулась створок протянутыми вперед руками.
— Ах, я же ждала тебя! Ждала, — сказала обрадованно Соня.
Они держались за руки и глядели друг другу в лицо. Саша неохотно отпустил ее руку. Соня еще раз прижалась к его плечу.
Наконец они уселись рядком на диван, и Саша принялся рассказывать, что с ним случилось. Соня ахала, всплескивала руками, но ей уже не было страшно. Она большими радостными глазами смотрела на брата.
— Ой, ты же голоден! Я тебя покормлю. Только кухарки нет, — Соня стала повязывать голову платком. — Пойду сейчас за дровами.
— Ну нет, сестренка! Я принесу, — возразил Саша. — Ключ от дровяного сарая на старом месте?
— Да. — Соня соображала, что бы такое приготовить на скорую руку. — Ты кофе хочешь с гренками?
— Милая Соня, да я жареные гвозди могу съесть, — счастливо засмеялся Саша.
Он принес большую охапку дров, с грохотом свалил их возле плиты. Дрова разгорались плохо. Саша опустился на колени и, нагнувшись к дверце плиты, стал раздувать зажженную щепу. Вспыхнули, полетели искры, и скоро веселое, потрескивающее пламя принялось лизать кору березовых поленьев.
Пока Саша ел, Соня рассказывала ему о домашних делах. В ее изложении все выглядело благополучно. Об отце и его настроении она говорила сдержанно и так, будто смотрела на него со стороны. Зато болезнь Алексея Никитича была описана ею со всеми подробностями.
Часы пробили три раза. Саша вздохнул, подумав о том, что скоро вернется отец. Ему, следовательно, пора уходить. Они условились, что Соня сама сообщит отцу о его возвращении.
Но пока они об этом договаривались, в передней послышались шаги Алексея Никитича. Он пошаркал ногами, пошуршал за стеной, вешая пальто, остановился, должно быть заметил Сашину шинель, но не узнал, чья она, и прошел к себе в кабинет.
— Ты должен пойти к нему, я тебя прошу, — быстрым шепотом сказала Соня и дернула брата за руку. — Он очень тяжело воспримет, если через меня. Больное сердце, понимаешь.
— Что ж, так лучше, — согласился Саша. Он понимал, что при сложившихся обстоятельствах нельзя уйти из дому, не повидавшись с отцом.
Саша одернул гимнастерку, поправил ремень, постучался и с сильно бьющимся сердцем шагнул в кабинет.
— Отец, ты не должен винить нас, меня и Василия, — начал он заранее придуманной фразой, никак не выражавшей его действительных чувств.
Алексей Никитич шел навстречу ему, широко расставив руки, как слепой. В глазах у него были и радость, и страх, и растерянность. Обняв сына, он вдруг заплакал. Саша чувствовал, как содрогаются отцовские плечи и грудь. У него тоже глаза повлажнели.
— Ну что ты! Что ты, папа... живой ведь я... — смущенно бормотал Саша.
Алексей Никитич не любил слез и стыдился открытого проявления своих чувств.
— Вижу. Вижу, что живой. Рад: Мне больно было бы похоронить тебя. А за слезы извини старика, — сказал Алексей Никитич. — Стареть начал, извини.
Оба отступили чуть и некоторое время молча разглядывали друг друга. Затем они заговорили и в довольно мирных тонах.
— Теперь-то ты одумаешься, наверно? — Алексей Никитич с немой мольбой посмотрел на сына.
В глазах у Саши сверкнул огонек, лицо его приняло прежнее выражение отчужденности и упрямства.
— Напротив. Теперь-то уж я на попятный не пойду, — ответил он тоном более резким, чем хотел. — Как жаль, отец, что ты не понимаешь этого.
Алексей Никитич промолчал. Мрачно-суровое выражение его лица не располагало к разговору. Саша посидел еще немного и стал прощаться.
— Заходи. Буду рад тебя видеть, — сказал ему отец, как чужому.
Они встретились и разошлись по-прежнему непримиренные. Но зато и без недавнего озлобления друг против друга.
У Чагровых в доме беда — заболел Николенька. Третий день мальчик метался в жару, кашлял, хватался ручонками за грудь. Жестокая простуда свалила его. И не удивительно. Ребятишки бегали по улице, одетые кое-как.
Пелагея с ног сбилась. С утра, как заведенная машина, она крутилась возле плиты, готовила пищу, мыла посуду, стирала, носила воду из колодца, колола дрова, бегала в лавку за хлебом и разной мелочью. Прежде часть этих работ выполнял Николенька. Он был покладистый ж послушный мальчик.
Мирон Сергеевич уже третью неделю находился в отъезде. «Затеял себе на голову эти ремонты. А мне разорваться тут», — думала Пелагея, слушая, как стонет Николенька. Каждый стон отзывался в ее материнском сердце. Случалось, что Николеньке попадало от нее под горячую руку. Пелагее некогда было предаваться нежностям. Детишек она держала в строгости, не баловала их, но любила безумно. Все ее старания были отданы им. В ее многотрудной жизни дети были почти единственной отрадой.
Двое меньших — Миша и Павлик — не понимали еще, как тяжело приходится матери. Они хныкали, ссорились, просились гулять. Но как могла Пелагея пустить их на улицу полураздетыми? Недоставало еще, чтобы и эти свалились. Напуганная болезнью старшего сына, она дрожала теперь и за младших.
— Мама, корочку. Ма-ма, хлебца-а, — просили они, глядя на нее голодными глазенками.
— Пи-ить! — чуть слышно проговорил Николенька.
Пелагея, наградив младших шлепками, спешила к больному с ковшиком воды.
После непродолжительной оттепели снова наступили холода. Подслеповатое низкое окошко заросло льдом и снежным инеем. Ветер дул прямо в дверь и выстуживал комнату.
Николенька, метавшийся в бреду, часто сбрасывал с себя одеяло. Пелагея боялась, что он еще больше застудится, закрывала ему плечи. Она не отходила от него всю ночь и готова была свалиться от усталости.
— Ма-а-ма, корочку-у, — тянул шестилетний Павлик.
— Да чтоб вас разорвало! Чтоб вы лопнули! — закричала Пелагея.
Холодное отчаяние начало охватывать ее. За что же такие мучения? Но она не могла опускать руки. Кто тогда поставит малышей на ноги... Мирон?.. Пелагея горько улыбнулась. Ее Мирона будто подменили. Как началась революция, он и про дом забыл. И то сказать, взял на свои плечи обузу. Небось другие не поступали так. Пелагея, однако, в другое время не стала бы осуждать мужа. Но появись он вот в эту минуту, много горьких упреков высказала бы она ему.
Николенька бредил. Его открытые глаза смотрели на мать и не узнавали. Пот мелким бисером выступил у мальчика на лице.
Пелагея положила руку на его влажный лоб и ощутила сильный жар. Она с тревогой подумала, что мальчик может и умереть. Эта мысль поразила ее в самое сердце. Снова подумала она о Мироне Сергеевиче. Николенька был его любимцем. Что скажет он, если она не сбережет мальчишку.
В Арсенальской слободке не часто обращались к врачам. Какие там врачи — не по средствам. Здесь и рождались и умирали без вмешательства медицины. «Бог дал, бог и взял», — говорили в таких случаях. Но как могла Пелагея быть пассивной в такую минуту? «Надо позвать доктора, — решила она. Все ее мысли сосредоточились на этом. — Малышей отведу к соседям. Николеньку закрою на ключ, — думала она. — А если ему станет хуже? Если...» — она заколебалась, вся похолодела, не смея додумать мысль до конца.
— Мирон, Мирон! Где же ты ходишь? — стоном вырвалось у нее.
В эту минуту мучительных колебаний к ней и заглянул председатель завкома Алиференко. Он вошел вместе с клубом ворвавшегося морозного пара и не сразу разглядел, что происходит в доме.
— Здравствуйте! Давненько я не был у вас, — весело сказал он, снимая шапку и отряхивая у порога снег. — Живы-здоровы?..
Пелагея взглядом указала на кровать. Ее измученное лицо сказало ему больше, чем слова.
— Что же вы не послали сказать? Да и я хорош. Эх, какая неприятность! — воскликнул Алиференко, посмотрев сочувственно на нее и на Николеньку. — Давно парнишка заболел?
— Третьего дня.
— Врач был?
Пелагея покачала головой.
— Я только собралась. Одна. От них шагу отойти нельзя, — стала оправдываться она.
— Врача сейчас вызовем, — сказал председатель завкома. — Пошлем подводу в город. Что еще нужно?.. Продукты имеются? Может, младших пока к соседям определить, а? Что за болезнь у него? Карантин не потребуется?..
— Кашель. Кашлем он мается, — сказала Пелагея, прикрывая плечи Николеньки одеялом. — Вот так и мечется в жару. Так и следи.
— Ладно. С ребятишками решим после того, как побудет врач. Это нам проще устроить, — сказал Алиференко. — Кстати, на днях должен приехать Мирон Сергеевич. Я, собственно, и забежал сказать. Вы уж держитесь, Пелагея Степановна.
Он взглянул еще раз на Николеньку и надел шапку.
— Дрова у меня кончились, — сказала Пелагея. — Мирон хотел выписать, да вот — уехал.
— Будут и дрова, — пообещал Алиференко. Пелагея уж так была ему благодарна.
Алиференко же прикрыл дверь и ругнул себя: «Эх, я — скотина!» Он чувствовал себя кругом виноватым. Пока Мирон Сергеевич был дома, Алиференко чуть ли не каждый день заходил к нему. Сколько вечеров они просидели вдвоем, покуривая по очереди у порога и обсуждая заводские дела. А уехал Чагров — и он ни разу не справился о его семье. Закрутился.
Дела в Арсенале как будто стали налаживаться. Были подписаны контракты с железной дорогой и пароходством. В Арсенале обтачивали вагонные скаты, отливали шестеренки для конных молотилок и жнеек; кузнецы ковали лемехи для плугов, изготовляли костыли и накладки к ним; в деревообделочном цехе делали мебель и бочки под рыбу. Местные заказы позволили занять рабочих и избежать сокращения персонала.
Полковник Поморцев, восстановленный по его просьбе в правах начальника Арсенала, держался вполне лояльно. Он не перечил больше воле рабочего коллектива и довольно охотно брался за проведение в жизнь предложений завкома. Глядя на него, подтянулись и остальные чины заводской администрации. Но недоверие к ним у рабочих осталось. Часто на этой почве происходили стычки. Алиференко приходилось вмешиваться во все эти дела: обещать поддержку одним, усовещать и стыдить других. Каждый день у него был заполнен до отказа. Дела, дела... конца и краю не видно.
Занятый с утра до ночи, Алиференко с нетерпением ожидал приезда Чагрова. Мирон Сергеевич со своей спокойной рассудительностью был просто незаменимым человеком. Немало было и других арсенальцев, которым пришлось браться за незнакомое им вовсе дело. Было просто удивительно, как быстро втягивались рядовые рабочие в совершенно новую для них сферу деятельности и какое поразительное умение и сметку они обнаруживали при этом. «Великая сила — рабочий класс!» — эти вычитанные однажды слова Алиференко любил повторять при всяком удобном случае.
— Какой же ты к черту рабочий класс — мундштук с зажигалкой, — корил он какого-нибудь лодыря.
— Вот это ухнули... Ай да рабочий класс! — хвалил отличившихся в другом цехе.
Алиференко — человек среднего роста, склонный к полноте, но достаточно подвижный, чтобы эта полнота не бросалась в глаза. У него русые мягкие волосы с начинающейся залысиной и белая кожа с еле заметными веснушками. В больших серых, широко расставленных глазах светился ум. Он был лукав и добродушен, проницателен и доверчив в то же время.
Хороший токарь, довольно начитанный, грамотный, Алиференко как нельзя лучше подходил к той роли, какую ему сейчас приходилось играть. Он был настоящей душой заводского коллектива. В слободке он знал чуть ли не всех жителей поименно, знал, сколько у кого детей, когда в каком доме будут крестины, свадьба.
Личная жизнь у него сложилась неудачно: жена рано умерла, детей не было. Жил он бобылем. Всю свою неизрасходованную привязанность и жажду деятельности, всю великую любовь к людям Алиференко бескорыстно отдал жителям Арсенальской слободки. Ради них он был взыскательным, строгим и даже жестоким, если встречался с вором или разгильдяем. Мог стать и беспощадным.
Выйдя от Пелагеи, он помчался на конный двор, чтобы отправить подводу за доктором. Но, как назло, все лошади оказались в разгоне, кроме выездной начальника Арсенала. Тот сам собирался ехать в город.
— Когда подавать велел? — спросил Алиференко у конюха.
— Да минут через двадцать.
— Запрягай сейчас. Под мою ответственность.
Минут через пять Алиференко объяснял начальнику Арсенала положение дел.
Сложными были отношения между ними. Алиференко понимал, куда тянется душой Поморцев, и делал вид, что не замечает этого; был простоват в обращении, не шумел, не грозил, а всегда как бы советовался с ним. Поморцев знал, что председатель завкома не так прост, как кажется, считал его хитрецом и побаивался его проницательности. С ним он был корректен и сговорчив, но собственного достоинства не ронял.
В душе Поморцев очень удивлялся тому, что рабочие сумели обеспечить Арсенал заказами и проявляют столько усердия в делах. Он привык представлять себе рабочего существом забитым и равнодушным ко всему, что не касается прямо его заработков. Как же он был поражен, когда увидел хозяйскую заботу этих же самых людей, их стремление получше наладить производство. Поражала и готовность рабочих нести тяготы и лишения во имя проблематичного лучшего будущего. Поморцев объяснял это исключительно личным примером и влиянием таких незаурядных личностей, как Алиференко, Демьянов или Чагров — арсенальских большевиков. Не будь их, что значила бы вся эта пестрая, неоднородная толпа? Чтобы рабочие и крестьяне сами стали управлять государством? Бог мой! Когда это было? Где?..
Слушая Алиференко, начальник Арсенала не сразу понял, что тот от него хочет на этот раз. Больной ребенок? А при чем здесь он, Поморцев? Уж это, кажется, не входит в круг его обязанностей. Слава богу, хватает забот и без голопузых мальчишек.
— Гм... Случай действительно... — недовольно морщась, протянул он. — Чей ребенок, Чагрова?.. Так, так. — Он хотел сказать, чтобы взяли извозчика, но не решился. — Какого надо врача?
— Хорошего, — сказал Алиференко. — Самого лучшего, какого вы знаете...
— Н-да... Что же, мне самому за ним заехать? — спросил он, обескураженный тем, что приходится заботиться о каком-то неизвестном мальчишке.
— Я очень прошу вас. А лошадь мы сразу пришлем обратно. Вас не задержим.
— Ну хорошо. Хорошо. — Поморцев надел шинель.
Часа через полтора кучер начальника Арсенала привез доктора Твердякова. Он рысью промчал его по кривым улочкам слободки и осадил перед оврагом.
Когда Алиференко пришел к Чагровым — он сам привез дрова, — осмотр больного был закончен. Доктор мыл руки над тазом, а Пелагея из кружки поливала ему.
— Тесно живете, — говорил Марк Осипович, критически оглядывая помещение. — Детишкам необходим воздух. Как можно больше воздуха.
— Тесно. Тесно, — подтвердила Пелагея. — И то слава богу. Другие совсем без своего угла.
— Что с мальчиком? Болезнь опасная? — спросил Алиференко.
— А знаете, кризис миновал. Дела теперь пойдут на поправку, — сказал Твердяков, вытирая полотенцем руки. — Мое вмешательство не сыграет особенной роли. Но лекарства вы ему давайте, как я сказал. И не застудите снова парнишку. Одевайте получше, когда будете пускать гулять, — повернулся он к Пелагее.
Алиференко в словах доктора почудился упрек.
— Тогда извините. Оторвали вас от других больных, — глухо сказал он, глядя на то, как Марк Осипович прятал стетоскоп в дорожный чемоданчик.
— Другие тоже на поправку идут, — весело отозвался Твердяков. Он нисколько не был огорчен дальней поездкой. Случай был несложный, но наводил на некоторые интересные мысли. В отличие от Поморцева, доктор был склонен делать из своих наблюдений определенные выводы. — Да, батенька мой, повышается ценность человека — вот первый результат революции, — продолжал он, обращаясь к Алиференко. — «Кто был ничем, тот станет всем». Вот и прекрасно!
Дня через три после посещения доктора Николенька встал. За дни болезни он похудел, вытянулся. Пелагея так была рада, так довольна, что не знала, чем его и потчевать, Сбегала к соседке за мукой и затеяла печь оладьи.
негромко, приятным голосом пела она, стоя у плиты, вся раскрасневшаяся от жары.
Николенька с понимающей улыбкой глядел на мать. Миша и Павлик сидели у него на кровати и жадно вдыхали шедший от плиты запах разогретого масла. Оба плутовскими глазенками посматривали друг на друга и на Николеньку.
Пелагея подбросила в плиту дров, передвинула кастрюли и продолжала выводить тоскующим голосом:
— А вот и я воротился! Здравствуйте, — сказал Мирон Сергеевич, открывая неожиданно дверь и пропуская вперед себя незнакомца в хорошем пальто заграничного покроя.
— Good morning! How are you, missis?[7] — приветливо произнес тот и одним быстрым взглядом осмотрел помещение.
— Принимай гостя, Пелагея. Из Америки, — продолжал Мирон Сергеевич таким тоном, будто это было для него самым заурядным делом. — Пальто сюда можете повесить, — обратился он затем к гостю и показал на гвоздь.
— Thank you, — сказал тот, поставил чемодан возле дверей и озябшими руками стал расстегивать пуговицы. — It is very cold today[8], — пожаловался он, но Мирон Сергеевич его не понял.
— Сюда, сюда… — вот на этот гвоздь, — сказал он и хотел принять пальто.
Американец улыбнулся и жестом показал, что он и сам прекрасно справится.
Это был жизнерадостный человек лет тридцати пяти с худощавым продолговатым лицом и светлыми вьющимися волосами. Зубы у него ровные, белые. Глаза — голубые, взгляд открытый.
На нем был серый костюм, умело подобранный в тон галстук, коричневые ботинки.
Пелагея и дети смотрели на него, как на явление из другого мира. Уж очень необычно выглядел незнакомец на фоне убогой обстановки их комнатушки.
— Подай человеку стул. Что же ты, — напомнил Мирон Сергеевич, снимая с плеч котомку и ставя ее на скамью возле кадушки с водой.
Пелагея, раздосадованная тем, что муж не предупредил ее, и смущенная ералашем в квартире (она только собиралась взяться за уборку), кинулась освобождать стул.
— Садитесь. Садитесь, пожалуйста, — говорила она, вспомнив об обязанностях гостеприимства.
— Thank you! — еще раз сказал американец. Держался ой просто. Видно, что ему бедность была не в диковинку. Пока Пелагея пекла оладьи и рассказывала мужу о болезни Николеньки, гость опытным взглядом подметил все. Похудевшее лицо мальчика, аптечные склянки у изголовья, запах лекарств, — что еще требовалось, чтобы прочесть историю последних дней? Этим людям нечего скрывать, независимо от того, застигнуты они врасплох или нет. Зато и добрые чувства у них неподдельные, настоящие.
— Ставь-ка самовар, Пелагея. Попьем чайку, побеседуем, — предложил Мирон Сергеевич. — Я привез сала и яиц, можешь яичницу сготовить. И оладьи кстати. А вам, ребята, — гостинец. Лущите орехи, — продолжал он, доставая из котомки пахнущие смолой кедровые шишки. — Только ты, Мишутка, сперва сбегай к дяде Алиференко. Знаешь, где живет?
— У бабушки Степаниды, — пропел Мишутка. — Возле колодца.
— Правильно. Скажешь бабушке, как он придет, — пусть к нам поторопится. Алиференко заходил? — спросил он у Пелагеи.
— Был, спасибо ему. — Пелагея достала из сундука праздничную скатерть. Движением бровей показала на сидящего американца. — А он что, по-русски не говорит?
— Не говорит, — с сожалением сказал Мирон Сергеевич.
— А как же... разговаривать? — брови у Пелагеи удивленно поднялись. — Да ты хоть знаешь, кто он?..
— Да уж не буржуй. Хороший, видно, человек. Товарищ... комрад по-ихнему.
— Comrade! Comrade!..[9] — подтвердил американец, догадавшийся о сути разговора. С той же приветливой улыбкой он принялся помогать Пелагее стелить скатерть.
— Что вы!.. Я сама, — смутилась Пелагея, подумала: «Простой, видать... Комрад, ишь ты!..» — и ответно улыбнулась.
Пелагее хотелось как можно лучше принять гостя. Она быстро перемыла тарелки, достала вилки и столовые ножи, которые обычно не входили в сервировку стола.- Поставила для гостя серебряный подстаканник — дар одного из друзей Мирона Сергеевича.
На большой сковороде шипела яичница.
— Вам с дороги помыться надо. Мирон, помоги человеку. Вот не наладил ты умывальник, — с упреком заметила она, подала мыло и чистое полотенце.
За окном протяжно гудел арсенальский гудок.
Мирон Сергеевич подвел вперед отставшую стрелку часов-ходиков, подтянул гирю.
Пока гость умывался, Пелагея, улучив время, шмыгнула за занавеску и сменила кофту. Голову она повязала цветастым платком.
— Чем богаты, тем и рады, — сказала она нараспев и первую порцию подала гостю. — Мирон, вот выпить-то у нас нечего.
— Ладно. Это с утра не принято. — Мирон Сергеевич поставил рядом с собой еще одну табуретку и позвал Николеньку. — Садись. А похудел ты, брат! Да и вырос, кажется. Говоришь, сильно болел?
— Ой, натерпелась я страху! С ног сбилась, — сказала Пелагея. Теперь она сама удивлялась тому, как выдержала все эти трудные и бессонные ночи.
— Кашлять больно было. А так — ерунда. Не знаю, чего мамка боялась. Я ей говорил, — сообщил Николенька, коротко взглянув на отца. Ему хотелось прижаться к отцовскому плечу, но он не решался сделать это в присутствии чужого человека.
Гость с улыбкой посмотрел на Николеньку, на двух меньших, сидевших на полу и занятых добыванием орехов, Он что-то сказал, ткнул себя в грудь и поднял три пальца. По взгляду и по этому жесту Мирон Сергеевич догадался.
— Говорит, что у него тоже трое детишек. Бэби, бэби, слышишь, — пояснил он Пелагее.
— Ах, сердечный! Тоскует, поди. Они где у него — в Америке? — Пелагея с жалостливым сочувствием посмотрела на американца. И чего человек подался в такую даль? Должно быть, надо.
А тот засиял глазами, вынул из бумажника семейную фотографию и протянул хозяйке. Пелагея осторожно приняла ее двумя пальцами.
С фотографии, счастливо улыбаясь, смотрела худенькая женщина с коротко остриженными волосами. На руки она подняла малыша, видно, недавно научившегося держать головку. Выпячивая губы, он с уморительной серьезностью глядел прямо перед собой. Слева от матери на стуле стоял мальчик лет четырех, а с другой стороны — веселая озорная девочка в нарядном платьице, с двумя длинными косичками.
— Везде одна радость у людей — дети, — сказала Пелагея, поглядев на снимок и на гостя.
Ее размышления о схожести людских интересов прервал приход Алиференко.
— Здорово, Мирон! С приездом. Вас, Пелагея Степановна, с радостью, — весело сказал он и посмотрел вопросительно на гостя.
— Вот, комрад, знакомься. Наш председатель завкома. — Мирон Сергеевич при этих словах подтолкнул Алиференко немного вперед и дружески похлопал его по плечу. Американец широко улыбнулся и первым протянул руку.
— Понимаешь какая история. Сажусь я в Чернинской в поезд. Народу — битком. Проталкиваюсь вперед и нахожу местечко рядом вот с ним, — рассказывал через минуту Чагров. — Ну, человек как человек. Одежда на нем хорошая, а народа, вижу, не чурается. Наоборот, интересуется очень. Я тоже полюбопытствовал: откуда, куда? Как это в дороге водится. Отвечает не по-нашему. Вот неудача! А тут мне объясняют — американец это. «Почему так думаете?» — спрашиваю. «Да с ним чех из соседнего вагона по-немецки разговаривал». — «А ну, давайте чеха сюда!» Приходит чех. Калякает с грехом пополам по-русски да, должно быть, и по-немецки не чище. Словом, разговор с одного языка на четвертый. Однако к общему понятию все же пришли.
Чагров многозначительно посмотрел на Алиференко.
— Думаешь, зачем человек приехал? Хочет понять, что в России происходит. Разобраться, значит. А коли так, говорю, вам в самый раз к нам, в Арсенал. Милости просим. Чех ему это растолковал, — и он так обрадовался... Гуд, гуд! Очень, стало быть, доволен. Так вместе и прибыли. Или я плохо придумал?
— Да нет, здорово. Молодец! — с жаром воскликнул Алиференко, весьма заинтересованный его рассказом. — Вон куда весть-то донеслась, — продолжал он с некоторым даже удивлением. — Это, брат, факт сам по себе замечательный. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! — торжественно сказал он и дружески подмигнул американцу.
— American workers are your friends, — серьезно ответил тот. — They greet you, they sent their greetings to Lenin[10].
— Ленин, Ленин... — повторил Алиференко. — А ничего, Мирон, понятно. Ей-богу! — засмеялся он.
— Your revolution is a turning point in the history of mankind[11], — продолжал говорить американец.
Пелагея убрала со стола посуду, отошла к плите и посматривала оттуда на гостя. Странно и приятно в то же время было ей видеть такой интерес к их жизни.
— Так пошагали, Мирон. Пойдем, — предложил Алиференко, когда за окном в третий раз взревел гудок.
Чагров провел ладонью по щеке, заросшей щетиной более чем недельной давности.
Американец тоже потянулся к своему чемодану. Попробовав пальцами лезвия бритв, направив их как следует на ремне, они побрились, заглядывая поочередно в надтреснутое зеркало, касаясь друг друга локтями. И это окончательно сблизило их, несмотря на отсутствие общего языка.
— Good luck to you and your children, missis! Good-bye![12]— вежливо попрощался гость с Пелагеей.
Джемс Грейс — так звали гостя — был глубоко взволнован победой Октябрьской социалистической революции в России. Весть о ней окрылила его, как и многих честных людей за границей.
Уроженец Кливленда — одного из быстро развивавшихся промышленных городов, сын рабочего-сталевара с многодетной семьей, Грейс научился видеть не только панораму дымящих заводских труб, сутолоку уличного движения, нарядные витрины магазинов, роскошные особняки Матеров — владельцев «Кливленд-клиффс айрон компани», на которую гнули спину его отец и старшие братья, — он видел и оборотную сторону промышленного подъема — изнурительный труд рабочего, нужду, голод, болезни и постоянную боязнь остаться без работы. Он наблюдал наступление преждевременной старости у людей, отдавших лучшие свои годы труду на компанию, построивших ей заводы, дома, а затем безжалостно выброшенных на улицу. Ему было четырнадцать лет, когда произошла «чикагская трагедия»[13].
Вскоре он сам начал зарабатывать на жизнь: был продавцом газет, мальчиком для посылок, типографским рабочим, наконец стал журналистом. Как репортер он узнал, может, и не больше своих коллег, но не прошел равнодушно мимо горя и слез. «Ты выбился в люди, Джеме, но не забывай, что был рабочим. Помни, как мы живем», — говорил ему отец.
И Грейс — честный, правдивый журналист — пришел туда, куда и должен был прийти, — в социалистическую печать. Этому способствовала встреча с ветераном социалистического движения в США Юджином Дебсом.
Он был в числе тех, кто летом 1916 года кропотливо собирал доказательства абсолютной невиновности Тома Муни, приговоренного окружным судом в Сан-Франциско к смертной казни по ложному, подстроенному провокаторами обвинению. Борьбе за спасение жизни Тома Муни Грейс отдал многие месяцы. Он неутомимо разыскивал новых свидетелей, писал статьи, был одним из организаторов митингов протеста, прокатившихся по всей стране. В своем родном городе Кливленде он услышал о победе Октябрьской революции в России, о создании рабоче-крестьянского правительства. «Вот за что русских надо уважать!» — воскликнул отец, и глаза у него по-молодому заблестели. Джемс подумал и сказал: «Я должен увидеть это собственными глазами».
...И вот он в России. Он уже толковал с грузчиками Эгершельда во Владивостоке, с моряками Добровольного флота, пожимал сотни дружеских рук. Рукопожатие да улыбка часто были единственным способом выразить свои чувства. Грейс был на пленарном заседании Владивостокского Совета, встречался с его председателем Константином Сухановым. Он видел солдат и матросов на митингах вместе с рабочими, пел с ними «Интернационал». А рядом, соединив руки, стояли китаец и мадьяр. Вот действительное братство трудящихся!
Теперь он шагал по узкой улочке Арсенальской слободки. С обеих сторон тянулись хибары, за ними овраг, дальше гора с рыжим бесснежным склоном, — и все это удивительно напоминало горняцкий поселок где-нибудь в штате Юта или Колорадо.
— Скверно живем. Но будет лучше, — убежденно сказал Алиференко, показывая на лачуги.
В этот день они не расставались. Заходили в дома, бродили по цехам, сидели, оживленно жестикулируя, в тесной комнатушке завкома с таким же литографским портретом Карла Маркса, какой Грейс видел в помещении социалистической партии в Окленде. Арсенальцы назвали имя Тома Муни. Гость понял и оценил это выражение пролетарской солидарности.
Чутким ухом он ловил интонации, когда люди прямо обращались к нему, и страшно досадовал, что не знает языка. Но и без того он понял главное — эти простые рабочие действительно стали хозяевами своей страны. То, о чем мечтали лучшие люди многих стран, здесь осуществилось. Россия оказалась впереди всех. Та самая Россия, об отсталости которой и темноте ее населения столько писалось и говорилось. Как же это произошло? Где та сила, которая подняла на бой гигантов и позволила им бросить вызов миру угнетателей и насильников? — вот вопросы, на которые он искал ответа.
Грейс среди арсенальцев чувствовал себя в своей среде, пока не попал к начальнику Арсенала. Здесь потянуло другим ветром.
— Рабочий контроль?.. Как вам сказать. Все дело в том, насколько компетентны люди... — с паузами говорил по-немецки Поморцев.
— Но люди учатся.
— Да-а, — Поморцев повернулся, взял со стола сводку о ходе работ за прошлую неделю, просмотрел ее, вздохнул. — Вот, пожалуйста! Цифры говорят, что мы идем вниз, падаем, валимся.
— И все-таки рабочие проявляют энтузиазм. Этого нельзя отрицать, — возразил Грейс.
— Эмоции. Мы быстро загораемся и... остываем. Месяц-другой, и верх возьмет российская лень, — с усмешкой сказал Поморцев. — Я пессимистически смотрю на возможности организации производства в новых условиях. Ох, эти контролеры! Дерганье одно. — Говоря это, полковник искоса следил за выражением лица американского журналиста. Что-то он не очень охотно шел навстречу в этом щекотливом разговоре за спиной у ничего не подозревающих Алиференко и Чагрова. Поморцев вел на глазах у них двойную игру и понимал, что может быть пойман на этом. — Я чувствую себя связанным по рукам и ногам, — с простодушным видом пожаловался он. — Не могу, знаете, привыкнуть...
— Кажется, вам не нравится революция? Будьте откровенны, — холодно сказал Грейс.
Рука полковника поднялась к подбородку, скользнула по кромке воротника. Это заняло ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы убедиться, что там все в безупречном порядке. Тогда рука таким же непринужденным движением поднялась к вискам, пригладила реденькие волосы с серебром седины и снова легла на стол.
Поморцев напряженно думал над тем, кто же такой этот американец и почему он так необычно откликается на его откровенность? Кажется, с ним он попал впросак.
Алиференко не придавал сперва значения словоохотливости Поморцева, затем уловил недоуменный взгляд Грейса и насторожился. А что он такое ему напевает?
Он стал внимательно вслушиваться в незнакомые слова чужого языка, пытался догадаться об их смысле.
Но Поморцев теперь изо всех сил старался замять неприятный разговор.
Грейс поблагодарил начальника Арсенала за беседу.
День близился к концу. В кабинете начало темнеть; за окном протянулись багровые полосы вечерних облаков.
Когда они вышли на улицу, Грейс сказал:
— За два месяца вы разворошили весь мир — этот миллионный муравейник. Все трутни мира против вас — значит, вы делаете доброе дело! О, я в этом убежден.
— Да, да, — кивнул головой Мирон Сергеевич, хотя не понял ни одного слова. Он отвечал собственным мыслям. — Плохо, брат... Языков не знаем. Теперь бы расспросить человека... как у них?
— Один, видно, леший! Михаил Юрьевич рассказывал... А что, — спохватился вдруг Алиференко, — сведем его с Потаповым. Он же поговорит с ним запросто.
Джекобс сидел в публичной библиотеке. Перед ним стопки запыленных книг. Он рылся в статистических справочниках, листал выпуски «Вестника Приамурского отдела Российского географического общества», копался в печатных служебных отчетах и иллюстрированных юбилейных изданиях.
Днем в читальном зале посетителей почти не было, и занятиям Джекобса никто не мешал. Тихо шелестели страницы. От книг попахивало сухой пылью, должно быть, это был запах времени. В большие окна смотрело солнце; сквозь ветви деревьев проглядывала амурская ширь.
Круг знакомств у Джекобса расширился. Этому способствовало его умение одинаково повести себя и в равной мере сочувственно отнестись к людям самых, казалось, противоположных взглядов. Он был консерватором, либералом или почти социалистом в зависимости от того, кто являлся его собеседником. Но мог, если случай сводил его с представителями обоих враждующих лагерей сразу, так же мастерски прикинуться нейтральным простаком-американцем, которому непонятны раздоры русских.
Покончив с делами, он шел в кафе обедать. Джекобс облюбовал себе отдельный столик, наполовину скрытый от взоров посетителей разросшимся лимонным деревцем в большой кадке, поставленной прямо на пол. Угол был темноват, но это неудобство искупалось наличием двери в небольшой кабинет с крохотным столиком, широким диваном и вышитыми шелком подушечками. Устраивая в своем заведении такие укромные уголки, владелец кафе простер свою заботу о клиентах до устройства задвижек на дверях. Джекобс давал хорошо на чай, и за час до его прихода официант ставил на стол табличку «занято».
Кафе помещалось на главной улице в красивом по архитектуре здании. До поздней ночи оно сияло освещенными окнами. Прежде сюда собиралась отменная публика — промышленники и негоцианты с женами и дочерьми, офицеры местного гарнизона, чиновники, адвокаты, коммивояжеры и разного рода авантюристы. Здесь играл довольно приличный квартет, и по субботам выступали заезжие вокалисты.
Теперь кафе пустовало. Но все же нет-нет да и забредет сюда кто-нибудь из бывших господ. Тянулись сюда, чтобы услышать сказанную шепотом новость. Здесь рождались слухи, сеялась паника, возникали те почти неуловимые настроения, которые при известном повороте событий проявлялись потом в самых неожиданных и неприятных формах. В кафе шла своя жизнь, скрытая от постороннего глаза.
Когда пришел Джекобс, за столиками сидели компании по три-четыре человека. Группа, расположившаяся у окна, находилась в том градусе, когда уже не стесняются говорить громко, особенно о чужих делах.
— Прохвост, жулик, но, поверьте, он и тут выйдет сухим из воды. Артист! — с увлечением рассказывал плотный по сложению человек, сидевший спиной к Джекобсу. Когда он поднимал голову, на затылке у него образовывались жирные складки.
— Н-ну, не-ет!.. Подсекут, — хмуро возразил тощий собеседник. — Как, Леонид Борисович, верно я говорю?
Молодой человек в сером костюме и широком цветном галстуке лишь неопределенно мотнул головой.
— Зелен ты, брат. Зелен, — с обидным сожалением продолжал тощий. — Но запомни, юноша: прохвоста чехвостят! Такое на Руси не часто встречалось.
— Вот уж нашел чему радоваться, — толстяк пожал плечами. — Подумай только, что происходит.
— Гм... Общая нивелировка состояний и... ума. Одни стали разумнее, берут обратно награбленное, а другие — ха-ха! — оказались в глупом положении. Отчего же не посмеяться над ними, а? Я, брат, и над собой смеюсь. Да... — Он стукнул ребром ладони по столу и предложил: — Выпьем!
— Выпьем! — с готовностью откликнулся толстяк.
Развалившись на стуле, Джекобс отдыхал перед обедом, что, по его наблюдениям, улучшало аппетит. На столе лежала пачка газет из последней владивостокской почты.
Снимки Джекобса были опубликованы на первой странице под кричащими заголовками. В тот же день хмурая физиономия сотника Каурова, сдавленная снизу воротником чужого немецкого мундира, глядела на читателя-американца со страниц вечерних изданий других нью-йоркских газет. Затем сенсацию подхватили газеты Чикаго, Балтиморы, Сан-Франциско. Лживая газетная утка переметнулась по телеграфному кабелю из Америки в Западную Европу. Солидная лондонская печать обстоятельно прокомментировала сообщение Джекобса и предупредила британское правительство об опасности создавшегося положения на Дальнем Востоке. И сразу громче других забили тревогу фабриканты общественного мнения в Токио. Многочисленные «майници» и «хоци» в один голос завопили о «германской угрозе со стороны Сибири». «Джапан таймс» настойчиво рекомендовала союзным державам возложить задачу «поддержания мира» на японскую императорскую армию.
В январе-феврале 1918 года капиталистическая пресса Америки, Англии, Франции, Японии была полна самых фантастических вымыслов о тайном сговоре большевиков с германским империализмом. Газеты наперебой кричали о том, что большевики вооружают немецких и австрийских военнопленных в лагерях Сибири и Дальнего Востока. Корреспонденции Джекобса сеяли тревогу. Ссылаясь на собственные наблюдения, он утверждал, что на Дальнем Востоке для загадочных целей формируется грозная германская армия. Обвиняя большевиков в пособничестве немцам, Джекобс требовал от союзного командования немедленных превентивных мер. Надо действовать, пока не поздно. Не слишком поздно!
Ошарашенный сенсационными «разоблачениями», рядовой читатель должен был забыть о мирных предложениях советского правительства — предложениях, на которые ни одно из капиталистических правительств не пожелало даже ответить.
Обстановка все более накалялась. Американский посол в Токио Моррис недвусмысленно давал понять, что в Вашингтоне сочувственно отнесутся к идее оккупации русского Дальнего Востока японскими войсками, если при этом будут надежно гарантированы американские интересы. Но каковы эти интересы? Как далеко простираются аппетиты американских дельцов? Какого рода гарантии потребуются? — было пока неясно. На рейде Иокогамы в ожидании приказа идти во Владивосток стоял американский крейсер «Бруклин» — флагманский корабль азиатской эскадры Соединенных Штатов. Командующий эскадрой адмирал Найт, рослый, широкоплечий человек с седыми усами, несмотря на свои почтенные годы, проявлял энергию и любознательность завзятого туриста: с целой свитой морских офицеров он посещал приморские курорты, поднимался на вершины живописных гор, осматривал достопримечательности японской столицы. Молодые американские лейтенанты громко восхищались видами и на глазах у японских шпиков щелкали затворами фотоаппаратов.
Кабинет министров Японии решил форсировать события. Выступая в верхней палате японского парламента, премьер-министр генерал Терауци в угрожающих тонах заявил о готовности Японии принять решительные меры для «охраны порядка» в Восточной Азии. Терауци не скрывал, что он имеет в виду не только оккупацию Владивостока, но и занятие японскими войсками Сибирской железной дороги вплоть до Иркутска.
Джекобс прочел сообщение о выступлении японского премьера, нахмурился: ему не понравилось, что инициативу как будто опять перехватывали японцы. «Я бы не стал посылать волка охотиться за оленем. Нет, убей меня бог, не стал бы!»
Перед лимонным кустом кто-то с шумом усаживался за столик, говорил приятным баритоном:
— Пора заморить червячка, как вы думаете?.. У вас, милейший, найдется что-нибудь, кроме этого скучного перечня постных блюд? — За зелеными листьями мелькнула рука с белой манжеткой, небрежно отбросившая карточку меню.
— Для вас непременно-с! — отвечал подоспевший официант.
— Так запиши, голубчик: икры паюсной две порции, графинчик смирновки, солянку сборную... Что еще?
— Грибочков не желаете? Последние из московской партии.
— Отлично, подай грибков... Так, говоришь, поприжали и вас господа-товарищи?
— Так точно-с! Только мы из-под земли достанем, если прикажете-с, — официант взмахнул салфеткой, исчез, будто в воздухе растворился.
— Да, был здесь совсем европейский шик, — продолжал баритон. — Целые состояния проматывались в неделю-другую. А какие обворожительные женщины встречались, боже мой! Гибнет культура. Гибнет...
—А вы, сударь, читали заявление господина Терауци? Как прикажете понимать? — спросил второй из пришедших.
Джекобс навострил уши.
— А понимать так, дражайший, что впредь суждено нам быть под эгидой Японии, — ответил баритон. — И слава богу! Не с большевиками жить.
— Но что скажет Америка?
— Пошумит, пошумит да и отступится. Японцы ее в свой тыл ни за что не пустят, дураками надо быть. Между прочим, открываются интересные перспективы. Имеется у меня прожект... — тут они оба понизили голос, и Джекобс уже больше ничего не мог разобрать.
Компания возле окна, повернув головы, также с любопытством глазела на вновь пришедших.
— Вот он, господа, собственной персоной! Видите каков, — говорил толстяк таким тоном, будто радовался возможности показать приятелям этакий редкостный экземпляр.
— Н-да... лакированный субъект, — раздумчиво протянул тощий и веско заключил: — А все ж — прохвост!
— Глядите — японец, — сказал одновременно молодой человек.
В зал вошел Хасимото. Он быстро огляделся и сразу направился к столику, где продолжали перешептываться баритон и его компаньон. На лице у японца появилась та радостная улыбка, которая заранее говорит, что хотя встреча и неожиданна, но приятна. Должно быть, у обладателя баритона, который сразу же положил нож и вилку и поспешил подняться, на лице тоже было написано нечто похожее; японец улыбнулся еще приятнее, и губы у него шевельнулись, готовые произнести слова привета.
Но в этот миг Джекобс высунулся из-за лимонного куста и громко завопил:
— Хэлло, мистер Хасимото! Чертовски рад видеть вас... Подыхаю от скуки.
Хасимото вильнул глазами и, не меняя улыбки, будто она предназначалась Джекобсу, прошел мимо столика. Обладатель баритона и его компаньон так и остались стоять с недоумевающим и глупым выражением на лицах.
Джекобс понял, что встреча была заранее обусловлена. Злорадное чувство шевельнулось в нем. Осклабившись, он крепко тиснул японцу руку.
Они познакомились несколько лет назад в Китае, куда одного забросила беспокойная профессия журналиста, а другого — «коммерческие» дела.
Заказав официанту обед, они перешли в кабинет, так как компания у окна стала уделять им много внимания.
Разговаривали на английском языке, которым Хасимото владел так же хорошо, как и русским. Говорил больше Джекобс; он и в самом деле ощутил скуку и теперь спешил выговориться.
— Россия, собственно, весьма искусственное образование. Достаточно было толчка, чтобы в ней развились неодолимые центробежные силы, — разглагольствовал Джекобс. — При создавшейся ситуации совершенно неизбежен процесс отпадения окраин. Вот вам факт новейшего времени — образование «временного правительства автономной Сибири».
— Да, после поездки мистера Стивенса в Ново-Николаевск и Омск.
Официант принес поднос с едой, поставил судки на стол. Перекинув салфетку через локоть и почтительно наклонив голову, он ожидал дальнейших приказаний.
Журналист жестом отпустил его. Оба на время отвлеклись от разговора, занявшись едой.
В кабинете было жарко. Мелкие капельки пота все обильнее проступали на лбу Джекобса.
— Помните Циндао? Вы ловко тогда поработали, — продолжал он фамильярным тоном и даже подмигнул собеседнику. — Китайцы оглянуться не успели, как ваша пехота уже маршировала по дорогам Шаньдуна... Черт побери, кое у кого из ваших тогда здорово закружилась голова! Но мы с вами трезвые люди, мистер Хасимото. Мы знаем, как делаются дела. Кстати, война в Европе подходит к концу. Это развяжет кое-кому руки. Ситуация в Китае может существенно измениться.
Хасимото чуть приметно вздохнул. Увы, о политике его страны судят превратно. Само географическое положение Японии накладывает на нее особые обязательства.
«Те-те, старая песня! — думал Джекобс, с благодушным видом подвыпившего человека посматривая на японца. — Пользуясь соседством, хотите первыми поспеть на пожар. Пока из дома вытаскивают вещи...»
Он знал скрытые пружины, приводящие в действие и дипломатов и военных.
Рассуждали о заявлении премьера Терауци и тех возможных последствиях, которые оно вызовет в политическом положении края.
Вдруг в дверь без стука протиснулся господин с бородкой «буланже», похожий на товарища министра или директора акционерной компании.
— Простите, господа, за неожиданное вторжение, В зале проверка документов, — сказал он знакомым Джекобсу баритоном.
— Нас это не касается, — отрезал журналист, недовольный, что его прерывают.
Хасимото холодно посмотрел на вошедшего, безучастно спросил:
— Надеюсь, с вами ничего не случится?
— Да, конечно, господа! Конечно... Только все произошло так неожиданно. Со мной бумаги... — растерянно пролепетал он. — Очень неприятно затруднять, но если вы... если вы позволите...
— Хорошо. Оставьте портфель, — сказал Хасимото.
— Ах, господа, вы спасаете меня! Благодарю, сердечно благодарю!
Пятясь и кланяясь, господин с бородкой моментально исчез за дверью.
Документы проверял смешанный наряд красногвардейцев и матросов Амурской флотилии. Свое дело они делали без излишней сутолоки, быстро и споро, видимо достаточно понаторели в нем.
Публика в зале сперва заволновалась, но старший наряда — черноусый веселый матрос — гаркнул: «Тихо, граждане, честных людей не обидим!» — и шум стих.
Задержали троих: господина е бородкой, его компаньона и сухощавого человека средних лет в гражданском костюме, но с обличающей выправкой кадрового военного.
— А я говорил: подсекут — вот и подсекли! — громко заметил худой человек у окна, оставшийся теперь вдвоем с юношей (толстяк куда-то скрылся).
Перед тем как увести арестованных, охрана пропустила к выходу Джекобса в Хасимото. Японец, помахивая портфелем, учтиво поблагодарил матроса за оказанную любезность.
— Чарльз, а у вас го-ость. Давно дожидается, — такими словами встретила Джекобса дома Катя Парицкая.
Подставив щеку для поцелуя, она тотчас убежала. Пока Джекобс вешал шляпу, снимал пальто, из гостиной вырвались звуки бравурной музыки, так же внезапно оборвавшейся. Послышался женский смех и чей-то незнакомый мужской голос.
Гостем оказался человек средних лет, светловолосый, сухощавый, в светлом, свободного покроя костюме. Он легко, как спортсмен, поднялся с кресла и зашагал навстречу Джекобсу с открытой улыбкой и, протянутой рукой,
— Я так рад, что вижу своего соотечественника и коллегу! — Гость назвал себя: — Джемс Грейс.
Название газеты, которую представлял Грейс, Джекобс тут же позабыл: газета, видно, была не из очень распространенных; владельцы ее, несомненно, желали повысить тираж, иначе на кой черт им понадобилось посылать корреспондента на край света. А людей инициативных Джекобс уважал, и к Грейсу поэтому он отнесся с несвойственной ему сердечностью.
— Черт побери, тут не часто встречаешь человека из Штатов! Китти, две бутылки коньяку и закуску! Сегодня у меня — дорогой гость. — Последние две фразы Джекобс произнес по-русски, помня, что молодая хозяйка не понимает его языка. Впрочем, тут же выяснилось, что в такой же мере русский язык незнаком Грейсу. Джекобс захохотал: — Представляю, как вы тут объяснялись... Вот истинный американский характер! Плевать на такую мелочь, как язык страны, куда едешь. Правильно, дружище!
— А я жалею, что не предусмотрел революции в России, непременно бы выучился по-русски, — серьезно сказал Грейс.
— Не горюйте, Джемс! — Джекобс подал коробку с сигарами. — Стоит ли учить все тарабарские языки.
Джекобс засвистел, принялся составлять на поднос бутылки, тарелочки с икрой, холодной рыбой, ветчиной. Не стесняясь Грейса, он обнял Катю, чмокнул ее в щеку, в губы, весело сказал:
— Вы, конечно, успели спеться. Теперь мой черед. Не сердись, девочка, я похищаю вашего гостя. У нас уйма тем для серьезного разговора. Ты все равно не поймешь. Мы закроемся у меня в комнате, пока не прикончим все это. Договорились? Ну, будь умницей!
Потрепав Катин подбородок, он взялся за поднос. В дверях сказал Грейсу:
— Девчонки здесь податливы, надо только уметь обращаться с ними. Чего не делаешь со скуки, — и тут же откупорил обе бутылки. — За звезды и полосы, дружище Джемс!
Грейс выпил, но заявил, что на этом он ставит точку.
— Глупо, ей-богу! — разочарованно пробормотал Джекобс. — Шекспир пил. Впрочем, черт с ним! Вы, Джемс, наверно, из тех, кто добивается введения в Штатах «сухого закона»? Говорят, билль уже разработан и скоро его внесут в сенат. Откроется новый бизнес: контрабандный ввоз спиртного из Канады и Мексики. Такую штуку могли придумать только в Штатах. Вы давно оттуда? Фриско — Гонолулу — Владивосток? Прямой рейс, не так ли? Океанский лайнер...
— Нет, — Грейс покачал головой и улыбнулся. — Лайнеры или яхта Гарримана не для меня. Предпочитаю крепкую грузовую посудину с хорошей подвесной койкой, с покладистым капитаном, со стоянками в портах по пять-десять дней — чего не посмотришь. Ванкувер — Сидней — Сурабайя — Шанхай. Из Шанхая — сюда. Три месяца пути. Возможно, что в Штатах уже принят «сухой закон». Не знаю. Меня не интересует бизнес контрабандистов. Но я мог бы рассказать вам, как встретили весть о русской революции овцеводы Австралии и кули Шанхая.
Джекобс отодвинул бутылки и стал повнимательнее присматриваться к гостю. Что-то в нем не понравилось ему. Он насторожился, как пес, почуявший чужого. Но, с другой стороны, никто еще не запрещал американскому журналисту колесить по свету каким угодно способом, посещать любые трущобы, пить с матросами во всех кабачках мира. Вернется, глядишь, такой парень в Штаты и хлопнет на стол авантюрный роман, которым станут зачитываться бездельники на пляжах Род-Айлэнда. И будет потом брать лучшие каюты на лайнерах. «Австралийские овцеводы и китайские кули — это тоже бизнес», — думал Джекобс, фамильярно похлопывая Грейса по колену и дружеским тоном излагая ему историю своего знакомства с Хасимото.
— Уж если этот тип появился здесь — будьте покойны, не заставят себя ждать и японские солдаты. Недавно я наблюдал такую же штуку в Шаньдуне. Я, конечно, не против солдат. Но пусть это будут наши американские парни. Иначе джапы слизнут тут все начисто. Подумайте, такой огромный край... колоссальные возможности!..
— А русские? Вы забыли о них, — сказал Грейс.
— Русских не следует принимать в расчет. Их песенка спета.
— О, как бы они не заставили и нас подтягивать им! — Грейс усмехнулся. — Вы сколько времени здесь, Чарльз?
— Три месяца.
— А я — неделю. И, кажется, все мои прежние представления об этой стране полетели вверх тормашками.
Джекобс помолчал, сосредоточенно разглядывая ногти. Поскреб пятнышко на мизинце.
— Что вы думаете о русских, Джемс? — спросил он, не поднимая головы.
Грейс, видимо, хорошо понимал состояние хозяина. Он спокойно смотрел на Джекобса своими задумчивыми глазами, и только у краешков губ таилась скрытая усмешка. Не бог знает какая психологическая загадка — Джекобс.
— Что я думаю о русских? — повторил он. — К сожалению, я не знаю языка, мне трудно во всем разобраться. Но эти парни знают, чего они хотят. Будет по меньшей мере странно, если они не добьются своего. Их сто пятьдесят миллионов.
«Ого, он тоже красный! Должно быть, агитатор из ИРМ»[14], — подумал Джекобс. Но сразу обострять отношения с Грейсом ему не хотелось.
— Джемс, послушайте совет друга: не спешите с выводами, — мягко и убежденно заговорил он. — Я тоже не противник русских. Как люди они мне нравятся. Но они беспомощны перед лицом хаоса. Им необходимо руководство. Вы должны это понять. Существующий здесь режим долго не продержится. Русские не успеют даже поблагодарить вас.
Грейс усмехнулся.
— Если я не ошибаюсь, ваша газета уже раз двадцать предсказывала падение Советов, Сколько из них по вашей информации?
— Пять, — честно признался Джекобс. — События развиваются несколько медленнее, но исход их совершенно ясен.
— Однако пока что большевики смеются над вашими пророчествами.
— Знаете, Джемс, я начинаю подозревать в вас красного. Берегитесь! — полушутя-полусерьезно сказал Джекобс. — Вы недостаточно критически настроены. Это плохо, — продолжал он тем же миролюбивым тоном. — В России, чтобы добраться до истины, нельзя слушать представителей крайних групп — монархистов и большевиков. Надо объективно оценивать положение. Я готов помочь — быть вашим гидом, переводчиком.
— Благодарю. — Грейс посмотрел на часы и поднялся. — Постараюсь справиться сам. Но вы правы: мне нужно во многом разобраться, многое понять. Даже не столько ради России — ради Америки.
В следующие дни Джекобс не видел Грейса, Услышав, что тот посетил отделение Американского Красного Креста, он отправился к Марчу.
Марч ворчал:
— Мальчишка!.. А те, кто его послал, — идиоты. Он вздумал допрашивать меня, почему наш Красный Крест не кормит русских детей? Я отнюдь не хочу вмешиваться в политику, но, по-моему, потворствовать беззаконию есть величайший грех. Короче, я посоветовал ему не совать нос в чужие дела.
— Да, странный человек! — сказал Джекобс.
Миссис Джулия позвала их наверх, чтобы показать новое платье. Марч грузным, медленным шагом затопал к двери, досадуя, что из-за прихотей супруги он вынужден делать лишние движения.
— Уф! Проклятая одышка. — Он остановился посреди лестницы. — Здешний климат губительно действует на меня. Катастрофически начал прибавлять в весе.
— Ты слишком мало двигаешься, — снисходительно заметил Джекобс, тоже останавливаясь; он шел сзади, и пройти по лестнице мимо Марча не представлялось возможным.
Миссис Джулия была под стать Марчу; новое платье нисколько не скрывало ее пышных форм. Джекобсу в доме Марчей все казалось немножечко смешным, старомодным, но милым. Все-таки это была настоящая американская семья. И если сам Марч и его жена, по мнению Джекобса, не во всем отвечали современным требованиям, то этого он не мог сказать об их племяннице мисс Хатчисон.
— А где Вероника? — спросил он, оглядевшись.
— Боже мой, если бы я знала! — простонала миссис Джулия. — Бродит на лыжах где-нибудь в окрестностях города. Не хочет понять, что подвергает себя смертельной опасности. А я должна переживать за нее, — она сделала страдальческое лицо, заломила пальцы и звучно похрустела ими.
— Без воли бога не падет на землю ни единый волос с нашей головы, — поучающим тоном заметил Марч и сунул себе в рот зажженную сигару; дым от нее потянулся через комнату к неплотно прикрытой двери.
Марч отличался страстью к коллекционированию. Комната была заставлена самыми неожиданными предметами. Было удивительно, когда он успел нахватать столько вещей.
— Вы знаете, у Фрэнка неприятности, — рассказывала тем временем миссис Джулия. — Получено письмо от доктора Теуслера[15]. Фрэнка обвиняют в бездействии. Вы представляете?.. Вот награда за то, что мы сидим в этой дыре!
Вернулась с прогулки мисс Хатчисон — румяная, пышущая здоровьем.
— Хелло, Чарли! Какие страхи вы еще раскопали? — Она крепко, по-мужски, тряхнула руку Джекобсу, миссис Джулию поцеловала в щеку.
Вероника выросла в доме Марчей, и миссис Джулия, не имевшая собственных детей, была к ней по-матерински привязана. Она мечтала о хорошей партии для Вероники, баловала и опекала ее, не замечая, что та давно встала на собственные ноги.
Марч тоже благоволил к племяннице — единственной своей наследнице. Он, как ему казалось, лепил характер девушки по образу и подобию своему. Взгляды и навыки, какие он ей прививал, Марч считал абсолютно необходимыми для «пловца в море житейском». Если бы ему сказали, что он калечит душу девушки, Марч удивился бы самым искренним образом... Разве в колледже ассоциации христианских молодых людей, куда с наступлением срока он послал племянницу, не продолжалось воспитание тех же качеств, начало которым было заложено им?
Вероника переоделась, уселась напротив Джекобса на диване, прикрыла колени бархатной подушечкой.
Одевалась она просто, но со вкусом, так что нередко подмечала завистливо-ревнивые взгляды женщин. Это ей нравилось, и она всегда много времени уделяла своему туалету, кроила и перекраивала платья до тех пор, пока не находила ту трудно уловимую грань, когда платье подчеркивает все достоинства фигуры женщины и, наоборот, прячет недостатки. В этом отношении она обладала чутьем художника.
— Скажите, Чарли, когда вернется Дуглас? Я начинаю скучать без него.
Перкинс укатил в Харбин, чтобы повидаться там с главой американской железнодорожной миссии в России Джоном Стивенсом.
...Когда Джекобс вернулся домой, позвонил Марч. Задыхаясь, он прохрипел в телефонную трубку:
— Чарли, потрясающая новость! Грейс — красный! Я так и предполагал.
— Откуда это известно? — спросил Джекобс, но сам сразу и бесповоротно поверил.
— Его видели с большевиком Потаповым, — кричал Марч. — Он ездил на собрание в Арсенал. Говорят, он учит русских делать бомбы. Вы только подумайте!
— Нет, он скорее учится у них, — усмехнувшись, сказал Джекобс и повесил трубку.
Засыпая, он долго думал о том, как заставить Грейса поскорее убраться в Штаты. Ему даже приснился Грейс. Он стоял на краю кровати с бомбой, похожей на глобус средних размеров, размахивал ею и кричал: «Да здравствует мировая революция!»
Джекобс проснулся и уже наяву услышал стук в дверь и громкий, звучный голос настоящего, живого Грейса.
— Чарльз, откройте!
Было светло. Солнце заглядывало в окна.
— Какого черта вы не даете людям спать, — проворчал Джекобс, прошлепав в пижаме через комнату и открывая дверь. — Надеюсь, пожара в доме нет?
— Хуже! Гораздо хуже. — Грейс бросил пальто на диван и вытащил из кармана скомканную газету. — Вот ваш желтый листок! Вы только посмотрите, какую гнусность они напечатали. Вы должны немедленно протестовать. Это го ведь не было? Нет. Вот этого типа в мундире немецкого полковника, — он ткнул пальцем в напечатанный снимок, где на первом плане, выпятив грудь, красовался Кауров, — этого типа здесь знают как облупленного. Мне рассказывали, что он жил в этом доме. Это подтвердила дочь вашей хозяйки. Он такой же немец, как я негр. И вы это прекрасно знаете.
— Ну разумеется, — ухмыльнулся Джекобс. Он понимал, что невозможно отрицать очевидное.
— Тогда как вы терпите, чтобы ваша подпись стояла под этой стряпней? Вы прочтите... Прочтите, — он сунул Джекобсу в постель газету, пододвинул к кровати стул и сел на него верхом. Глаза его сверкали.
— Ну, ну! Полегче, коллега... — Джекобс пробежал глазами заметку, хотя помнил ее и сейчас слово в слово. — Ничего особенного. Я действительно что-то писал в этом роде, — спокойно признался он.
— А снимок?
— Типаж показался мне подходящим. Сотни тысяч читателей не отличат их от доподлинных немцев, даже в дворянском звании. Готов держать пари.
— Подите вы к черту с вашим пари!
— Вы белая ворона, Джемс, — добродушно и без обиды заметил Джекобс. — Такие вещи всегда делались и делаются в Штатах, все это знают, никто не удивляется. Вы будто с луны свалились.
— В Штатах — да. Но этого нельзя делать в России!
— Почему? — Джекобс поднял голову и с любопытством уставился на Грейса.
— Да хотя бы потому, — Грейс заметно волновался, на щеках у него выступил румянец. — Хотя бы потому, Чарльз, что не пойдете же вы с руками в навозе в комнату, где рожает ваша жена, — принимать ребенка. Может, я плохо выразился, но есть нечто священное в том, что здесь, в России, происходит. Важное и светлое, как рождение человека. Кто знает, не есть ли это будущее мира. Здесь можно ходить только с чистыми руками, вы понимаете, Чарльз? С чистой совестью...
Джекобс захохотал.
— Джемс, у вас талант, ей-богу! — вскричал он и похлопал себя руками по жирному животу. — Не зарывайте его в землю. Пишите сентиментальный роман. У вас получится, честное слово.
Грейс с гневом посмотрел на Джекобса.
Вид у него был не ахти какой: лицо со щетиной, опухшее от сна, волосы всклокочены, глаза маленькие, пижама расстегнута, и на груди курчавилась густая рыжая поросль.
— Значит, вы сознательно вводите читателей в заблуждение?
— Они могут не верить, если не хотят. Я не настаиваю, — возразил Джекобс и притворно зевнул.
— Чарльз! Это гнусно, то, что вы пишете, и то, что говорите... Чудовищно играть такими вещами, как мир! Вы забываете о жизнях солдат... американских парней!
— Все относительно, Джемс, — Джекобс подобрал под себя ноги, прикрыл их одеялом, утвердился посреди кровати, как буддийский божок. — Ценность человеческой жизни тоже весьма относительна. Будьте философом, Джемс. Умейте взвесить добро и зло, не поддаваясь ненужным эмоциям.
Грейс, прищурясь, молча посмотрел на него. Ну и циник!
— Вы такая паршивая свинья, Джекобс, что мне чудится запах мертвечины. От вас пахнет, честное слово, — с презрением сказал он, и Джекобса передернуло от этих слов. — Теперь вы по крайней мере знаете мое мнение. Гуд бай!
И ушел, хлопнув дверью. Скомканный номер газеты остался на кровати. Джекобс смял его и бросил в корзину. Долго еще он злился и не мог приняться за дела: чувствовал себя обиженным.
Потом к нему зашла Катя Парицкая. Она принесла с собой раздражающий запах духов, шелест платья, беспричинный смех.
Джекобс с усмешкой наблюдал, как она двигалась по комнате, переставляла вещи по-своему, рисовалась перед ним с откровенным желанием нравиться.
Он усадил Катю на диван, принялся расспрашивать ее о девичьих секретах, наконец, о прииске Незаметном. Катя оказалась не так уж плохо осведомлена о денежных делах семьи.
На Джекобса нахлынуло лирическое настроение. Задумчиво перебирая пальцами распустившиеся волосы Кати, он заговорил о своем тяготении к тихой, спокойной жизни. Ему надоело скитаться по свету. Есть в Штатах на океанском побережье чудесные уголки. Да и много ли человеку надо — удобный загородный дом, сад, собственный автомобиль, собственную яхту, приличную городскую квартиру. Все обойдется не очень дорого. Во всяком случае, Кате и ее матери это по средствам, — Джекобс тут же подсчитал на листке бумаги примерную сумму с переводом нынешнего курса рубля на доллары. Они в состоянии обеспечить себе такое безбедное существование. Может быть, и с поездкой за границу, скажем, в Париж, когда закончится война.
Катя увлеклась, вносила дополнения, спорила; Джекобс благодушно посмеивался и уступал. Рука его покоилась на Катиной талии. Он не убрал ее и тогда, когда Юлия Борисовна вошла в комнату, чтобы справиться о его самочувствии.
— Ах, мама, я так счастлива! — зардевшись, воскликнула Катя и зарылась головой в подушку.
За обедом Катя пересказала матери план Джекобса. Юлия Борисовна озабоченно заметила, что нужно сперва посоветоваться с Алексеем Никитичем. Джекобс возразил: незачем вмешивать чужих в семейные дела. Если тут все быстро наладится, будет смысл расширить прииск, повести дело с американским размахом. Придется привлечь дополнительный капитал. Джекобс берется устроить это, у него имеются связи в банковских кругах. Необходимые бумаги можно составить у американского консула. Колдуэлл для Джекобса все устроит, в два счета. И прежде всего американские визы для Китти и ее матери.
Юлия Борисовна украдкой утирала слезы. Вот что значит, когда в доме появляется мужчина! Есть на кого опереться...
Перкинс вернулся из Харбина дня через три. Юлия Борисовна сообщила ему о своей радости. Катя помолвлена с Джекобсом. «Что ж, хорошо все, что хорошо кончается!» — философически заметил Перкинс, засвистел, пощупал щетину на щеке и пошел бриться.
— Я слышал, ты женишься, Чарли? Непременно позабочусь о свадебном подарке, — сказал он, входя к Джекобсу, и уж больше не касался этой темы.
Перкинс был человеком дела. Предстояло, как он выразился, чертовски много работы. Джон Стивене настойчиво проводил свой план захвата американцами железных дорог Сибири и Дальнего Востока. Он требовал искать подходящих людей, завязывать знакомства, прощупывать настроения, быть готовым взять дело в свои руки по первому же сигналу.
В Харбине, когда туда прибыл Перкинс, шла лихорадка совещаний. Совещались Хорват и офицеры-монархисты, бежавшие от Советов; совещались разного рода дельцы, бывшие директора акционерных обществ и оказавшиеся не у дел концессионеры; совещались кадеты, меньшевики, эсеры—все эти партии, делавшие ставку на Учредительное собрание, также оказавшуюся битой; совещались, наконец, консулы союзных держав, представители генеральных штабов, и где-то за кулисами умело дергали за веревочки дирижеры из иностранных разведок. Раз! — есаул Семенов выскакивает из безвестности; два! — и на восточном горизонте появляется сухопарый адмирал Колчак.
Сновали курьеры между Харбином и Пекином, где столь же лихорадочно совещались послы Америки, Англии, Франции и Японии, куда один за другим устремились японские генералы, английские полковники, американские майоры. Одна дорожка свела там вместе петроградского заводчика Путилова, лидера партии октябристов Гучкова и кандидата во всероссийские диктаторы Колчака. Решение Верховного Совета Антанты о проведении интервенции в России принимало совершенно конкретные очертания. Момент для вооруженного нападения считался подходящим: молодая Советская республика, подавив контрреволюционные мятежи Каледина и Дутова, вела теперь неравную борьбу с перешедшими вероломно в наступление армиями германского империализма. Смертельная угроза нависла над колыбелью революции — Петроградом.
Рассказывая бегло о своей поездке, Перкинс в то же время посматривал на Джекобса, который вышагивал по комнате на своих журавлиных ногах.
— Я бы не стал пускать японцев сюда. Они хотят укрепиться здесь прежде других, — сказал Джекобс.
— Сейчас нам нужны их солдаты, — спокойно заметил Перкинс. — Не воображай, пожалуйста, что ты здесь можешь самостоятельно вести политику. В два счета получишь по башке. В Вашингтоне люди поумнее тебя. Железные дороги Стивенса — это разве не хорошая американская узда на любую армию, которая может появиться в Сибири.
Тут Перкинс хлопнул себя по лбу, как человек, который вспомнил нечто важное, полез в карман и достал распечатанное письмо.
— Пожалуй, это касается тебя, Чарли. Большевики хотят вывести вас на чистую воду. А дурень Робинс из Красного Креста согласился принять предложение Советов о посылке в Сибирь специальной комиссии для проверки положения в лагерях немецких военнопленных.
— Чепуха! В Вашингтоне прекрасно осведомлены, в чем тут дело, — отмахнулся Джекобс и не взял письма. — А кто едет?
— Капитан Вебстер да какой-то англичанин. А из Пекина в Иркутск отправляется Вальтер Дрисдейл, наш военный атташе.
— А, Дрисдейл! — протянул Джекобс и, закинув ногу на другое колено, принялся беззаботно болтать ею.
Алеша Дронов вез Джекобса в лагерь военнопленных на Красной Речке. Хабаровский Совет организовал поездку для того, чтобы опровергнуть распространившиеся вздорные слухи о формировании на территории края немецких вооруженных отрядов.
Журналист задумчиво поглядывал на удалявшийся город, думал о том, что поездка ничего не даст ему. Но не мог же он отказаться, черт побери!
Алеша первое время дичился, односложно отвечал на вопросы. Джекобс тоже приглядывался к провожатому.
— Ваша революция — естественная реакция на царский деспотизм. Но в демократической стране она просто была бы невозможна. Уверяю вас, молодой человек, — говорил Джекобс, предлагая Алеше сигареты.
— Будто у вас нет богатых и бедных, — горячо возражал Алеша. — Небось и у вас рабочие живут скверно. Возьмут и не станут мириться.
— У нас это не привьется, — заметил Джекобс.
«За буржуев стоит. Факт, — подумал Алеша, но виду не подал. — Пусть смотрит, нам прятать нечего. Раз соврет, два соврет, а на третий, может, и правду скажет».
Будучи сам человеком большой душевной чистоты и порядочности, Алеша и в других людях прежде всего хотел видеть хорошее. Он и в мыслях не допускал, что могут быть люди, которые лгут во всем, лгут злостно и преднамеренно, лгут всегда. Ему казалось, что достаточно только убедить такого человека, раскрыть ему правду, как он откажется от заблуждений.
Проехав рысью по улице поселка, Алеша свернул влево. Дорога поднималась в гору, и лошадь пошла шагом. Еще поворот, и сани остановились перед закрытыми воротами лагеря, возле которых не было никакой охраны.
Алеша сам распахнул ворота, широким жестом указал на невысокие кирпичные строения, окружавшие двор.
— Прошу смотреть. Беседовать можете с кем угодно. Переводчик нужен? — спросил он, останавливая сани среди двора, и приветственно помахал рукой группе солдат, пиливших неподалеку дрова.
— Я немного болтаю по-немецки, — сказал Джекобс, выбираясь из саней и разминая ноги.
Осмотревшись, он пересек двор и подошел к солдатам. Здесь были одни немцы, хотя в лагере преобладали австрийцы и мадьяры. Военнопленные использовались на работах по возведению новых зданий и заготовке дров.
Солдаты охотно разобрали у Джекобса сигареты, но к сообщению, что перед ними находится американский журналист, отнеслись с обидным равнодушием. Длинный верзила артиллерист, не глядя на Джекобса, спросил:
— За каким чертом американцы ввязались в войну?
— Очень жаль, что мы не можем как следует накостылять им! — вставил бойкий чернявый пехотинец. Остальные одобрительно засмеялись.
Джекобс сделал вид, что не понял их слов, и стал расспрашивать о принятом в лагере распорядке дня. Строгая ли охрана и не обижают ли пленных русские?
Отвечали ему сперва не очень охотно. Порядками в лагере пленные в общем были довольны. В конце концов здесь не санаторий. Жаловались лишь на то, что редко получают письма из дому.
Когда Джекобс пустил по рукам еще одну пачку сигарет, солдаты стали более разговорчивы. Журналист счел, что настала подходящая минута для выяснения единственно интересовавшего его вопроса.
— Ребята, а оружие у вас в лагере имеется? — спросил он тихо.
— О, конечно! — ответило сразу несколько голосов.
Джекобс опасливо оглянулся на Алешу Дронова, но тот в другом конце двора разговаривал с группой мадьяр.
— Пулеметы? — торопливо допытывался Джекобс.
— Нет, герр журналист, только винтовки.
— Винтовки — это тоже хорошо! — Джекобс подмигнул солдатам. — Сколько?
— Двенадцать штук, хоть не трудитесь считать.
— А где они хранятся у вас, ребята? — понизив голос, спросил журналист. Он походил на гончую, напавшую на верный след.
— Да в казарме... у русской охраны, — громко ответил чернявый пехотинец.
Лицо у Джекобса вытянулось. Немцы дружно захохотали.
Алеша услышал взрыв смеха и тоже подошел сюда.
— Вчера тут, оказывается, был митинг военнопленных, — сообщил он Джекобсу. — Они опровергают слухи, будто кто-то собирается их вооружать. Воевать больше не хотят, требуют мира. Я принес для вас резолюцию. Вот, — и он протянул бумагу журналисту.
Джекобс расспросил солдат о митинге. Они подтвердили сказанное Алешей.
— Мы приветствуем русскую революцию, — сказал высокий артиллерист. — Дело теперь за немецкими и австрийскими рабочими.
— Мадьяры не хотят власти Габсбургов, — заявил один из подошедших венгерских пехотинцев.
— Чехи поддержат русских братьев! — крикнул солдат в синей австрийской шинели.
Настроение солдат не вызывало сомнений. «Да они тут все большевики», — подумал Джекобс.
Затем его свели с офицерами. Помещались они в отдельной казарме, в работах не участвовали и время проводили как кто хотел. Запрещалось им только отлучаться из лагеря.
Офицеры были настроены враждебно к революции. Тем не менее и они заверили Джекобса, что нет оснований для распространившихся в европейской печати слухов. Худощавый рыжеусый майор — типичный пруссак — обратил внимание журналиста на то, что среди солдат ведется большевистская пропаганда. Джекобс пожал плечами.
— Что же вы хотите? — сказал он.
Алеша водил Джекобса по помещениям лагеря, открывал перед ним настежь двери, кладовые, предложил слазить на чердак.
— Я вижу: тут хорошо подготовились к нашему посещению, — сказал Джекобс с кислой улыбкой и от дальнейшего осмотра лагеря отказался.
— Вот это вы зря... Никто не готовился, — обиделся Алеша.
— О, я удовлетворен! Я верю... — примирительно сказал Джекобс. — Вы не обижайтесь, молодой человек. Журналист должен быть немножко... немножко недоверчив. Профессия...
— Ладно. Вы теперь знаете, как обстоит дело. Можете дать информацию, — заметил Алеша, провожая Джекобса в канцелярию лагеря.
— Просто сообщить информацию! Бог мой! — возразил журналист. — Я же творческая личность. Собственно, я все время стою на почве фактов, — продолжал он рассуждать, пока они шли по двору. — Событие дает толчок моему уму. Я соображаю, как его поинтереснее подать, как повернуть. Здесь действует моя интуиция, мой интеллект. В конце концов даже фотограф выбирает определенный ракурс для снимка.
«Мудрит он что-то», — подумал Алеша, первым взбежал на ступеньки крыльца и открыл дверь.
...Когда они уезжали, день клонился к вечеру, работы в лагере были закончены. Возле кладовой за хлебом выстроилась очередь военнопленных. Немецкие солдаты, увидев Джекобса, опять загомонили и принялись хохотать.
Джекобс вынул из футляра фотоаппарат и запечатлел их смеющиеся, веселые лица.
— Теперь-то вы убедились, что никакого оружия у пленных нет? — спросил Алеша.
— А я в этом никогда не сомневался, — ответил Джекобс.
Сани пошли под раскат, и он поспешно ухватился за противоположный отвод, чтобы не вылететь в сугроб.
— Держись, американец, я покажу вам русскую езду! — сверкнув по-озорному глазами, крикнул Алеша.
Концом вожжей он хлестнул лошадь, гикнул... И они понеслись под гору так стремительно, что только ветер засвистал навстречу да снежная пыль взвилась позади.
Сани бешено кидало из одной стороны в другую, что-то скрипело, потрескивало. Комья твердого слежавшегося снега летели из-под копыт прямо в лицо Джекобсу.
Журналист, привстав на коленях, обнял Алешу за плечи и тоже что-то кричал, весело скаля зубы.
«Да он совсем компанейский парень. Тоже, поди, не сладко мотаться по чужим странам», — подумал Алеша и ободряюще крикнул:
— Ничего, брат! Давай шевели своих буржуев... Во как жить будем!
— О'кей!.. Революшен... — в совершенном восторге от быстрой езды и Алешиной наивности заорал Джекобс.
...Отправляя в редакцию отчет о посещении лагеря военнопленных, Джекобс вспомнил слова Алеши Дронова, усмехнулся и размашистым почерком написал внизу снимка: «Взгляните на эти довольные лица немцев. Они стоят в очереди за оружием».
К марту признаки наступающей весны становятся общезримыми и торопят даже тех, кто до сих пор спокойно дремал. Два месяца, оставшихся до навигации, — небольшой срок. Так уж повелось, что в эту пору на флотилии начиналась самая горячка: унтер-офицеры и боцманы каждый по своей части прикидывали, что еще не пригнано, не перебрано; командиры соображали, где и как достать необходимый материал: поршневые кольца, запасные лопасти для винтов, электропровод; интенданты затевали особо интенсивную переписку; в вышестоящих штабах готовились к проверке.
Нечто подобное происходило в последние дни февраля 1918 года. Из Владивостока Центральный комитет Сибирской флотилии затребовал сведения о ходе судоремонта и основные данные по механической и всем прочим частям. Чего только не следовало описать: «Система главных машин и их мощность. Завод и год постройки. Наибольшие: давление пара, число оборотов и скорость судна. Диаметры цилиндра и ход поршня. Система золотников и их размерение. Пусковой привод и его элементы...» Далее с такой же детализацией перечислялись воздушные насосы, помпы, холодильники, рулевые и шпилевые машины, динамо-машины, котлы, питательные средства и устройства к ним. Авторы запроса интересовались вместимостью грузовых трюмов, запасами угля, масел, расходованием их при разных скоростях хода. Требовались копии актов, диаграмм, машинные формуляторы...
Кому-то, видно, хотелось занять людей ненужной перепиской, осложнить и без того трудную работу по возрождению боевых кораблей.
Над затоном свирепствовали ветры. Снег, как погребальный саван, ложился на палубы и надстройки разоруженных мертвых кораблей.
Днем маленькие фигурки людей копошились возле двух башенных лодок и стоявшей поодаль канонерки.
Кормовая часть «Шквала» выморожена из воды; вырубленная во льду траншея открывала доступ к поврежденной части донной обшивки. Измятые при посадке на камень стальные листы решили править при помощи домкратов.
С того момента, как приступили к работам, мастер Спаре и старший помощник «Шквала» не покидали отсека. Предоставив действовать механику, старпом ни во что не вмешивался. Спаре сосал погасшую трубку. Оба глядели на обнаженное днище с заметной выпучиной между шпангоутами, на установленные в отсеке опорные брусья.
За стеной басовито гудела форсунка нефтяной лампы, бушевало пламя. На черном металлическом листе появился светящийся розоватый кружок.
— Внимание! Начнем! — Механик подал знак, и гидравлический домкрат пришел в действие.
Под давлением поверхность металла стала как бы шелушиться: отстал слой краски и ржавчины.
— Пошло. Будет порядок. — Спаре облегченно вздохнул.
— Пусть там получше смотрят за лампой. Не пережгли бы лист, — сказал старпом.
— Есть! — Ботинки прогрохотали по трапу.
После бегства Лисанчанского латышу Спаре пришлось принять мастерские порта. На этот пост мастера выдвинули сами рабочие.
Уравновешенный, неторопливый, с неизменной трубкой в зубах, он поспевал всюду. Подойдет незаметно, послушает перебранку и скажет:
«Зачем шум?.. Дело надо делать. Язык рукам не всегда помощник».
Не раз приходилось мигать глазами корабельным специалистам, когда начальник мастерских уличал кого-нибудь в намерении втереть очки. Он умел быстро прикинуть необходимые затраты труда и материалов. Черкнет два-три раза карандашом и скажет, тая усмешку в умных серых глазах:
«С запасцем посчитали. Половины за глаза хватит».
«Ян Эрнестович!» — взмолится седоусый служака.
«Больше ни грамма. Точка».
Спорить с ним бесполезно. Потом обнаруживалось, что материалов действительно не хватало. Но самую малость. Всегда находилась возможность покрыть недостачу за счет корабельных ресурсов. Спаре, видно, на это и рассчитывал. Зная, как трудно теперь с материалами, он был скуп до крайности.
Надо было удивляться, как в условиях общей разрухи, ужасающей нехватки материалов и недостатка квалифицированных рабочих мастерские ухитрялись выполнять заказы.
Логунов уважал этого спокойного, рассудительного человека. Спаре в свою очередь видел в энергичном и развитом матросе представителя того нового поколения революционеров, которому суждено завершить дело, начатое ими. Мало-помалу между ними возникла настоящая дружба.
Логунов, днем занятый службой, вечерами — проверкой патрулей, облавами, захваченный горячими спорами на митингах и собраниях, редко виделся с Дашей. Обстановка в доме Ельневых не понравилась ему. Но его все же тянуло туда, и нужно было усилие воли, чтобы не уступить. С каждой встречей его влечение к девушке возрастало; он сам пугался этого, смеялся над собой. Выкраивался, однако, свободный вечер, и он, ругая себя, одевался, приглаживал у зеркала непокорные вихры и топал за двенадцать верст в город в тайной надежде встретиться с Дашей.
Ему нравился открытый взгляд ее глаз и задумчивое, мечтательное выражение лица, чуть пухлые, еще детские губы. Как-то он заметил, что при встрече с ним Даша опускает глаза. Когда их взгляды встречались, щеки у нее заливались румянцем. Логунов не знал, как это истолковать.
Разве он для нее подходящая пара? А почему бы и нет? Если бы удалось совершить такое, чтобы молва о нем, как о герое, докатилась до ушей Даши! Как все могло бы перемениться!
Олимпиада Клавдиевна, кажется, заметила новое в отношениях Даши и Логунова и отнеслась неодобрительно. Логунов вообще недолюбливал ворчливую тетушку. Если бы не Вера Павловна, которая относилась к нему с неизменной симпатией, и не Даша, — ноги его не было бы больше в доме Ельневых, Что Олимпиада Клавдиевна добрый, в сущности, человек, он только начинал догадываться.
Будь Логунов менее предубежден, оп заметил бы, конечно, что сама Олимпиада Клавдиевна переменилась. Революционные события заставили и ее над многим призадуматься.
Не без удивления внимала она политическим спорам. Эсеры, меньшевики, какие-то интернационалисты... Олимпиада Клавдиевна не понимала горячности противников. Ну что стоит хорошим людям по-хорошему договориться?
Заблуждаясь сама во многом, она, однако, восприняла предметный урок, преподанный ей Анфисой Петровной, — стала более критически относиться к призывам заправил городского Союза учителей. Тем более что назвать «невеждой» молодого способного учителя Сергея Щепетнова, назначенного краевым комиссаром народного просвещения, она никак не могла. Раз уж такие люди пришли к большевикам, то дело, видно, не только в немецком золоте.
Было много предметов, мимо которых не могла пройти Олимпиада Клавдиевна; эта сердобольная женщина умела душевно и просто откликнуться на любое горе, чужую беду, и уж в равнодушии к человеку ее упрекать не приходилось.
Она видела общую тягу к знаниям, пробудившуюся в народе. Жадное любопытство солдат и рабочих больше не удивляло ее. Если эти люди порою не знали, кто такой Модест Петрович Мусоргский, то это, право, нисколько не мешало им наслаждаться ариями из «Бориса Годунова». Точно так же незнание теоретических основ мелодии, ритма, темпа, полифонии не препятствовало восприятию ими сложных музыкальных образов — стоило лишь посмотреть на лица, на гамму чувств, выраженных на них.
Из всех композиторов «Могучей кучки» Мусоргский казался Олимпиаде Клавдиевне наиболее созвучным наступившей революционной эпохе. Музыкальные образы «Хованщины», народные сцены «Бориса Годунова» чем-то напоминали ей волнующуюся, бурлящую толпу демонстрантов.
В памяти всплывали собственные гимназические годы, молодежные вечеринки, тихие тоскующие песни:
Ее поколение действительно стояло на распутье. Но избавило ли это их от выбора пути сейчас?.. Она все чаще задумывалась над этим.
Думы ее, о которых не знали ни Даша, ни Вера Павловна, исподволь и подготовили тот поступок, каким она вскоре удивила и племянниц своих и знакомых.
Олимпиада Клавдиевна узнала от Веры Павловны о преступлении Сташевского — передаче им приютских денег японскому консулу. Двести пятьдесят тысяч рублей... шутка сказать!
Будь это какие-нибудь другие средства, Олимпиада Клавдиевна, может быть, и не спешила бы осудить своего родственника. Но взять деньги у детишек!.. Это не укладывалось в ее голове.
Никому ничего не сказав, она оделась и пошла к Сташевскому.
— Батенька мой, Станислав Робертович, что же вы натворили с приютскими деньгами?.. Вы были хорошим человеком, — сказала она, когда Сташевский провел ее в свой домашний кабинет и закрыл дверь. — Конечно, вы уладите это неприятное дело.
— Я?.. Но в чем я виноват? Помилуй бог, не знаю! — Сташевский наигранно улыбнулся и развел руками. Затем спокойно принялся объяснять ей мотивы своего поступка.
— Ах, вот как! — пробормотала Олимпиада Клавдиевна и с изумлением уставилась на него. — Однако вы меня удивляете, Станислав Робертович. Я вас считала порядочным человеком. Это, простите меня, гнусно. Гнусно и подло, — сказала она.
— Олимпиада Клавдиевна! — Лицо Сташевского приняло обиженное выражение. — Я поступил сообразно моим политическим убеждениям. Вы не должны...
— Сударь! Ну какая же это политика... просто мелкое жульничество. Вы отняли хлеб у детей. И не оправдывайтесь, ради бога, — перебила Олимпиада Клавдиевна, с живостью оборачиваясь к нему. — Верните деньги, Станислав Робертович.
Сташевский покачал головой:
— Это невозможно. Мой долг...
— Странное же у вас понятие о долге. Ну, я вижу, нам больше не о чем разговаривать. Прощайте! — холодно сказала Олимпиада Клавдиевна и не подала ему руки.
Сташевский кисло улыбнулся, попытался все обернуть в шутку.
— Надеюсь, вы не пойдете по моему пути, — с нехорошим смешком заметил он.
— Вы имеете в виду ценности, которые оставили на сохранение у меня? — остановившись в дверях, спокойным голосом спросила Ельнева. — Так вы их не получите.
— Шутить изволите, матушка?..
— Не по-лу-чи-те, — повторила она весьма решительно. — Я ваше золото отнесу в Совет. Да что вы такое вообразили о своей персоне, сударь? Законов для вас нет? — закричала она, давая выход своему гневу.
Если уж Олимпиада Клавдиевна разойдется, она переставала считаться с тем, что скажут или подумают другие. Она могла быть резкой и язвительной.
Сташевский не думал, что дело может так обернуться. Вид у него был жалкий и растерянный.
— Надеюсь, ноги вашей больше не будет у меня в доме... — Олимпиада Клавдиевна посмотрела на него с уничтожающим презрением. — И я когда-то уважала этого человека! — воскликнула она, выйдя на улицу.
Все в ней кипело и клокотало.
Зайдя домой, она забрала чемоданчик Сташевского и снесла в милицию.
Лишь после того, как по всей форме был составлен протокол и Демьянов пожал ей руку, Олимпиада Клавдиевна сообразила, что она наделала сгоряча. Теперь ее имя начнут склонять на всех перекрестках. Ну и пусть!
На следующий день было воскресенье.
Олимпиада Клавдиевна жаловалась на головную боль, кряхтела и дольше обычного не вставала с постели.
— Да лежите вы, ради бога, тетя. Мы с Дашей сами все сделаем, — пыталась уговорить ее Вера Павловна.
— Вот еще. Буду я валяться до полудня, — возразила тетушка и решительно спустила босые ноги на пол.
Даша подала ей халат и теплые туфли.
Вера Павловна любила эти поздние завтраки в воскресные дни. Можно было подольше поваляться в постели. А в столовой уже шумел самовар, расставлялись стаканы в серебряных подстаканниках, подавалась большая ваза с домашним печеньем.
Работа в приюте отнимала уйму времени. Даже в воскресенье Вера Павловна не могла совсем отделаться от приютских забот — просматривала тетрадки, готовилась к занятиям.
Даша возилась с малышом. В ней неожиданно проявился интерес ко всему, что было связано с уходом за детьми.
— Будут свои — еще наплачешься, — заметила как-то Олимпиада Клавдиевна.
Даша смутилась, густо покраснела.
Тогда тетушка с подозрением уставилась на нее.
— Ну, милочка, я-то уж вижу, кто тебе нравится! Меня не проведешь... Но ты еще ребенок. Тебе экзамены сдавать...
Часа через два, когда Даша, отложив учебники, собралась идти на улицу, тетушка была уже в другом настроении.
— Ленту на шляпе нужно сменить, — решительно сказала она, критически оглядев Дашин головной убор. — Темно-синяя лента лучше оттенит твои глаза. Как можно не обращать внимания на такие вещи!
Даша удивленно подняла брови, посмотрела на нее и рассмеялась. Что ни говорите, а у тетушки покладистый характер.
Даша теперь дружила с Соней Левченко. Они сходили в кинематограф, с трудом высидели сеанс в душном, переполненном зале и затем долго бродили по улице.
Соня рассказывала о Саше и его приключениях. Была в ее словах гордость за брата и легкая грусть.
Потом девушек догнал Разгонов. Ходил он теперь с высоко поднятой головой. Был щегольски одет: новенькая шинель, хрустящей свежести ремни, глянец на сапогах. Он подхватил их обеих под руки и принялся с важным видом рассказывать новости.
Разгонов считал себя знатоком в мировых вопросах и охотно распространялся об этом, правда в самых общих выражениях. Говорил он по-особому внушительно, веско, эрудированно, так, что, слушая его впервые, каждый думал: «Экий умница!»
Девушек, однако, мировые проблемы не очень увлекали. Даже Разгонов в конце концов заметил это.
— Знаете, разговор принял скучный оборот, — сказал он, — Но не судите меня строго, пожалуйста. Все это меня волнует, я живу этим... — Он еще долго продолжал рисоваться перед ними.
Вернувшись вечером домой, Даша поужинала, ушла в свою комнату и стала думать о Логунове. Только вчера он был у них. Вера Павловна поила его чаем. Даша сперва дичилась, а затем тоже вступила в разговор.
В пристальном взгляде Логунова было что-то совершенно незнакомое ей, то, что пугало ее и в то же время делало безмерно счастливой.
— Сегодня хороший день, хочется, чтобы все были счастливы. Особенно — вы! — сказал Логунов.
Лицо у Даши посветлело. Если бы Логунов попристальнее взглянул на нее, радостный блеск ее глаз сказал бы ему многое.
Но тут как раз вошла Олимпиада Клавдиевна...
Когда Логунов ушел, Даша смотрела вслед ему из окна. И невдомек было обоим, что одно и то же чувство заставило сильнее биться их сердца.
Припомнив до мелочей все, что было вчера, Даша взяла со стола маленькое овальное зеркальце и долго при свете лампы рассматривала в нем свое лицо; сама себе она не понравилась, вздохнула, погасила лампу.
Уличный фонарь за окном бросал лучи через замерзшее стекло; рассеянные полосы света ложились на потолок. От ветра фонарь на улице раскачивался, и световые блики на потолке тоже двигались, меняли очертания. Даша лежала с открытыми глазами, смотрела на эти колеблющиеся, неверные, исчезающие временами световые пятна.
Отношение тетушки к Логунову в известной мере затрудняло их встречи. Логунов не знал, как Даша отнесется к его признанию. Ему жаль было бы разрушить крепко завязавшуюся между ними дружбу. А что, если она его не любит?
«Что же это со мной такое? Я люблю его, — неожиданно заключила она, и сердце у нее забилось радостно и тревожно. — Да, я люблю. Но любит ли он меня?»
И вот все решилось в один день. Решилось просто, совершенно необычно, даже без слов. О главном они действительно ничего не сказали друг другу, не успели сказать. Но все стало ясно, и не осталось ничего недоговоренного.
Центральный комитет флотилии решил командировать Логунова в Благовещенск. На Главной базе меньше всего знали о том, что делается в Астрахановском затоне. И «Орочанин» и «Пика», зазимовавшие там, были в числе кораблей, которым с открытием навигации предстояло нести вахту на Амуре.
Получение инструкций и документов заняло много времени. Поезд отходил вечером. Логунов уже отказался от мысли проститься с Дашей. Но тут ему неожиданно повезло: председатель Центрального комитета флотилии ехал на заседание в Совет; в санях нашлось место и для Логунова. Он сэкономил таким образом целый час. Оставив свой сундучок у военного коменданта станции, Логунов поспешил к Ельневым.
Дашу он застал одетой, у калитки. Она торопилась куда-то со двора. Всю оживленность с него как рукой сняло. «Ну вот... поговорили. Вечно так», — с досадой подумал он.
— Знаете, я уезжаю, — сообщил он безразличным тоном, глядя на ее высокие зашнурованные ботинки.
— Уезжаете? — брови Даши взметнулись, как два крыла. Выражение испуга появилось в ее широко раскрытых глазах.
— В Благовещенск. По делам службы.
Она не шепнула, выдохнула:
— Надолго, Федор Петрович?
— Не знаю. На месяц, наверно.
Не признаваясь себе в том, он хотел, чтобы Даша проводила его на вокзал. Логунов нарисовал уже в своем воображении картину, как это будет: что скажет он, как она поглядит на него и как они потом поцелуются. Даша будет стоять на перроне и махать платочком вслед поезду. Но с самого начала все, кажется, пошло наперекос.
— Да вам-то что! — воскликнул он вдруг с каким-то лихим отчаянием. — Плакать не будете.
— Зачем же вы меня обижаете? — со слезами спросила Даша.
Ей стало холодно, и она потеплее запахнула шубку, спрятала подбородок в воротник.
Логунов замолчал. «Что я, в самом деле, на нее набросился?» — подумал он.
— Думайте, что хотите, но мне будет скучно, если вы уедете! Я буду ждать вас, Федор Петрович, — сказала Даша очень серьезно.
Он стоял спиной к калитке и смотрел на ее лицо, в ее большие глаза, выражение которых ему трудно было разгадать, но оно очень волновало его. Поколебавшись немного, Логунов осмелился взять Дашу под руку. Она не отстранилась, только щеки и даже шея у нее вдруг сделались пунцовыми.
— Вы когда уезжаете? — робко спросила Даша, когда они немного отошли от дома, и заглянула сбоку ему в лицо.
— Наверно, через полчаса. Если не опоздаю на поезд, — сказал Логунов, чуточку сильнее прижимая к себе ее локоть.
— Так надо бежать! Или извозчика, извозчика возьмем, — заторопилась Даша, мигом позабыв, куда она шла и зачем.
Извозчика они не стали брать, а побежали к вокзалу ближним путем, через «барахолку». Логунов старался несколько умерить шаг, а Даша все забегала вперед и торопила его.
— А вы ничего не забыли, Федор Петрович? Где ваши вещи? — спрашивала она, оглядываясь на него.
Так они добрались до вокзала минут за пять до отхода поезда. Логунов только успел забрать свой сундучок, как дали второй звонок. Отставшие пассажиры бежали по перрону к вагонам.
Даша в эти последние минуты избегала встречаться с ним глазами, словно боялась, что он прочтет в них все невысказанное. Логунов мял шапку в руках и тоже не смел поднять на нее глаз. Потом он неожиданно коснулся ее руки. Даша посмотрела на него. В это время раздался третий звонок, оглушительно загудел паровоз. И вдруг, будто кто-то подтолкнул их навстречу друг другу, счастливо улыбаясь, они взялись за руки.
Последнее, что запомнил Логунов, было крепкое пожатие руки и Дашины глаза, полные любви. Затем он во всю прыть помчался вслед за поездом и сел в один из последних вагонов, рискуя очутиться под колесами.
Было темно, и на небе одна за другой загорались звезды, когда Даша вернулась с вокзала домой. Просунув руку в узкую щель, она нащупала и сняла крючок, толкнула калитку, но, не переступая порожка, остановилась. Грудь ее высоко вздымалась, смятенные мысли мчались одна за другой.
Любовь! Хотя ни одного слова об этом не было сказано между ними, Логунов стал для Даши самым близким и дорогим человеком. В девичьих своих грезах Даша прежде не раз спрашивала себя, каков же он будет — ее суженый. А теперь она просто сказала себе: «Он». И с этим повернулась и пошла от калитки в глубь двора такой плавной, легкой походкой, точно боялась расплескать то, что сразу до краев наполнило грудь и составило ее, Дашино, счастье.
Логунов тоже понял, что отныне его судьба неразрывно связана с Дашиной судьбой. При одной мысли о ней он чувствовал себя способным своротить горы. Он вспоминал ее лицо, взгляд, который так много открыл ему, ее слова. Все время стоял перед глазами милый его сердцу образ девушки.
Высмотрев на верхней полке свободное место, он укрылся шинелью и долго лежал, устремив свой взгляд в темный потолок, предаваясь мечтам.
Когда начало светать, сквозь замерзшее окно Логунов увидел горы, придвинувшиеся вплотную к железной дороге, снег, черные стволы деревьев, рыжие пятна глины и серьге камни на крутых склонах. «Должно быть, к Облучью подъезжаем», — подумал он. Но тут поезд влетел в длинный туннель; в вагоне сразу наступила кромешная тьма, и Логунов сообразил, что та станция, на которой они недавно стояли, и была Облучье.
Он подумал о цели своей поездки, повернулся на бок и уснул крепко, уверенный, что все обойдется как надо.
Верстах в семи от Благовещенска, в деревне Астрахановка, расположилась Зейская база военной флотилии. В небольшом затончике стояли зазимовавшие здесь канонерская лодка «Орочанин» и посыльное судно «Пика». Команды обоих кораблей жили на берегу в одноэтажной казарме. Рядом находилась мастерская затона — так громко называлось похожее на длинный сарай строение, в одном конце которого разместилась закопченная дочерна кузница на два горна с ручными мехами, а в другом помещении чуть попросторнее, с окнами, стояли токарный и сверлильный станочки и слесарные тиски. Под потолком устроена хитроумная система блоков, позволявших перемещать с одного места на другое громоздкие машинные части. В пристройке имелся еще так называемый столярный цех, в нем выполнялись и такелажные работы.
База выглядела бедно, и если бы не золотые руки корабельных специалистов, вряд ли тут возможен был серьезный ремонт. Но такой ремонт производился из года в год. Шел он и в зиму 1918 года, может быть одну из самых трудных зим для нашего флота.
Дела в Астрахановке оказались в лучшем положении, чем думали на Главной базе. Команды обоих кораблей не теряли зря времени. Душою маленького гарнизона были матрос-комендор Марк Варягин и артиллерийский кондуктор Макаров. Один — веселый, порывистый и горячий, другой — несколько медлительный, осторожный. Они прекрасно дополняли друг друга.
Посыльное судно «Пика», вымороженное изо льда, стояло с зияющей дырой в носовой части, окруженное со всех сторон подпорками. Осенью по мелководью «Пика» поцарапала днище на каменной банке. Сейчас на корабле меняли поврежденные листы обшивки. Работой руководил пожилой мастер-клепальщик из Министерского затона в Благовещенске. Рядом стоял небольшой переносный горн; матросы в рабочих робах ловко выхватывали раскаленные докрасна заклепки и подавали клепальщикам. Стучали кувалды. Работа продвигалась споро, и дыра в днище на глазах у Логунова закрылась последним листом.
«Орочанин» стоял дальше от берега, прочно вмерзнув в гладкий лед. Снег, постоянно сметаемый с палубы, неровным валиком лежал вокруг борта; от этого осадка канонерки казалась более низкой, чем была на самом деле. Впрочем, надводная часть речных судов вообще невысока. Орудия «Орочанина» были зачехлены, но они придавали кораблю боевой вид.
— Который раз запрашивают, а вы помалкиваете. Непорядок это, — выговаривал Логунов, когда астрахановские товарищи рассказали ему о положении дел и познакомились с привезенными им вопросниками.
Макаров почесал голову, придал своему лицу простоватое выражение.
— Понимаешь, Федор, покурили ребята бумагу. Писать не на чем.
— Так я вам и поверил, — засмеялся Логунов.
— Ну верь не верь, а писать нам некогда. Нету такой способности.
— Вот свалился ты на нашу голову, — с неудовольствием заметил Варягин. На бумажных полях вопросников предвиделось столько подводных мелей и рифов, что он предпочел сразу отвернуть в сторону. — Давай так: бумаги побоку. Я сейчас еду на завод Чепурина продвигать заказ. Подброшу тебя до города. Посмотришь, чем тут дышат. Зайдешь в Совет — к Федору Никаноровичу.
— А там наш боцман, — подхватил Макаров. — Он в канцелярии маракует получше нас с тобой.
«Ну, братва! Нашли способ сплавить ревизора», — усмехнулся Логунов. Но предложение принял охотно.
В последнюю минуту к Марку Варягину подошел молодой красивый матрос в рабочей робе с письмом в руках.
— Марк, я тебя попрошу...
— Давай, давай, — сказал Варягин, взял письмо и хлестнул лошадь.
— Беда. Сохнет парень, — сочувственно заметил он, когда выехали за ворота. — Да что же я, мне заезжать туда сегодня не с руки, — спохватился он, повертев письмо в руках. — Послушай, Федор: не в службу, а в дружбу. Тебе сподручнее. Амурская улица, дом Зотова. Его в городе каждая собака знает. Насте в собственные руки. — И он, не ожидая согласия, вручил письмо Логунову.
Письмо было аккуратно сложено треугольничком. От него пахло машинным маслом. Логунов прочел адрес и усмехнулся: «Однако искурили не всю бумагу».
Судаков вторую неделю жил в Благовещенске. Еще в первый приезд, после провала русановской затеи с передачей власти в руки Бюро земств и городов, он завел здесь знакомства. Буржуазные круги Благовещенска — золотопромышленники, пароходовладельцы, мукомолы — немало надежд возлагали на это бюро. Однако непопулярное среди трудящихся края учреждение просуществовало недолго.
За месяц с небольшим обстановка в Благовещенске, по мнению Судакова, катастрофически ухудшилась. Только что закончился 4-й областной крестьянский съезд: крестьяне Амурской области безоговорочно пошли за большевиками. И это — несмотря на чрезвычайно обострившееся внешнее положение страны в связи с наступлением немцев на Петроград.
Судаков брел по Амурской улице к дому золотопромышленника Зотова, у которого он жил. Все происшедшее на съезде казалось ему результатом какой-то интриги.
Конечно, если потакать толпе, если разжигать дурные инстинкты и наклонности... Но логика вещей?.. железные экономические законы?.. исторический прогресс?.. Занятый такими мыслями, — а они несколько возвышали его в собственном мнении, — Судаков едва не проскочил мимо зотовского особняка.
— Куда же вы помчались, батенька? — окликнул его Зотов. Он стоял возле парадной двери, монументально важный, самодовольный. — Вижу, вы следуете, решил подождать. На дворе-то капель.
Судаков только сейчас заметил, что день и в самом деле хорош. Светило солнце, голубело небо, и в воздухе держалось непередаваемое ощущение весенней свежести. Сверху на каменные ступени падали звонкие капли.
— Действительно, — удивился он, оглядываясь кругом, как человек, попавший в совершенно незнакомое место.
— Дожили до марта месяца. И слава богу. Не будем дальше загадывать, — продолжал Зотов тем же тоненьким голосом. — Весна-то хороша, да забот сколько. На приисках — сезон, на реках — навигация. Мужик потянется на поля. А я вот — вертись. И туда и сюда — везде поспевай. И тебя все клянут на все корки. Господи! Вот гляжу на Сахалян, знаете, что-то мне китайская сторона милее. Не отправить, думаю, загодя туда кое-какое имущество?.. Да, что же наши амурские мужички? — спохватился он.
Судаков только рукой махнул.
Зотов уперся животом в дверь и стал рыться в карманах, ища ключ.
— Значит, за Мухиным подались? — повесив шубу, спросил он уже без прежнего оживления.
— Судите сами, Иван Артамонович, — Судаков извлек из внутреннего кармана помятые бумажки, приблизил к глазам и стал читать прерывающимся голосом: — «Шлем крепкое рукопожатие мужика-переселенца далекой окраины вождю всемирного пролетариата Владимиру Ильичу Ленину...» Вот, пожалуйста!
— Голытьба! На чужое зарятся, — бросил Зотов, однако бумаги взял и осторожно понес их впереди себя в дальние комнаты.
Особняк у Зотова большой; комнаты уставлены зеркалами, мягкими диванами, пуфами, креслами на точеных ножках, столиками различных размеров и разного назначения. В больших старомодных буфетах выставлено напоказ серебро и хрусталь. Везде, где можно что-нибудь приткнуть, стояли антикварные вещи и безделушки — традиционные семь слонов, статуэтки, птичьи чучела с распластанными крыльями. В доме много изделий искусных японских мастеров. Одна из комнат так и называлась «японской». В ней стояли японские черные столики, а в углах — ширмочки тонкой работы. На столиках лежали альбомы в бархатных переплетах, в лакированных деревянных обложках, украшенные фигурками гейш или веточками цветущей вишни. Со стен смотрели разукрашенные японки со странно удлиненными лицами и пышными прическами.
Когда бывали званые гости, все двери особняка распахивались настежь. Зотов любил бродить по анфиладе комнат, ловить завистливые взгляды и приглушенный шепоток. «А это я приобрел там-то, за такую-то цену» или «Это я выписал оттуда-то, по каталогу такой-то фирмы», — сообщал он мимоходом и шествовал дальше. Вещи для Зотова были внешним выражением благополучия фирмы, показателем процветания. Он не пропускал случая приобрести еще что-нибудь. Было приятно думать, что где-то в заморских городах, куда ему так и не доехать, какие-то неизвестные люди трудятся, портят зрение, чтобы сделать тончайшую резьбу или отлить из бронзы крохотную фигурку, которую он сунет куда-нибудь в угол и забудет о ней. Вероятно, многим людям собранные здесь шедевры доставили бы эстетическое наслаждение, радость; Зотов знал лишь чувство обладания, пустое тщеславие собственника. Он не умел отличить творения подлинно художественного от подделки, ибо ценность вещи для него раз и навсегда определялась заплаченной за нее суммой.
Зато Зотов звал, как выжать копейку. Его десятники обвешивали старателей, выгадывая для хозяина неоплаченные золотники и доли. Управляющие приисками, капитаны пароходов, конторщики до крайности урезали заработки рабочих и матросов; в компанейских лавках им втридорога продавали гнилье и тухлятину; заболевшего или изувеченного в штольне человека безжалостно выкидывали из барака — иди на все четыре стороны. Были на его приисках люди, которым только мигни — проломят непокорному добытчику голову в случайной драке либо утопят где-нибудь в лесном болоте. И все сходило с рук: знал Зотов, как и кому сунуть «барашка в бумажке». Служащих-либералов Зотов у себя не терпел, но охотно поощрял разных шкур и пройдох, зная, что не останется от этого в накладе.
Требование закона, что все добытое золото сдается казне, Зотов в лучшем случае выполнял наполовину: имел он не один ход на ту сторону, за границу. Причалит, скажем, где-нибудь на плесе к его пароходу лодка с той стороны: мало ли зачем — соли купить или спичек. Или зайдет во двор особняка мастеровой-лудильщик: «Паяй-йя!» В конце концов и сам Зотов мог поехать покататься на тройках по зимнему Амуру, а там, по внезапной прихоти, свернуть в Сахалян — благо до него рукой подать — и до утра кутить со всей компанией в китайском ресторанчике или в японском чайном домике у гейш. В компании найдется и член городской думы и какой-нибудь полицейский чин: все подтвердят, что Иван Артамонович ни на секунду не отлучался. Так оно и было. Угощал, швырял деньгами — по широте своей купеческой натуры. Даже по надобности ходил не один. А что там было в кошевке, под персидским ковром, кто мог знать. Стояла она всю ночь где-то в закрытом дворе. Ну, найдут потом корчемники в полозьях вместительный тайничок, что ж тут предосудительного. Зотов — хозяин. И по тайге приходится с крупными суммами ездить, среди разного темного люда. Обычная мера предосторожности — и только. Тайничок-то пуст.
Так и уплывали пуды золота на черный рынок, обогащая Зотова. Среди золотопромышленников Благовещенска, получивших меткое прозвище «амурских волков», он был одним из самых матерых.
Зотов прошагал в библиотеку — угловую комнату с высокими стрельчатыми окнами. Достав очки в простой железной оправе, он заправил обе оглобельки себе за уши и внимательно стал читать резолюции крестьянского съезда.
Судаков задержался в гостиной. Здесь в ожидании обеда расположились священник городского прихода, благообразный, дородный мужчина в лиловом подряснике, худощавый брюнет в инженерской тужурке, пожилой солидный господин в пенсне — доверенный крупнейшей на Дальнем Востоке торговой фирмы «Кунст и Альберс», управляющий местным отделением Сибирского банка и два молодых человека — один скромно одетый, второй — щеголь.
— Читать евангелие? Ну, это скука, — говорил щеголь, рассеянно посматривая по сторонам.
— Вам бы «Метаморфозы» дать, — усмехнулся управляющий банком.
— Читал я оную книжицу. Прелюбопытна. Однако далека от благочестия, — без осуждения, спокойно сказал священник сильным, звучным голосом. — У человека же, кроме чувств плотских, есть потребность поразмышлять серьезно. Тут — евангелие. Откровение господа нашего.
— Вы-то сами в бога верите? — спросил человек в инженерской тужурке.
Священник посмотрел на него, потрогал рукой серебряный крест, лежавший на животе, сказал внушительно:
— Долгом почитаю исполнять всенародно обряды церкви Христовой.
— Всенародно?
— Именно всенародно, в назидание другим. В сем вижу святую обязанность человека культурного, да-с. Народ в дикости своей не разумеет истину, образованному человеку известную: спокойствие — основа благополучия государственного. Страсти человеческие, корысть, прелюбодейство угрожают затопить культуру, веками созданную. Во имя спасения оной мы сообразовать дела и поступки свои с теологией, как философией, понятной народу, обязаны-с. — Он погладил длинными пальцами седеющую бороду и проглаголил: — Уважение — главное в мире сем, убери его — хаос, смятение всеобщее. Уважая бога, легче уважать власть предержащую. Ибо сказано: «Нет власти, аще не от бога».
— В газетах писали, какой-то поп в деревне отрекся от своего сана, — запинаясь и краснея, вставил скромно одетый юноша.
— Сего священника надо судить.
— Вам бы, отец, инквизитором быть, — с усмешкой заметил человек в инженерской тужурке.
— Не смейтесь, сила церкви — именно в ее нетерпимости.
— Что верно, то верно, — сказал управляющий банком и посмотрел на Судакова, как бы приглашая и его вступить в разговор. — Что может быть проще и здоровее старообрядческой семьи? Здоровые мужики — кряжи; бабы — им под стать, только двойни рожать. Живут, работают, спят, детей плодят, богу молятся и, слава богу, революцией не занимаются. Право, жаль, что наши никонианцы загнали последователей Аввакума Петровича в таежную глушь, в скиты.
— Э-э, батенька, иначе они тоже бы подпортились. Поветрие такое в воздухе. Что сейчас надобно народу?
— Нужна, с одной стороны, заботливость, а с другой — твердая власть, — поиграв шнурочком пенсне, сказал представитель «Кунста и Альберса». — Сейчас народ поддался пагубной агитации большевиков, значит, главное — дать ему почувствовать твердость власти.
— Именно. Вот именно, сын мой, — поп сочно зевнул и прикрыл зевок широкой ладонью.
— Взбунтовалось море человеческое, — сказал управляющий банком. — А все вы, интеллигенты, виноваты, да-с! — злобно выкрикнул он. — Учили народ. А чему?.. Вот вы, господин социалист. — Он повернулся к Судакову, уколол его сердитым взглядом. — Небось тоже звали. «Пойдем вперед!», «Отречемся и отряхнем прах», а?.. Звали? А мне, например, перемены не нужны, плевать я хотел на всякий там исторический прогресс. Даст наш банк уважаемому Ивану Артамоновичу хорошую ссуду — вот и прогресс. Новый прииск в тайге. Пуды золота. Жратва для господ интеллигентов. Что, нет?
Кунстовский доверенный попытался смягчить резкость его слов.
— Экономическая основа современного общества не терпит ломки, она может развиваться лишь эволюционным путем, — произнес он с легким немецким акцентом.
— Да я не спорю, не спорю, — сказал Судаков.
Священник, теребя крест, с любопытством посматривал на них. В гостиную входили дамы.
— Ну конечно, опять политика. Опять большевики, — капризным голосом сказала дама с глубоким декольте.
— Да куда же от них деться, вы скажите. Я с удовольствием сбегу, — с улыбкой ответил священник, протянул крест для поцелуя и скосил глаза на ее обнаженные полные руки.
Вышел наконец к гостям и сам хозяин.
Зотов был толст, низок ростом, неповоротлив; он притирал своим телом косяки дверей и весь был начинен злостью. Злясь, он страшно краснел, шея у него делалась толще, на лбу выступали выпуклые синие жилы, казалось еще слово, и он, как начиненный лиддитом снаряд, — взорвется. Но взрыва не следовало. Только голос Зотова делался еще более пронзительным, по-бабьи визгливым. В сочетании на редкость толстой фигуры и тоненького, как у девочки-подростка, голоса было что-то комическое, и — ничего грозного. Окружающие спокойно выслушивали ругань Зотова; лишь его жена — маленькая, крикливо одетая женщина — время от времени дергала его за рукав и просила:
— Ваня, Ванечка, успокойся. Тебе вредно волноваться.
— Ах, оставь, — отмахивался Зотов. — Ты же знаешь, они меня разорят. Они всех разорят, если... — Тут он глянул на застенчивого юношу и прикусил язык. «Вот дурак, — подумал он о молодом щеголе, — тащит с собой, кого ни встретит». Но удержаться от выражения своих чувств Зотов не мог. — Рабочий контроль, слыхали? «Заем свободы» аннулировали. Национализация банков... Еще жен у нас отобрать, да под общее одеяло, всех, — кричал он, все более распаляясь.
— Что касается декрета о национализации банков, с вашего разрешения, — блеф чистейший, — возразил управляющий. — Ну где им взять людей, способных разобраться в дисконтных книгах? И что такое вообще вексель?.. Ха-ха! Воображаю, что за вакханалия будет. Ха-ха!
— Хи-хи! Хи-хи-хи! — начал истерично вторить Зотов. Весь сотрясаясь, он минут пять закатывался от смеха. — Как, ка-ак? — восклицал он, хлопая себя руками по колыхавшемуся от смеха жирному животу. — Что такое вексель? Хи-хи!.. Ты меня уморишь, — заявил он, несколько успокоившись.
В гостиной появился один из зотовских приказчиков. Стоя у дверей, он знаками старался привлечь внимание хозяина.
— Ну что? Что у тебя? — Зотов отошел с приказчиком в угол, пошептался с ним, поводил возле его носа пальцем: — Гляди! Чтоб ни одна живая душа...
Декольтированная дама решила показать, что политика и ей не чужда.
— Господа, — сказала она, — нам безусловно необходимо покровительство сильной державы.
Человек в инженерской тужурке покосился на нее, буркнул хмуро:
— Сударыня, покровительство сильного для женщины, ищущей его, и для государства — две весьма разные вещи.
— Но почему? — она удивленно подняла брови.
— В первом случае покровитель платит, во втором — берет, — пояснил он с едва приметной усмешкой.
— Ну нет: берет он, положим, в обоих случаях, — не согласился управляющий банком.
Поп первым громко захохотал:
— Воистину так! Воистину.
Зотов просеменил ножками к окну, посмотрел на улицу; он сразу сделался озабоченным и деловитым.
Перемена в настроении Зотова была связана с тем, что приказчик сообщил ему о предстоящем визите Соловейчика. Дело, которое приведет этого пограничного авантюриста в зотовский особняк, особо щекотливое. Тут в случае провала не отделаешься только потерями и убытками. Управляющий конторой Сибирского банка и доверенный фирмы «Кунст и Альберс» прекрасно поняли, что за новость принес Зотову приказчик.
В прошлом месяце они порядочно перетрусили, когда Благовещенский Совет раскрыл созданную в городе контрреволюционную организацию «Союз борьбы с анархией». При обысках были изъяты винтовки, револьверы, ящики с ручными гранатами. Двадцать два арестованных офицера до сих пор находились в тюрьме, их допрашивали следователи-большевики, и неизвестно еще, до чего они успеют докопаться.
В комнату вошел еще один зотовский квартирант — капитан 2-го ранга Лисанчанский. Его сопровождал казачий сотник Суматохин — мужчина огромного роста.
— Одну минуту, батюшка. На два слова, — перехватил он в дверях собравшегося уходить священника, увлек его к оконной нише и стал о чем-то шептаться с ним.
Гримаса неудовольствия мелькнула на хитроватом лице попа.
— Гм... Как сказать... Да вы обратитесь к церковному старосте, это его компетенция, — сказал он смущенно. — К старосте, к старосте, — повторил он, делая рукой жест, словно отпихивал что-то от себя, и, шелестя рясой, быстро пошел к выходу.
Судаков завершил цепь своих логических построений таким выводом:
— Нам действительно пора брать оружие в руки.
— А вы умеете с ним обращаться? — спросил Лисанчанский.
— К сожалению, нет. Но ведь имеются люди военные, опытные. Им и карты в руки. Современное цивилизованное общество слишком сложно устроено, чтобы обойтись без специализации и общественного разделения труда. Армия существует для того, чтобы воевать и подавлять бунты, если полиция бессильна; чиновники — чтобы управлять; мы, интеллигенты, — двигать умственную жизнь. Чего же вы удивляетесь, если я предлагаю сейчас выдвинуть на первый план военных?
Декольтированная дама пододвинулась к Лисанчанскому, шепнула, показав глазами на Судакова:
— О, он осторожен; он даже в флирте... заходит далеко, но всегда вовремя останавливается, — и, заливаясь звонким смехом, встала и пошла к роялю.
Зотов под звуки музыки проковылял к окну, уперся лбом в холодное стекло: то ли он хотел охладить разгоряченную голову, то ли боялся пропустить незамеченным приход Соловейчика.
Гости отобедали и разошлись.
В «японской комнате» у Зотова сидел пришедший с визитом Такеда-сан — коммерсант, старый житель Благовещенска и глава местных японских резидентов.
Это был невысокий японец с маленькими черными усиками, в штатском, безукоризненно отглаженном костюме с галстуком-бабочкой. Сидел он прямо, развернув плечи и не касаясь спиной стула, как сидят старики военные, начавшие службу еще с кадетов.
— Я желаю, чтобы, пользуясь этим случаем, мы слились между собой и образовали одно дружное общество, — отчетливо по-русски говорил японец, положив кисти рук на край круглого полированного стола. — Не будем гоняться за наживой денег.
— Не будем, — вздохнув, согласился Зотов.
Взор гостя скользнул по стенам, по лицам разукрашенных в традиционной манере японок. Чуть приметная усмешка тронула его губы; дрогнула, поползла вверх черная нитка усов.
— Когда я в первый раз приехал в Сибирь, я так растерялся, что абсолютно ничего не мог разобрать, — продолжал Такеда-сан размеренно-тихим голосом. — Очень морозная страна, очень богатая. Так холодно, что можно без ушей остаться. И совсем мало людей. Золотое дно, так, кажется, говорят? Японцы тут могут сделать массу разных дел, полезных себе и русским. То есть вам, — уточнил он, наклонив голову в сторону Зотова. — Дерево простирает ветви во все стороны. Сыны Японии едут в Сибирь, горя желанием прославить отечество.
Зотов старательно вслушивался в ровно журчащую речь Такеды; мешало несколько непривычное построение фраз, но общий смысл он уловил неплохо. «Пользуются случаем, сукины дети!» Он хлопнул в ладоши, и хорошенькая горничная Настя, служившая у Зотова третий год, принесла печенье и четыре фарфоровые чашечки с чаем. Чай был цветочный, китайский.
Такеда придал лицу приличествующее выражение.
— Я не могу отделаться от прискорбного чувства по поводу современного печального положения России, — сказал он, поставив чашечку обратно на стол. — Настроение умов обострилось против состоятельных людей. Государство может погибнуть из-за нарушения порядка в управлении им.
— Да, да. Довели нас товарищи большевики. Продали Россию! — Зотов тяжело повернулся, задышал, как откормленный боров.
Такеда-сан, расстегнув портфель, выкладывал на стол рядом с недопитой чашкой чая обандероленные пачки банкнот Чосен-банка. Всю кучку денег он пододвинул потом Лисанчанскому, который вместе с Суматохиным сидел здесь же за столиком.
— Прошу принять это от меня в знак искреннего поздравления по случаю предстоящего выздоровления вашего отечества, — весьма витиевато и церемонно сказал он.
Сотник Суматохин забрал деньги и пачками стал запихивать в необъятные карманы своих штанов. Затем он принялся рассказывать о настроении в казачьих частях. По его словам выходило, что казаки настроены против Советов, так как боятся утратить свои сословные привилегии. Некоторые казачьи сотни лишь в последние дни были подтянуты к городу и размещены так, чтобы избегнуть контакта с распропагандированными большевиками частями гарнизона.
— Атаримае! Понятно, — Такеда-сан улыбнулся во все лицо, показал неровные, но крепкие зубы. — Казаки так ободрены, что их воинственное настроение не дает возможности их остановить. Я понял правильно? Следует еще прибегнуть к хитрым мерам посредством пропаганды, — посоветовал он.
— Настя, а где сейчас господин Судаков? — спросил Зотов. Ему не хотелось, чтобы тот забрел сюда ненароком.
— Они у себя на диване лежат, — сообщила бойкая Настя, стрельнув глазами в Такеду. — С книжкой занимаются...
— Вот уж типчик! Валяется на диване, мерзавец, в такой день, — с неожиданным раздражением брякнул Суматохин.
— Бог с вами, Илья Данилович! Человек как человек. — Зотов счел нужным вступиться за Судакова. Такеда-сан заметил с улыбкой:
— Для своей пользы он быстро меняет свое мнение. Аноне, послушайте! — продолжал он, обращаясь то к Зотову, то к Лисанчанскому. — Атаман Гамов?.. Он недавно выдвинулся порядочно. Если он не отступит, события могут вознести его дальше. Аратомару! Все должно принять острый характер. Стоит только немного продержаться против неприятельского нападения, и победа будет на нашей стороне.
Зотов слушал, склонив чуть набок круглую голову с венчиком реденьких желтоватых волос на затылке.
В дверях послышался голос Соловейчика. Он скандалил с камердинером.
— Чего ты меня держишь? Отцепись. Будто я дороги не знаю. — Соловейчик толкнул дверь и стремительно вошел в комнату. — Мое почтение, господа! Солнце на ту сторону, я — на эту. Ходим, пока ноги носят. Так, что ли, Иван Артамонович? — и, не ожидая приглашения, сел напротив Зотова.
Зотов любезно, но и несколько небрежно поклонился ему.
— Эти господа в курсе дела.
— Ну, я сразу сообразил, как вошел, — в рыжеватых коротких усиках Соловейчика зазмеилась улыбка. — Потребители товара, стало быть? — А товар — первый сорт. Антик.
— Большая партия? Как собираетесь доставить? — деловито спросил капитан 2-го ранга.
— Двести винтовок «арисака» и сто тысяч патронов к ним. Пулеметы «гочкиса». Погрузим ящики на сани и привезем, когда прикажете. — Соловейчик, прищурясь, посмотрел на Такеду.
Оба отлично знали друг друга, но делали вид, что незнакомы.
— Часа через три к Набережной доставить можете? Вот и отлично! — Суматохин назвал пароль. — Вас встретит начальник гражданской милиции господин Языков.
— С шиком, значит, — усмехнулся Соловейчик. — Дай бог! Дай бог... — Он посмотрел на стены и свистнул: — Скажи, какие сте-ервы... А расчетец попрошу сейчас. В кредит не работаю. Между двумя державами я человек небольшой.
Такеда-сан, не глядя на Соловейчика, сказал что-то по-японски, поднялся, поклонился Зотову, поклонился Лисанчанскому и Суматохину. Кланяясь, он складывал вместе обе ладони и покачивал ими.
— Мне нужно побывать по делам, — сообщил он хозяину. — Покорнейше прошу удостаивать меня вашими почтенными заказами. Аригато! Сайонара![16]
— Была бы нора, а ты влезешь, — сказал Соловейчик вслед ему без всякого почтения и стал досматривать живопись на стенах. — Таких баб, однако, не бывает, — заключил он и потерял к ним всякий интерес.
Суматохин вышел вместе с японцем. Зотов забежал вперед, открыл дверь.
Лисанчанский, пока Соловейчик изучал комнату, отошел к окну, поглядел на открывшийся из него вид.
Поверх крыш вдали синели горы чистейшего ультрамаринового цвета. По улице шагом ехал извозчик и глядел на окна домов. Навстречу по дороге шли два парня, один лузгал семечки, другой поддерживал рукой гармонь, ремень которой был перекинут через плечо. По расчищенной от снега части тротуара прошла старуха с девочкой. Прошагал озабоченно какой-то мужчина в черном пальто. С криком промчалась стайка ребятишек, кидая снежки.
Зотов вернулся в прекрасном настроении.
— Сейчас так сейчас, — сказал он, рассчитывая, что казначейство вернет ему с лихвой все затраченные суммы.
— Не забудьте пятнадцать процентов комиссионных.
— Позвольте! Уговора не было.
— Мало ли что не было, — возразил Соловейчик, чувствуя себя хозяином положения. — За срочность. За риск.
— Да какой же риск... нету риска, — вмешался Лисанчанский. — Всю ответственность мы берем на себя.
— Извините, товар мой. Я повышаю цену.
— На каком основании?
— Учитывая конъюнктуру рынка, — нагло улыбаясь, сказал Соловейчик.
— Как вы можете! — Лисанчанский был возмущен. — В такой критический момент вы примешиваете грязные расчеты. Или вам интересы отечества безразличны?
— Момент подходящий. Верно, — согласился Соловейчик. — Так что, господа, выкладывайте денежки. Считай, считай, Иван Артамонович!
— Хапуга ты, — со злостью крикнул Зотов. — Случаем пользуешься...
Голос у него сорвался, последние слова он прокричал сердитым фальцетом.
— А то ты бы меня не обобрал? Ты бы на отечество скидку дал? Ха! А на каком оно берегу? — издевался Соловейчик, болтая закинутой на колено ногой. — Все козыри сегодня у меня, Иван Артамонович.
— Вот что, сударь! — Лисанчанский поднялся, грозно сдвинул брови. — Извольте оставить этот тон и неуместные требования. Иначе я... Вста-ать! — бешено гаркнул он, окончательно потеряв терпение.
Соловейчик снизу невозмутимо поглядел на него и по-прежнему болтал ногой.
— Те-те-те! Нервы, нервы, — сказал он сожалительно. — Вот дадут вам большевики по загривку, куда подаваться будете? В Сахалян. То есть к Соловейчику. Да я зла не помню. Крик — от бессилия. Ребенок махонький — он больше всех кричит.
Лисанчанский как вскочил, так и стоял столбом посреди комнаты, тараща глаза на небольшого скуластого человека, который, как говорят, и ухом не повел.
— Вы ступайте, ступайте, — с досадой сказал Зотов, понимая уже, что придется добавить. — Бери десять, — предложил он, когда Лисанчанский с треском захлопнул собой дверь.
— Двадцать пять. Упустил ты время, Иван Артамонович. Время — деньги, слыхал небось? — Соловейчик смотрел в угол, где стояло скульптурное изображение Фудоо Мёо-оо — бога гнева. Воинственный и свирепый вид японского божка пришелся ему по душе. Он подошел ближе, прочел надпись: «Этот мир полон зла, которое должно быть сдерживаемо гневом». Потрогал бога за голую пятку. — Ладно, Иван Артамонович. Оставшиеся поделим пополам. Семнадцать с половиною комиссионных и бутылку коньяку. Когда же у вас назначен переворот?
Проводив наконец беспокойного гостя, Зотов вздохнул с облегчением.
— Уф, денек!.. Чего тебе? — спросил он у облаченного в парадную ливрею старичка камердинера.
— Тут матрос пришел. Матро-ос, — сказал он испуганно-свистящим шепотом.
— Что?.. З-зачем?..
— На кухне он... с Настей.
Зотов охнул и схватился за сердце...
Матрос, приход которого так напугал Зотова, был Логунов. В зотовский особняк он попал совершенно случайно: надо было передать письмо Насте от одного из моряков.
Логунов в незнакомом городе не сразу нашел нужную улицу. Сейчас Настя поила его чаем и расспрашивала про житье-бытье в Астрахановке.
Логунов собирался вручить письмо и уйти. Но Настя так обрадовалась, так была с ним мила, что он уступил настойчивым просьбам. Настя чем-то отдаленно напомнила ему Дашу Ельневу.
У нее такая же стройная фигурка, здоровое лицо с румянцем на щеках и ровные белые зубки. По типу это все же скорее была деревенская красавица, чем городская барышня. Собственно, что в ней было от Даши? Сердечность! — решил Логунов, поразмыслив.
В особняк Логунова впустили не через парадный ход, а через дверь, предназначенную для прислуги. Хозяйских роскошно обставленных комнат он не видел, однако сразу понял, что попал в дом крупного капиталиста. В таких домах Логунову приходилось бывать только с обыском, и он с интересом расспрашивал симпатичную и словоохотливую Настю о жизни ее хозяев.
Зная хорошо нужду народа, Логунов с удивлением и даже недоверием слушал Настин рассказ о том, что двух человек — Зотова и его супругу — обслуживает ни много ни мало как двадцать человек домашней прислуги. В его голове совершенно не вмещалось, как и чем можно занять стольких людей.
— А едят-то они сами? — спросил он, покачав головой.
— Да уж только! Разжуй и в рот положи, — сказала Настя. — За столом все деликатесы. Жрут, как боровы. Живых слизняков глотают, ей-богу. Устрицы. Вы поглядели бы на нашего. Во — туша, — показала она, разведя руки насколько могла. — Ходит — пыхтит, ляжет — кряхтит, плитки паркета под ним выскакивают. И все мало... загребает, загребает. Ух, жадный! Ненасытные глаза.
Настя выпалила все это быстрой и звонкой скороговоркой, точно боялась, что Логунов не дослушает и уйдет. Ей, видно, до того осточертело в зотовском доме, столько натерпелась она здесь от мелкой придирчивости, от высокомерия и заносчивости хозяев, что раз уж попался человек, готовый слушать, она не могла не высказаться.
— А барыне, видно, не в коня корм. Худущая, — продолжала она, заглянув в зеркальце и поправив выбившуюся из-под косынки прядку волос. — Нами-то больше она помыкает. Как начнет примерять платья, начнет вертеться! — ну, пропасть мне! Внизу складок тыща, хвост на три аршина, а сверху — одна срамота. Что одета, что нет. И было бы хоть что показать, а то — мощи высохшие. Мода. Ради моды удавиться готовы. Правда, сами в петлю не лезут — других загоняют. Вон у Буяновых горничная повесилась. До того затуркали бедную, что руки на себя наложила. Это им можно простить? Это разве не кровопийцы?
Логунову Настя сразу понравилась. Письмо, которое он передал, тронуло ее до глубины души. Не замечая взгляда Логунова, она прижала письмо к груди. И столько девичьей чистоты было в этом непроизвольном жесте, что сердце Логунова дрогнуло: он сам любил.
— Не обижают вас здесь? — спросил он.
— Обижают? — переспросила она с некоторым даже удивлением: для нее сама жизнь в этом доме была постоянной и нестерпимой обидой. Но Логунов имел в виду другое: не пристают ли к ней пресытившиеся бездельники как к женщине, и Настя поняла его. — А пусть попробует кто! — сказала она с гордым вызовом. — Уж я не посмотрю. Я прямо в харю, в бесстыжие глаза наплюю. Вообще-то нашей сестре горько приходится. Хозяин тискает, гости лапают, щенок хозяйский, молоко на губах не обсохло, — тоже тянется, пристает... Кто характером послабже — беда. Трудно прислуге-девушке себя соблюсти. Конечно, в какой дом попадет. Есть хорошие люди. Только не среди богатых, — сказала она убежденно.
В этом Логунов был согласен с нею. Он пил чай и слушал Настин быстрый говорок.
— Теперь они хвосты-то поджали маленько, — с усмешкой заметила она и глянула на Логунова живыми, прищуренными глазами. — А уж шипят, шипят. Клубок змей. Как сойдутся, как почнут языками молоть — чего только не выдумают! Комиссары — то, комиссары — это. И Россию они немцам продали, и чего-то там загубили, и бога не признают, а только одного черта. И все так серьезно говорится, будто в театре представляют. Ой, я же должна вам рассказать! — воскликнула Настя, оглянулась на дверь, пододвинулась поближе к Логунову и зашептала: — Ведь они чего-то строят. Чего-то колготятся.
Сбивчиво, поминутно оглядываясь, она рассказала ему о визите японца Такеды и, главное, о Соловейчике, одна репутация и профессия которого уже говорили о многом.
— Ах они контры, контры! — сказал возмущенный Логунов.
Впрочем, особого значения Настиному предупреждению он не придал. Мало ли что говорят в буржуазных домах; они и в газетах открыто гадости пишут, не стесняются. И публики подозрительной в Благовещенске хоть лопатой греби. Логунов постарался рассеять Настину тревогу.
— Пусть шипят, а кусаться не дадим. По зубам сразу схватят, — заметил он и беспечно улыбнулся. — У вас тут, в каменных стенах, одно, а мир-то широк. Там таким свежим ветром дует — всякую вонь унесет.
— Ой, матросик, матросик! Попомни мои слова. У них деньги, — сказала Настя, нисколько не разубежденная.
В Благовещенске Логунов впервые. Город, расположенный у места впадения многоводной Зеи в Амур, отличался хорошей планировкой улиц. Одни из них — Большая, Зейская, Амурская, Иркутская — широкими прямыми проспектами тянулись параллельно Амуру через весь город, вплоть до Загородной, за ней возвышалось мрачное кирпичное здание тюрьмы; другие улицы, как Садовая, Мастерская или Торговая, шли от Амура в глубь равнины к вокзалу и слободке Забурхановке. Ориентироваться здесь не составляло труда.
В городе немало красивых по архитектуре зданий: учительская и духовная семинарии, реальное и речное училище, Алексеевская женская гимназия, Общественное собрание, магазины Чурина, Кунста и Альберса. Некоторые особняки напомнили Логунову такие же частные дома в Петрограде или Москве.
Резким контрастом буржуазным кварталам была Забурхановка с ее узкими улочками, на которые со всех дворов смотрела нищета.
На улицах встречались вооруженные штатские, которых Логунов затруднился бы причислить к красногвардейцам: это гражданская милиция Благовещенска, своего рода буржуазное ополчение. Разъезжали казаки в полном вооружении на сытых конях, веселые и нахальные. Но мелькали и рабочие куртки, красные повязки на рукавах, простые, симпатичные лица.
«Да-а, обстановочка», — подумал Логунов, останавливаясь послушать уличного оратора, собравшего с полсотни слушателей.
— Граждане! Дамы и господа! Гибнет Россия! — патетически восклицал хорошо одетый господин. — Не сегодня-завтра немцы возьмут Петроград. Сто тысяч военнопленных на Дальнем Востоке получат оружие. Что будет, вы подумайте?..
— Вре-ешь, немцев побили! Под Псковом, слыхал? — крикнули ему сзади.
— Господа, дайте же человеку говорить. У нас свобода слова.
Тот же звонкий веселый голос:
— Вношу предложение: лишить свободы слова тех, кто звонит впустую!
— Го-го-го! Правильно-о!
Логунов протолкался вперед и дернул, оратора за рукав:
— Кати-ись отсюда! Ну?..
— Позво-ольте...
— Без разговоров, — сказал Логунов.
Рядом с ним уже стояли трое солдат и два красногвардейца — подошедший патруль. Оратор поспешил затеряться в толпе.
— И что за люди! — сказал солдат. — Он тебе, парень, все так распишет — и реки молочные, и берега кисельные, и пряники медовые, — уши развесишь. А вот вникни — в тех речах смыслу нет. И то и се, а больше — вокруг да около. Нет у него, сердечного, ни ума великого, ни понятия настоящего об интересе людском. Слова одни. И не разберешь, что ему надо.
— Захомутать тебя снова, вот что, — сказал красногвардеец.
— Ну это... я не дамся. Мне Ленин глаза-то открыл.
Лицо у солдата суровое, с резкими чертами, чуть асимметричное. Но, когда он улыбался, выражение его смягчалось и было приятным.
Логунов с ними дошел до здания, где помещался Благовещенский Совет. Спросив одного, другого, он попал наконец в комнату, где за большим канцелярским столом по-хозяйски расположился боцман.
— А дальше что? Что вы хотите? — нетерпеливо спрашивал он у стоявшего перед ним человека, желая поскорее добраться до сути дела. Но тот говорил так витиевато, что терпение у боцмана лопнуло. — Ты что мне голову морочишь? — рявкнул он. — Закрыли винный склад? Правильно, что закрыли. Пошлем к тебе наряд, чтобы бутылки поразбивали. А что?.. По-твоему, надо народ спаивать? Советская власть этого не позволит. Советская власть...
Лицо боцмана — круглое и рябоватое, с прямым подбородком — показалось Логунову знакомым. Подумав, он вспомнил, что видел боцмана в Гельсингфорсе, когда миноносец «Решительный» стоял там у стенки. Два или три раза они сидели за кружкой пива в портовом кабачке.
Дождавшись ухода лавочника, Логунов подошел к боцману и поздоровался.
— Привет, Балтика! Не узнаешь?
Боцман окинул его взглядом.
— Здравствуй!.. Что-то не могу признать, — ответил он, подозрительно оглядывая Логунова. Очевидно, уловив в лице матроса смутно знакомые черты, он все больше и больше морщил лоб, но так не узнал его, пока Логунов сам не напомнил обстоятельства их первой встречи.
— Ну-ну. Ах, черт! Так это ты? — лицо боцмана расплылось в широчайшей улыбке. — Здорово, браток! Вот Балтика, куда ее штормом не кинет! Нет, ты видал этого гуся? Сукин сын. Вином ему торговать на пользу народу. Тоже радетель. Тьфу!
Свою речь боцман пересыпал забористыми словечками. Он с жадностью расспрашивал о новостях, о положении дел в Главной базе.
Логунов рассказал, как восстанавливаются башенные лодки «Смерч» и «Шквал», что сормовки «Бурят» и «Монгол» уже укомплектованы командами и с началом навигации выйдут в плавание.
— Ого! Неплохо. Да нашего «Орочанина» прибавить. Совсем неплохо, — шумно порадовался боцман. — Послушай, ты не знаешь, что это за фигуры? Оставить их или выбросить? — вдруг спросил он, показывая на свой стол.
Сбоку массивного письменного прибора из красноватого мрамора с белыми прожилками стояли две изящные бронзовые фигурки. Логунов не знал, что они представляют собой, но обратил внимание на удивительную гармонию в изображении человеческого тела.
— А ловко закручено. Как живые. Надо же так сообразить, — продолжал боцман заметно потеплевшим голосом. — Революция эти штучки не отменила, как думаешь? Ну, пусть стоят. Пусть. Только, знаешь, ругаться при них неловко, — смущенно рассмеялся он и повернулся к вошедшей в комнату робкой, бедно одетой старушке. — Вам кого, бабушка? Садитесь вот сюда на диван, на мягкое. Рассказывайте, как живете. Какая нужда?.. — Лицо у боцмана такое, будто никакие другие дела, ничто на свете больше не интересовало его.
Мухина в Совете не было. Одни говорили, что он на митинге в Министерском затоне; другие — будто он на заводе Чепурина и налаживает там рабочий контроль; третьи сами видели его недавно среди солдат 2-й батареи. Популярность Мухина в народе была велика. В Благовещенске многие помнили его с 1906 года как Яковлева или Чижикова — по нелегальной работе. В Благовещенске он был арестован царскими жандармами, сидел в тюрьме. Здесь он громил на диспутах меньшевиков и эсеров. Мухин обладал незаурядным талантом агитатора и пропагандиста. Пожилые рабочие называли его запросто — Никанорыч.
К Мухину шли посоветоваться, были жалобщики, надеющиеся на скорое и справедливое решение их просьб и требований, находились и просто любопытные люди, которым хотелось послушать известного большевика или хотя бы взглянуть на него. Здесь же можно было видеть делегатов только что закрывшегося областного крестьянского съезда. Готовясь ехать домой, каждый считал необходимым посоветоваться с ним. Наконец среди посетителей встречались и явные враги новой власти.
— Все врут; из разных, конечно, побуждений, а врут. Уж я людей, поверьте, знаю, — разглагольствовал один из таких посетителей. — На словах — за всех, а хапают — только для себя. Поскорей бы мошну набить. Хватает больше всего тот, кто только дорвался до пирога.
— Позвольте, что за вздор! Вы на что намекаете?
— Я? Избави меня бог!.. — и человек переходил к другой группе ожидающих.
— Да это же чуринский приказчик. Хозяйский холуй, — сказала пожилая женщина, сидевшая недалеко от Логунова. Она держала на руках ребенка и кормила его грудью. — Вы, мужики, не дымили бы, а? — попросила она.
Логунов пальцами загасил папиросу.
— Вот ведь тоже человек! Тоже своего требует, — весело сказал шустрый старик — делегат крестьянского съезда и покосился на малыша, деловито сосавшего материнскую грудь.
— Человеком пренебрегать нельзя, шут его знает, что из него впоследствии получится, — наставительно заметил знакомый Логунову солдат и засмеялся. — Я, как прочитал это, — верно, думаю. Сущая правда.
Завязался разговор о переменах в жизни; разговор горячий и пристрастный, поскольку каждого он близко касался.
— Имущество надо у всех отобрать, свалить в одну кучу, а потом разделить поровну. Чтоб, значит, полное равенство и справедливость, — предложил чубатый парень с нагловатыми, чуть выкаченными глазами. Он невозмутимо продолжал курить, пуская дым и свысока поглядывая на остальных.
— Как отобрать?.. И коровенку мою? — живо повернулся к нему старик.
— Все отобрать начисто, — подтвердил парень и бросил окурок прямо под ноги женщине. — У тебя вот корова, а у меня ее сроду не было. Я молока не пью.
— Одну водку хлещешь, — неодобрительно сказала женщина, укладывая рядом, с собой насытившегося ребенка. — Когда их, таких вот, пятеро — молоку радуешься не знаю как. Спросил бы у своей матери.
— Что мне мать! — Парень мотнул головой, отчего свисающий низко чуб передвинулся у него на лбу. — Может, у самого имеются дети, я разве знаю...
— Ты, стало быть, как кукушка: кладешь в чужие гнезда, — с осуждением заметил солдат. — Тогда тебе об этом и рассуждать нечего.
— Может, вот они получше жить будут. Хоть бы уж! — женщина бережно, чтобы не разбудить ребенка, поправила одеяльце.
Лицо у нее простое и симпатичное. Под глазами густо залегли морщинки, свидетельствующие о нелегко прожитой жизни.
— Но имущество поделить все-таки придется. Так? — воспользовался паузой чубатый парень.
— Допустим, — сказал Логунов со скрытой усмешкой. — Тебе отвалят колесо от маховика, ему вот — машинный вал... то-то фабрика у вас завертится! Наработаете товару.
Все засмеялись, и парень в том числе.
Мухина Логунов заметил не сразу: его обступили со всех сторон, загородили спинами. Логунов подошел ближе.
— Ты что же хочешь... мира с капиталистами? — услышал он слова, сказанные приятным густым голосом. — Пока сами крепко на ноги не станем, они нас задушить готовы с превеликим удовольствием.
Сверкнули удивительно живые, выразительные глаза.
Одет Мухин в неизменную кожаную куртку, из-под нее выглядывала застегнутая доверху рубаха-косоворотка; простого покроя брюки заправлены в сапоги. Держался он очень естественно, без тени рисовки. На разговор реагировал быстро, подкрепляя слова жестом и мимикой. Кто-то позади Мухина тоненьким голосом скопца сказал:
— Зачем же сеять недоверие? И без того жизнь сложна. Нужно учиться забывать.
Мухин живо повернулся.
— Э-э, батенька, — громко возразил он. — Этой философии две тысячи лет. Стара, как миф о Христе. Но также служит имущим. Учиться забывать? — повторил он с негодованием. — Не скажете, что именно? Как нас обирали до нитки? Как плетьми секли? Как на каторгу гнали? Это забывать?.. Нет. Слуга покорный.
— Но собственность ее нами выдумана. Это старейший институт, — продолжал тот же голос.
Мухин вдруг хорошо и с хитрецой улыбнулся:
— Знаете, есть такой афоризм: добро, которое украл и хранил много лет, — трижды священная собственность. Уместно вспомнить, не правда ли?..
В городе упорно распространялись слухи о том, что в наступившем году американские фирмы откажутся завозить плуги и шпагат для сноповязалок. В Амурской области зажиточные крестьяне и кулаки-стодесятинники довольно широко применяли уборочные машины — жатки, сноповязалки. В страдную пору машины позволяли восполнить острую нехватку рабочих рук. Поставку сельскохозяйственных машин на Дальний Восток еще с начала девятисотых годов монополизировали американские фирмы — «Международная компания жатвенных машин в России» с правлением в Чикаго и синдикат «Интернейшнл Харвестер и К°». В Благовещенске, Ивановке, Тамбовке и других крупных пунктах области они имели свои отделения, склады сельскохозяйственных машин, своих доверенных и уполномоченных.
Слух о намерении американских фирм волновал крестьян. Об этом заговорили делегаты крестьянского съезда.
— Да, грозят, — сказал Мухин. — Вот вам еще одно свидетельство, как международный капитал относится к нам. На словах в Вашингтоне приветствуют революционную Россию, на деле нам чинят препятствия во всем. Закрыли по настоянию консулов маньчжурскую границу, чтобы мы не могли вывезти с КВЖД закупленный нами хлеб. Сейчас предупредили, что не будет шпагата. Заранее предупредили. До сева. Теперь зажиточный амурский мужик соображает: нет шпагата — не пойдут сноповязалки. Рук в деревне мало — война забрала. Значит, надо меньше сеять. Так? — И он, слегка щурясь, посмотрел на обступивших его крестьян.
— Так, так, — подтвердили сразу несколько голосов.
— Меньше посеем, меньше и хлеба соберем, — продолжал Мухин, внимательно следя за тем, доходят ли его слова. — В конечном счете это ударит по всем. И в первую очередь по рабочим — по главной силе революции. Нас хотят задушить костлявой рукой голода. Нет, не задушат! — воскликнул он. — Трудящиеся крестьяне — надежный союзник рабочего класса. Надо приложить все старания, чтобы посеять как можно больше. Сообща подумаем, как убрать урожай.
— Понятно, Федор Никанорович. Не сумлевайся, — веско сказал старик делегат.
— Нет, какая, однако, подлость! Что эти фирмы затеяли, а?
Старательно набивая трубку табаком, Мухин с насмешливой улыбкой наблюдал за оппонентами. Столько ума и живого юмора было в его глазах, так выразительно весело он смеялся, таким был остроумным и находчивым в разговоре, что каждый невольно поддавался его обаянию. Мухин был человеком, которого знали и любили тысячи людей, ненавидели сотни, но считались с ним все без исключения.
Федор Никанорович пригласил Логунова в кабинет. Сам уселся за небольшим столом, на котором почти не было бумаг. Свой рабочий день он проводил большей частью на предприятиях, в солдатских казармах, там на месте и решал возникавшие вопросы.
Логунов рассказал о нуждах флотского отряда. Мухин слушал, чуть склонив голову набок.
— Поможем. Обязательно поможем, — твердо пообещал он. И сам стал расспрашивать о делах в Хабаровске. — У нас положение более сложное, — продолжал он, просмотрев и подписав какие-то бумаги. — Буржуазия, казачья верхушка, меньшевики и эсеры — все объединились сейчас против нас. Подозреваю, что не без участия японцев. — Он оглядел еще раз Логунова своими карими глазами, и чуть заметная усмешка тронула его полные губы. — Но мы поджимаем их снизу. Знаете, как река весною подтачивает лед? Кажется, все надежно, прочно, неподвижно — вдруг кряк! — и пошло ломать. Никакими силами не остановишь вешней воды.
В кабинет заглянула чья-то голова с длинными, запорожскими, свисающими вниз усами. Показавшись, хотела скрыться.
— Заходи, заходи, — поманил пальцем Мухин.
Вошли три красногвардейца с винтовками: двое молодых парней и обладатель великолепных усов — высокий худой человек.
— Что за драку вы учинили? — спросил строго Мухин.
Усатый выдвинулся немного вперед, виновато развел руками.
— Мы и не хотели, Федор Никанорович. Так вышло.
— Не могли разве словами убедить?
— Ну да. Убедишь, — скептически заметил парнишка с расцарапанной щекой. Пальто у него держалось на одной-единственной пуговице. — Встанет эсер — язык в четверть, ворочается легко в любую сторону. Попробуй переговори.
Мухин громко захохотал.
— В четверть, говоришь... в любую сторону? А ведь метко. Метко. Да не поверю я, товарищи, чтобы вы их к стене не могли прижать. Просто не хватило выдержки. Так?
— Выходит, так, — согласился старший. — Ошиблись маленько. Ты не взыскивай строго, Никанорыч.
— На первый раз ограничусь замечанием, — сказал Мухин и предупреждающе поднял палец.
Глаза его смеялись.
Разговор с Мухиным запомнился Логунову. Плохо зная обстановку в городе, он, как, впрочем, и другие советские работники, не ожидал такого быстрого разворота событий, которые последовали вечером того же дня.
Выйдя со двора Зотова и направляясь к Набережной, Логунов не придал значения тому факту, что на улицах заметно прибавилось вооруженных казаков и милиционеров. Они ходили группами среди публики, перемигивались, нарочно заступали дорогу шедшим с работы рабочим. Видно было, что искали повода для скандала. Куда-то спешили великовозрастные семинаристы.
В домах зажигались огни, но на улицах было еще достаточно светло. Над Сахаляном догорала вечерняя заря, и невысокие холмы на китайской стороне четко обрисовывались на светлом фоне заката.
Вдруг крики и брань привлекли внимание Логунова. На улице показался обоз подвод в пятнадцать, сопровождаемый десятком красногвардейцев. Следом, постепенно оттесняя бойцов в сторону, валила толпа орущих и улюлюкающих людей. Со смежных улиц подбегали милиционеры, но отнюдь не для того, чтобы установить порядок.
Впереди под конвоем красногвардейцев шагали начальник гражданской милиции Благовещенска штабс-капитан Языков и несколько японских резидентов в гражданской одежде. Языков с усмешкой поглядывал на сбегавшуюся к месту происшествия толпу, в которой преобладали его сторонники.
— Граждане, до каких пор терпеть самоуправство! — громко взывал он, рассчитывая на сочувствие обывателей.
Вскоре нахлынувшая толпа остановила обоз. Публика, арестованные, конвоиры-красногвардейцы, вооруженные милиционеры — все смешалось.
Пользуясь сумерками и суматохой, какие-то неизвестные личности прямо на глазах у красногвардейцев стали растаскивать из саней груз — японские винтовки и пачки патронов. В возникшей давке конвоиры не решились и не могли пустить в ход оружие. Да этому воспрепятствовала бы гражданская милиция, которая только ждала сигнала Языкова.
К счастью, подоспела еще горсточка красногвардейцев, и порядок был восстановлен. Публику оттеснили. На передних санях, возвышаясь над толпой на целую голову, стоял знакомый Логунову боцман и зычно распоряжался.
— Так их — в печенку, селезенку, деву Марию... — Он продолжал виртуозно ругаться, а вокруг восхищенно замирали знатоки жанра.
— Ну и кроет, стервец! — сказал кто-то.
Ругань боцмана остудила чрезмерно разгорячившиеся головы. Он, видно, на это и рассчитывал.
— С дороги. Прочь с дороги! — кричали ободрившиеся конвойные.
Арестованные, а за ними и обоз двинулись дальше.
— Что это у вас происходит? Я ничего не пойму, — спросил Логунов, шагая рядом с боцманом.
— Да вот контрам здешним дружки с той стороны подкинули обоз. А наши перехватили его. Арестовали субчиков, — стал рассказывать боцман, одновременно зорко поглядывая по сторонам. — Видал, какие тут штуковины? — Он на ходу нагнулся к саням, выхватил из ящика винтовку, мягко клацнул затвором. — Обрати внимание, густая фабричная смазка. Значит, прямым рейсом сюда доставили.
— А при чем здесь японцы?
— Вот это я и хотел бы знать! Чего они лезут? — Последовал так называемый «малый боцманский загиб». Отведя душу, он продолжал: — Ловить рыбку в мутной воде хотят. Языкова допросить, так небось скажет. Хотя — нет. Он сегодня нахальный. Послушай, Языков, какого черта ради затеяли вы канитель? — прибавив шагу, спросил он у арестованного.
Тот с веселой наглостью бросил:
— Доживешь до утра — узнаешь.
— Ты сам доживи, курва! — и к удовольствию конвоиров моряк с ритуальной точностью без запинки выпалил «большой боцманский загиб».
— Ну ты и матерщинник! — уже серьезно сказал Языков.
— Отдали бы тебя мне в науку — научил бы... — мрачно пообещал боцман. — Ладно. Теперь сами доведем. Ступайте, ребята! Спасибо.
Присоединившийся к конвоирам красногвардейский отряд скорым шагом двинулся к телеграфу. Логунов пошел с ними.
В аппаратной скучали три дежурных телеграфиста, стрекотал «морзе» и ползла бесконечная лента тире и точек.
— С Хабаровском работаете? — спросил Логунов.
— Вся связь на Приморье идет через нас, — охотно ответил молодой телеграфист.
Два других косо поглядывали на Логунова и на красногвардейцев, занявших места у окон.
— Ребята, ведь вас с улицы прекрасно видно. Пальнет еще кто, — сказал Логунов. — Что за новости передавали сегодня? — продолжал он затем свой разговор с телеграфистом.
Тот бегло посмотрел записи.
— Пожалуй, вас это мало обрадует, — с усмешкой заметил он. — В Бресте подписан мир с немцами. Принят их ультиматум. Позавчера кайзеровские войска заняли Киев. Через станцию Куэнга проследовал экспресс, которым едут из Петрограда во Владивосток миссии иностранных держав. — Продолжая листать дальше записи, он говорил: — Дутов бежал из Оренбурга, но это было на прошлой неделе... А вот как раз для вас!.. Избран Сибирский Совет Народных Комиссаров. Председатель — Шумяцкий. Комиссар по военным делам — Лазо.
— Извините, — перебил подошедший пожилой телеграфист. — По правилам мы не можем знакомить посторонних лиц с перепиской.
Логунов спустился вниз и на лестнице встретил солдата, того самого, с которым они днем разгоняли эсеровский митинг.
— Вот что, дружок. Дело-то плохо, — сказал тот встревоженным голосом. — На улицах казачня. Подняли их по тревоге. Собираются возле войскового правления. Потребовали отпустить Языкова и задержанных японцев.
— Ну и что?..
— Отпустили. Говорят, не стоит гусей дразнить, — солдат махнул рукой.
— Тогда я побежал в Совет, — сказал Логунов.
Чувство тревоги еще больше охватило его, когда он вышел на улицу. Возбуждение заметно усилилось. В свете редких уличных фонарей мелькали фигуры вооруженных людей. На рукавах у них белые повязки, хорошо заметные в темноте. По улице во всех направлениях скакали конные. «Эге, да гут все делается по расписанию», — подумал Логунов, прибавляя шагу и стараясь держаться в тени домов.
Было около девяти вечера, когда раздался первый выстрел. Народу на улицах сразу поубавилось.
Где-то недалеко во дворе отчетливо звучала команда на чужом, нерусском языке. Знакомо звякнули примкнутые штыки.
«Полундра!» — сказал себе Логунов и сунул наган в карман шинели, грея ладонью шершавую рукоятку.
К счастью, было темно, и на Логунова не обратили внимания. В пять минут он пробежал расстояние до поворота к зданию Совета. Оттуда доносился гул голосов.
Вдруг кто-то дернул его за руку и увлек к калитке.
— Тихо, браток! Не шуми, — сказал над ухом знакомый голос боцмана. — Гляжу, топаешь... прямо чертям в лапы.
— Я в Совет.
— Поздно, браток! Эх, разрази меня японский бог с царскими жандармами! Куда глядел, старый дурак? Сотню линьков по николаевской плепорции за это, — шепотом корил он сам себя, прислушиваясь к выстрелам.
— Значит, мятеж? — сообразил Логунов. Он был ошеломлен таким неожиданным развитием событий.
— Да, захватили нас, как кур на насесте. — Боцман выругался свистящим шепотом. — Похватали работников Совета. Арестовывают делегатов крестьянского съезда.
— А Мухин? — спросил Логунов.
— Взяли и его, — продолжал боцман. — Да есть в городе пролетариат! Он Советскую власть в обиду не даст. Что, наши еще на телеграфе? — быстро спросил он, осененный какой-то новой мыслью.
— Я уходил, были там.
— Добро. Слушай, — сказал он тоном приказа. — Тут в соседнем дворе пара коней в санках. Должно быть, в случае неустойки хозяин в Сахалян собрался мотнуть. Ну, разумеешь? Надо наших предупредить в Астрахановке. С утра пусть двинут как следует по затылку этой сволочи. И как бы казачня сама туда не кинулась, — тут же высказал он свое опасение. Привлек Логунова поближе к себе и стал шепотом объяснять ему, как следует ехать, чтобы избежать казачьих застав.
— Скажешь Марку Варягину: пусть действует по обстановке. В оба глядеть. Еще запомни: хотели мы с Никанорычем в последнюю минуту поднять 2-ю батарею, провод казаки оборвали. Не исключено, возьмут они пушки. Тогда вся надежда на «Орочанина».
— Про вас спросят... что сказать?
— Скажи, что дерусь, — ответил боцман без промедления. — Тут к утру заваруха начнется. Вот телеграмму отбить бы в Хабаровск, — добавил он озабоченно и двинулся в темноту. — Пошли. Некогда прохлаждаться...
Через короткое время ворота распахнулись, и Логунов на доброй парной упряжке вихрем вылетел из двора на улицу. Санки на повороте сильно качнуло; Логунов ногой оттолкнулся от земли и выровнял возок.
Кони распластались над темной, едва мелькающей внизу дорогой.
— Стой! Стоо-ой! — послышалось сзади.
Вдогонку за санями кинулся подвернувшийся, как на грех, казачий патруль. Из дверей особняка выбегали во двор вооруженные милиционеры.
Боцман оказался между теми и другими. Ему не составило бы труда скрыться, но он в эту минуту не думал о своей безопасности.
Едва передний казак, низко пригнувшись в луке седла, поравнялся с воротами, как боцман поднял маузер и выстрелил в коня. Всадник кубарем полетел через голову. Боцман двумя выстрелами подряд ссадил еще одного казака и, петляя, побежал по тротуару.
Казаки и выскочившие со двора милиционеры открыли по нему огонь. Пули сердитым роем свистели вокруг боцмана, но он был как заговоренный. Он кидался из стороны в сторону, чтобы помешать прицельной стрельбе, и быстро подвигался к перекрестку, за которым думал найти спасение.
Привлеченные выстрелами, его многочисленные противники с трех сторон сбегались к этому же перекрестку. Едва боцман показался в неверном свете уличного фонаря на углу, как по нему с близкого расстояния ударили залпом. Ему прострелили ногу.
Превозмогая боль, боцман добрался до дверной ниши, прислонился спиной к настывшему камню и, понимая, что ему уже не уйти от преследователей, стал отстреливаться. Трудно было рассчитывать, что в этом буржуазном квартале кто-то придет ему на помощь. Он все же оттянул время и еще добрую четверть часа держал казаков на почтительном расстоянии, пока не расстрелял последнюю обойму. Боцман знал, что Логунову удалось уйти, и это доставило ему ту единственную маленькую радость, какую он мог еще испытать в своем очень трудном, безнадежном положении.
Еще несколько пуль попало в него. Он рухнул боком на каменные ступени.
Его били прикладами, пинали коваными сапогами, хлестали плетью по рукам и лицу. Он не издал ни звука, ни стона, только старался прикрыть холодеющими уже пальцами свои глаза, чтобы уберечь их и до последнего вздоха глядеть на белый свет. Нет, не думал он умирать, когда только начиналась настоящая жизнь! Да что поделаешь...
Очнувшись, боцман услышал разговор, будто за стеной. Потом он понял, что говорили над ним. Его оттащили с крыльца на самый перекресток, под фонарь. Боцман не хотел расставаться с жизнью, трудно умирал, и эти люди, его убийцы, с жадным любопытством хищных зверей забавлялись его страданиями и терпеливо ждали конца.
Есть в агонии минута, когда жизнь делает последнее усилие в борьбе со смертью. Сознание умирающего на короткий миг проясняется. Наступила такая минута и для боцмана. Будто свежим морским соленым ветром повеяло над ним и где-то далеко на рейде четыре раза пробили склянки.
Прямо перед ним громоздились широко расставленные ноги в армейских обмотках, повыше виднелась склоненная немного голова с косым разрезом глаз и черными острыми зрачками. Это лицо он видел ясно, а вот другие лица, их было много, — плавали в тумане. «Японец, а те — казаки», — догадался боцман, испытывая сейчас единственное желание повернуться на бок.
Что-то мешало ему лежать, будто подсунули под него булыжник-кругляк. Подобрав перебитые ноги, боцман медленно опустил к поясу руку и, напрягаясь станом, повернулся. Лица исчезли с поля зрения и остались лишь ноги — в обмотках, хромовых сапогах и гимназических брючках навыпуск. Целый лес ног.
Глухо гудели над ним голоса: так плещется за бортом корабля портовая зыбь.
Да, пора ему отчаливать в дальнее плавание.
И тут боцман догадался, что так мешало ему. «Ага! Ждете конца... Будет конец», — подумал он почти весело. И снова задвигал руками, поворачиваясь ничком к земле, будто надоели ему до крайности начищенные до нестерпимого блеска офицерские сапоги.
— Эк его корчит, — сказал кто-то над ним.
— Сейчас подохнет, — заметил другой.
Эти слова боцман услышал явственно.
«Сейчас. Сейчас», — рука его сделала последнее усилие и выскользнула из кармана. Громко стукнул о зубы металл. Боцман повернулся и, прежде чем стоявшие над ним его враги успели сообразить, что происходит, — рванул зубами кольцо мильсовской гранаты.
— Полундра! — торжествующе крикнул он, а может быть, только подумал.
И все исчезло в ослепительном взрыве.
Савчук вернулся поздно, усталый, и сразу повалился на кровать. Засыпал он по фронтовой привычке мгновенно. Однако вскоре его разбудила мать. Кто-то тяжелым кулаком нетерпеливо дубасил в дверь.
— Ваня, к тебе, должно быть. Только ты дверь-то сразу не открывай. Спроси, кто. Слышишь, Ваня... спроси, — встревоженным шепотом говорила Федосья Карповна. Ей сразу вспомнилось, что недавно вот также среди ночи постучались к старшему милиционеру Силантьеву, и, когда тот открыл дверь, его уложили возле порога тремя выстрелами в упор.
— Зажгла бы ты, мать, свет, — сонно сказал Савчук, ощупью разыскивая валенки, прислоненные для просушки к печке.
Он вышел, не спрашивая отодвинул засов.
— Это я, Супрунов. — Стучавшийся вошел в темные сенцы и, понизив голос, продолжал: — Беда, Иван Павлович! Казаки восстали... в Благовещенске. Заарестовали Совет.
— Эх, черт! — С Савчука мигом слетели остатки сна. В неотапливаемых сенцах было морозно, и он, поеживаясь от холода, открыл дверь в комнату. — Проходи, Гордей Федорович. Как это случилось?
Федосья Карповна чиркнула спичкой, зажгла лампу. Супрунов у порога веником обмел снег с валенок, снял шапку, поздоровался с хозяйкой.
— Подробностей не знаю. Сказали в двух словах и послали к тебе. Чтобы сию минуту, говорят, был в штабе.
Савчук одевался с той четкой быстротой, которая обнаруживала кадрового военного, привыкшего ко всяким неожиданностям.
— Значит так, Гордей Федорович: я побегу в штаб, а ты по квартирам подымай народ. Чтобы к утру батальон был в полной походной форме. Сдается мне, надо выручать благовещенцев.
— Да уж если такая оказия, как не выручить.
— Господи, опять война, что ли? — сказала Федосья Карповна, с возраставшей тревогой глядевшая на сборы сына.
— Ну какая там война! Покажем казачишкам кулак, они и разбегутся по станицам, как суслики в норы, — с деланной веселостью заметил Савчук. Но тут же понял, что мать этим не успокоить. Уже другим тоном он добавил: — Конечно, ничего серьезного там нет. А пару бельишка ты мне собери. Может, в баньке попаримся.
— Соберу, Ваня, соберу, — с тихой покорностью сказала Федосья Карповна.
— Я еще забегу, — Савчук заправил шинель и вышел следом за Супруновым.
Федосья Карповна метнулась за ними, но услышала, как со стуком отворилась дверь из квартиры Петровых, и остановилась. Дарья о чем-то спросила Савчука, он коротко ответил. Затем, поскрипывая снегом, он торопливо прошел мимо окна. Федосья Карповна пошатнулась, ухватилась рукой за косяк, да так и осталась стоять, пока не затих скрип его шагов.
В краевом военном комиссариате светились все окна. У подъезда фыркали оседланные кони. По тротуару вдоль здания ходил часовой.
Дежурный, увидев Савчука, коротко бросил:
— В пятую комнату, Иван Павлович.
Савчук лихо взбежал по лестнице. Перед самой дверью он замедлил шаг, вздохнул поглубже, не глядя, привычным движением руки проверил, в порядке ли шинель, ремень, как делал это на фронте перед тем, как войти в блиндаж к командиру полка.
Первое, что он увидел, отворив дверь, были спокойные, внимательные глаза Потапова. Савчук знал, что Михаил Юрьевич в последние дни хворал, лежал дома, но нисколько не удивился, встретив его сейчас здесь.
— Командир батальона грузчиков Савчук! — громко, по уставной форме отрапортовал он.
— Здравствуйте! Сбор батальону объявили? — спросил Потапов.
— Так точно.
— Хорошо. Садитесь пока, с вами займемся позднее. Имейте в виду, товарищи, от быстроты движения эшелонов зависит многое, — продолжал он прерванный разговор с двумя железнодорожниками. — Так, паровозы есть?.. Ладно. А дрова? С водоснабжением как?.. Я бы на вашем месте послал телеграмму на линию. Надо обратиться к рабочим прежде всего.
Савчук отошел к группе командиров, собравшихся в углу возле незнакомого ему бородатого человека в кожаной куртке. Все слушали его с большим вниманием.
— Гамов, конечно, демагог, но демагог опасный. Раз он решился на такое дело, путь ему один. Придется драться, товарищи, — говорил он, постукивая пальцем по футляру маузера, лежавшего на коленях. — 3а него кто? Эсеры и меньшевики, золотопромышленники безусловно, казаки-стодесятинники. А область в целом за Советы, это крестьянский съезд показал. Выходит, кашу они заварили, да им же и расхлебывать.
— Выходит, проморгали вы там. Факт! — сказал Савчук, не разделявший чрезмерного оптимизма благовещенского товарища.
Человек в кожанке усталыми от бессонницы глазами посмотрел на Савчука.
— Возможно и так. Когда я уезжал, трудно было предположить, что дело примет такой оборот. Но что спорить об этом сейчас? Теперь там крови прольется не знаю сколько, — тихо сказал он и вздохнул, подумав о своей семье. — Мухин в Совете вел правильную политику, я нисколько не сомневаюсь. Отчего казачье и взбесилось. Почувствовали, что их к рукам прибирают.
Он не докончил, так как его в это время позвали к военному комиссару. Туда же ушел и Потапов, отпустив железнодорожников.
Сведения из Благовещенска пока были отрывочные и очень неполные. Видно, штаб принимал меры, чтобы поскорее выяснить обстановку и затем действовать в соответствии с нею. Было известно, что в городе продолжается бой. На его улицах рабочие-красногвардейцы дрались с казаками. Кто-то высказал предположение, что, может, благовещенцам самим удастся подавить мятеж.
— Да-а, хорошо бы! А нам — по домам. Спать хочется, черт побери, — сказал с зевком сосед Савчука. — Ага, вот кто нас, грешных, просветит! Что нового, товарищ Разгонов? — продолжал он, поворачиваясь вместе со стулом к дверям.
— Хорошего мало. А где Михаил Юрьевич, не скажете? — Разгонов зашел с бумагами, вид у него был строгий и озабоченный. Среди работников комиссариата он выделялся своей подтянутой фигурой и щегольской выправкой. Зеленый английский френч с карманами был пригнан по нему, синие брюки-галифе умеренно широки, а зеркально-черные сапоги чуть поскрипывали. Он был побрит, свеж и бодр. — Какие новости? Наконец удалось наладить связь с Астрахановкой, — продолжал он тем же озабоченно-деловым тоном, поколебавшись между желанием уйти и остаться. — Но город нам придется оставить, ничего не поделаешь. Перевес сил у Гамова. Наши отходят к этой деревне, к Астрахановке. Канонерская лодка оттуда бьет по Благовещенску. Но что особенно неожиданно: в рядах повстанцев действует рота японцев. Каково, а? — и Разгонов со значительным видом посмотрел на Савчука.
— Что за чушь? Откуда там японцы?
— Должно быть, вооружили резидентов. Их ведь полно в наших городах, — снисходительно пояснил Разгонов, довольный произведенным впечатлением. Сам он мало задумывался над значением сообщенных им фактов. — Или резиденты, или перебросили воинскую часть через Маньчжурию.
— Да нет, не может быть. Поднапутали там со страху.
— А резидентов тут у них действительно чертова уйма. Неспроста такой наплыв японцев в наш край. Вспомните, товарищи, недавнее прошлое... Порт-Артур.
— Позвольте! Тогда мы стоим перед фактом интервенции?..
— А какое они имеют право вмешиваться?.. Вот уж наглость!
— Насчет японцев запросили вторично. Ждем подтверждения. Это самая неприятная новость. Но пока — секрет, имейте в виду, — сказал Разгонов и удалился, солидно поскрипывая сапогами.
Пока они обсуждали новость, подошло еще несколько командиров. Прибыла группа моряков с Амурской флотилии.
— Эге! Подбирается солидный народ, — заметил Потапов, появляясь наконец в комнате. Он окинул взглядом собравшихся. — Все здесь? Тогда, товарищи, проходите в зал, на совещание. А ты, Алеша, — обратился он к вошедшему за ним Дронову, — ты, Алеша, садись за телефон и достань сюда живым манером интендантов. Ладно? — и он тоже вышел вслед за Савчуком и другими командирами.
Савчук так и не выкроил времени, чтобы забежать домой — попрощаться. Утро и первая половина дня прошли в непрерывных хлопотах, сборах. Надо было проследить за получением снаряжения и боеприпасов, вырвать у интендантов несколько полушубков для тех, чья собственная одежонка окончательно прохудилась. Подготовить к отправке батальон оказалось куда труднее, чем поднять по тревоге находящуюся на казарменном положении воинскую часть. Вдобавок Савчука задержали на оперативном совещании в штабе; на вокзал он прибыл почти перед самой посадкой в эшелон.
На перрон Савчук прошел не через здание вокзала, куда в это время валом валили подошедшие в строю моряки-амурцы, а через калитку, которой обычно пользовались весовщики товарного двора. Тут, в закоулке, на него едва не налетел высокий, франтоватый с виду боец из его батальона. Он буквально остолбенел, увидя Савчука.
— Ты куда? Сейчас посадка будет.
— Я... я... Я по... по нужде, — выдавил из себя наконец боец, растерянно моргая и стараясь не смотреть на командира.
Савчуку сразу все стало ясно.
— Вот ты как! В кусты... — сказал он, посмотрев на него с недоброй усмешкой. — Ну валяй, парень. Только гляди — не падай. Упадешь — стопчут.
— Да я... господи! Кабы не один в дому... мать-старушка.
— Молчи, гад! Молчи. Мать не знает, какого сукиного сына родила. — Савчук сильной рукой ухватил бойца за ворот пальто и притянул к себе. — Запомни: за дезертирство расстрел. Могу сейчас поставить тебя к стенке. Понял? Ну? — И он опять рванул его за ворот так, что затрещали и полетели прочь пуговицы. — Эх ты, хлюпик! — сказал он затем с бесконечным презрением и оттолкнул парня от себя. — Давай сюда винтовку! Сымай пояс... Та-ак. И катись к чертовой матери! Уходи с моих глаз, пока я не передумал...
Так, с отобранной винтовкой и поясом с подсумками, Савчук вышел на перрон. Инцидент с дезертиром сильно расстроил его и огорчил. Савчук с беспокойством подумал о том, что за хлопотами сборов не успел поговорить с людьми и что впереди, наверно, его ждет еще не одна такая неприятность.
— Гордей Федорович, забери это в вагон. — Савчук, ничего не объясняя, сунул в руки подбежавшему с рапортом Супрунову подсумки и винтовку. — Списки наличного состава у тебя?
— Э, списки... Кто есть, тот — здесь. Разве что для учета трусливых? Так не больно нужны, — Супрунов пренебрежительно махнул рукой.
— Порядок должен быть. Понял? Списки составь сейчас же, как тронемся, — сурово оборвал его Савчук и пошел дальше, зорко примечая все: и как обуты, одеты бойцы, и сколько подсумков с патронами у каждого, и как кто глядит, как держится в эти последние минуты перед посадкой в вагоны.
Красногвардейцы его батальона и других частей, отправляющихся с первым эшелоном, стояли в шеренгах спиной к вагонам. Ждали начала митинга и посадки. С короткой речью выступил Потапов. Он сжато обрисовал обстановку в крае, где к этому времени Советская власть установилась повсеместно. Охарактеризовав Гамова и его программу восстановления власти буржуазии, Потапов призвал одним ударом покончить с поднявшей голову контрреволюцией. Несколько слов от грузчиков сказал Игнатов, перепоясанный крест-накрест пулеметными лентами. Затем на бочку, с которой говорили ораторы, вскочил матрос из подошедшей команды.
— Товарищи красногвардейцы... даешь Благовещенск! — прокричал он с молодым задором и взмахнул зажатой в руке бескозыркой. В шеренгах откликнулись дружным «ура».
— Батальон, кру-гом! По ва-го-нам! — гаркнул Савчук.
Посадкой распоряжался Супрунов. Савчук проследил немного за его действиями и отошел к Потапову.
— Через десять-пятнадцать минут двинемся, Михаил Юрьевич. Не было бы задержек в пути, — сказал он, присматривая все же одним глазом за посадкой. — А что, японцы в самом деле там выступили?
— Да-а, черт бы их побрал! Тем быстрее надо кончать с канителью, с Гамовым, — ответил Потапов; ему в его легком пальто было зябко. — За вами через час пойдет эшелон моряков. Потом отправим батарею, как подвезут снаряды. А ночью проследует состав из Владивостока. В Астрахановку едет представитель областного комитета — за ним общее руководство.
— Ладно. Это мы учтем, — сказал Савчук.
Потапов заговорил о том, что очень волновало его, — о судьбе благовещенских товарищей, жизнь которых находилась в крайней опасности.
— Федора Никаноровича надо вызволить. Вы это продумайте. В случае неустойки они могут ликвидировать тюрьму. А там почти весь областной исполком. Значит, операцию надо провести так, чтобы времени для таких дел не осталось. Вы меня поняли? — спросил он, приблизив свое лицо к Савчуку. — А задержек в пути я сам боюсь. Попрошу телеграфировать о таких случаях в краевой Совет. Вне всякой очереди.
— Пробьемся! Далеко ли тут?
Савчук зашагал к составу, давая знак старшему кондуктору, что можно отправлять эшелон.
Но они простояли еще минут двадцать: что-то не ладилось с жезловым аппаратом.
Когда эшелон тронулся, Савчук забрался в головной вагон, попросил закурить; за куревом легко наладился разговор. Настроение у бойцов было хорошее, и у него постепенно отлегло от сердца.
На остановке он перебрался в следующий вагон. Там его и разыскал Супрунов, принесший списки.
— Пятерых я сам отпустил. Трое не явились на вокзал по неизвестной причине, — доложил он, смущенный несколько таким обстоятельством.
— Причина, положим, известная — труса празднуют, — усмехнувшись, сказал Савчук. — Запиши еще четвертого... Сукин сын, чуть винтовку не уволок.
Супрунов только головой покачал, — боец этот считался в числе самых надежных.
— Вот не подумал бы. На кого — грешил бы, а на него нет, — сказал он огорченно. — Какая это зараза, однако, — трусость. Надо было вернуть да постыдить перед всеми-то.
— Пес с ним! А вот морду ему зря не набил.
— Что ты, Иван Павлович?!
— А то... Очень даже круто буду расправляться за подобные дела. Пусть все знают, — повысил голос Савчук, в сознании которого дезертирство было едва ли не худшим из всех смертных грехов.
Супрунов тактично помолчал.
— Вижу, что ты закрутился, послал к Федосье Карповне, — сообщил он потом уже другим тоном. — Вот тебе от нее бельишко, с родительским благословением!
— За это спасибо, Гордей Федорович! Милый ты человек... Знаешь, давай поужинаем — и спать.
Савчук только сейчас почувствовал, как он измотался за день. Да и Супрунову досталось не меньше.
При свете огарка они съели по куску хлеба с вяленой рыбой, очень сухой и соленой, выпили по кружке чуть тепловатого чая. Чай им нацедил из своего чайника пожилой бородатый красногвардеец. Супрунов ушел сразу после ужина. Савчук не захотел искать лучшего пристанища, пересел на освободившееся место возле окна и прислонился боком к подрагивающей стенке.
Большинство бойцов в вагоне спало. Красногвардеец, угощавший Савчука чаем, забрал свечной огарок и поставил его обратно в фонарь. Стало почти темно. Савчук закрыл глаза.
Но сон не шел к нему.
Вагон, в котором ехал Савчук, был старый, изъезженный; он скрипел, трещал, словно разваливался на части. Иногда его начинало так подбрасывать, что можно было подумать, будто на участке по ошибке шпалы положили поверх рельсов. Тем не менее поезд — дребезжа, скрипя, шатаясь — бойко бежал вперед, покрикивая у семафоров.
На разъездах к ним подсаживались поодиночке и группами вооруженные железнодорожники, солдаты-фронтовики из ближних деревень, приискатели, охотники. Ночью людей в вагоне набралось столько, что Савчуку уже трудно было разобрать, где свои, грузчики, а где — «чужие».
Вся область поднялась. Все, кто мог держать оружие, кто имел его, устремились в Благовещенск — туда, где выявилась опасность для Советской власти. Молодая, только что возникшая народная власть оказалась такими тесными узами связанной с этими простыми людьми, рабочими и крестьянами, что ради нее они без колебаний готовы были идти на нелегкое ратное дело, на смерть.
Кто-то из красногвардейцев на очередной остановке безуспешно попытался задержать этот неожиданный и грозный поток.
— Куда прешь? Тут воинская часть, не видишь?
— Воинская?.. Это нам в самый раз. Принимайте пополнение! — весело сказал кто-то на перроне и распорядился: — Сюда, хлопцы. Залезайте.
Вагон заметно качнуло: видно, несколько человек сразу полезли на подножку.
— Места нет, говорю. Ступайте в другой вагон!
— Пусть входят. Не мешайте там, — крикнул Савчук.
В вагон протиснулись высокий старик с рыжей бородой и четыре парня, одинаково рослых, широкоплечих и чем-то неуловимо похожих друг на друга.
— Размещайся, ребята. В тесноте, да не в обиде, — сказал старик. Красногвардейцы потеснились, и он присел на краешек скамейки. Савчуку с места были видны лишь борода старика да его руки с узловатыми пальцами, крепко державшие берданку. — Все мое семейство здесь, мужчины то есть. Трое — солдаты, Меньшой — не успел, да Митя у нас парень ловкий. Чего ему дома с бабами сидеть? В два счета собрались — едем. Одна беда — ружья у Мити нет. Крепкие руки да голова с соображением, — продолжал старик, хотя его об этом пока никто не спрашивал. — А вы из города?.. Вот оно ка-ак... Громада! Двинулась Россия-матушка...
А поезд уже катил дальше. За шумом и скрипом Савчук больше не мог следить за разговором. До него долетали лишь отдельные слова. Скоро его начало опять клонить в сон. Поезд дергался, качался; в такт ему качались и люди, наваливались один на другого.
На дремлющего Савчука наваливался здоровенный боец. Он спал, посвистывая носом, клевал им в плечо Савчука и изредка невнятно бормотал что-то. Савчук отодвигался сколько мог в угол, но парень снова приваливался к нему и сладко-сладко всхрапывал.
Савчук еще некоторое время боролся со сном: думал о своем батальоне, прикидывал, где и как разместить людей, когда они прибудут на место, и кто из необстрелянных бойцов может плохо повести себя в бою. С этими мыслями он незаметно уснул.
Проснулся Савчук оттого, что кто-то неосторожно наступил ему на ногу.
Поезд стоял; голоса людей слышались явственнее, не было все заглушающего шума и лязга. За стеной вагона кто-то торопливо бежал вдоль состава, громко топая коваными сапогами по перронному настилу.
— Завитая. Воду будем брать, — негромко заметил старик.
Чиркнула зажигалка. Колеблющееся пламя осветило задумчивые серьезные лица. В вагонной полутьме огни цигарок похожи на летящие за окном искры.
«Да, молодцы железнодорожники. Ходко идем!» — подумал Савчук и вспомнил, как недавно по этой же дороге он возвращался с фронта и как медленно тащился тогда поезд.
Он стал прислушиваться к разговору в соседнем купе.
— Порознь, в одиночку, мы ничто, но все вместе уже многое. Сто малых — один большой, — убеждающе говорил бойкий тенорок за стеной.
— Верно. Согласен я, — густым басом откликнулся кто-то другой.
— Тише, Осип. Людей побудишь, — вмешался третий.
— Ладно. Голос у меня такой, — извиняющимся тоном пророкотал бас. — Всем заодно. Против этого не спорю. А с чем не согласен, так не согласен. Говоришь, учиться у господ? Чему? Как людей обманывать? Нет, уж я лучше неучен буду — своим умом проживу.
— Да зря ты, зря фыркаешь. Есть чему — учись хоть у самого черта. Отчего же не поучиться и у буржуя: хорошее бери, плохое — в сторону. Наука, в сущности, создана для облегчения жизни человеку. Только они приспособили ее по-своему.
Кто-то зашуршал бумагой, чиркнул спичкой. В вагоне плавал густой табачный дым, присутствие которого ощущалось по горечи во рту.
— А что, Викентий Александрович, загробный мир есть или нет? — спросил затем тот человек, что недавно призывал к тишине. — Или то поповская выдумка?
— Выдумка. А также от незнания действительных законов жизни и происхождения ее, — убежденно, но несколько туманно ответил тенорок. — Рай мы сами построим на земле, а ад был в прошлом — он никому не нужен. И суеверия нам теперь ни к чему. Попы поддерживают версию о загробной жизни чисто из корыстных интересов. Требы разные, службы — вот копейка к ладоням и липнет.
— Липнет, густо липнет, — подтвердил бас. — Я одно лето в монастыре сено косил. Ну, это братия... Эти обдерут тебя яко липку. В Шмаковке монастырь-то.
— А я и плохую земную жизнь на загробный мир не променяю. К чему? — засмеялся тот, кто начал разговор. — Или девок на свете мало? Жить, братцы, хорошо! Только жениться не надо лет, скажем, до тридцати.
— Почему? — спросил тенорок. — Женятся в ранние годы и тоже бывают счастливы... Встретится хорошая женщина...
— Да как ее угадать! Женщина в девках чисто ангел, а замуж выскочит — ведьмой становится. Отчего так, а?
— От нелегкой жизни и мужской подлости, — отрубил бас, будто поставил точку.
За окном в третий раз ударил колокол. Вдали загудел паровоз, дернул вагоны, не взял, дернул снова и, словно озлившись, рванул так, что с верхних полок сразу посыпались вниз дремавшие там люди, ругаясь и кляня машиниста. Человек, лежавший на полке над Савчуком, удержался на месте, так как успел упереться рукой в противоположную полку, его борода свесилась над проходом.
— Поизносились паровозики... — беззлобно произнес он.
Савчук хотел пройти по вагону, да жаль стало крепко уснувшего у него на плече парня. Во сне тот потянулся, зачмокал губами. «Эх ты, намаялся! — с сочувствием подумал Савчук. — Ну, спи. Может, в последний раз». И самому стало неприятно от этой мысли.
Он вспомнил о Дарье. В последние недели Савчуку некогда было по-настоящему задуматься над их отношениями. Все у них как будто определилось и все по-прежнему было неопределенным. Петров у себя совсем не показывался, видно, Дарья, как обещала, все рассказала ему. Но и открытого разрыва между ними еще не было. Савчук из-за этого чувствовал себя в очень двусмысленном положении. Хуже всего было то, что ходить к Дарье ему приходилось почти что на глазах у матери. Федосья Карповна, которая не знала, как глубоки и чисты их отношения, стала заметно суше обращаться с соседкой; сыну она ничего не говорила, но он часто ловил в ее глазах осуждение и страдал от этого.
«Видно, я сам виноват. Хожу, милуюсь, вздыхаю, а надо твердо ей сказать: «Вот, милая, прибивайся окончательно к моему берегу. Переходи к нам жить». Ведь Дарья сама этого не скажет, не может сказать, — думал Савчук, проникая сейчас в суть их так ненужно осложнившихся отношений. — А будем вместе жить — и мать поймет. Люблю ли я Дарью? — спросил он себя и ответил: — Никто мне не нужен, кроме нее».
Савчук решил, что, как вернется из Благовещенска, первым делом урегулирует свои отношения с Дарьей.
— Женюсь, и баста! — сказал он вслух и сконфузился от этого. Но в грохоте движущегося поезда никто его слов не расслышал.
Солнце смотрело в окна вагона, когда пулеметчик Игнатов разбудил Савчука.
— А здоров же ты спать, Иван Павлович! Али сны хороши?
— С вечера долго не спалось. — Савчук продрал глаза, потянулся так, что хрустнули суставы. — Ото! Вот так храпанул...
Он чувствовал себя отдохнувшим, бодрым и готовым к действию.
Игнатов на скамье складным ножом открывал заржавевшую сверху банку консервов. Китаец Ван, весело поблескивая черными глазами, разливал в кружки горячий чай.
— Что, Василий, машина работает? — улыбаясь, спросил Савчук.
— Лаботай, лаботай, — ответил китаец, смягчая непривычный для него звук «р». — Моя казака не боись.
— За первого номера работает. Чисто, как бритва, — сказал Игнатов.
— Вот и добро. Спасибо, Василий. — Савчук принял из рук Вана кружку с чаем, не удержал, поспешно поставил на скамью и подул на пальцы. — Ч-черт! Горяч, оказывается.
Кто-то подал ему свой сахар; откусывая его мелкими кусочками, Савчук громко прихлебывал чай из кружки и наслаждался.
Почаевав как следует, он прошелся по вагону, осмотрел внимательно подсевших к ним ночью людей. Это был народ крепкий, бывалый. Преобладали солдаты-фронтовики. Савчук выделил среди них светловолосого румяного юношу с чистым, почти женским лицом, но широкого в плечах и груди.
— Что же, Митя, ружья-то нет? Как воевать будешь? — спросил он, догадавшись, что это и есть четвертый, младший сын рыжебородого таежника.
— А как придется. Я за другими следом, следом. Глядишь, и подберу ружье-то. Говорят, на войне ружья так запросто валяются, — простодушно и без тени смущения ответил парень.
— Ружья-то валяются, да и головы тоже, — пробормотал Савчук. Ему вдруг жалко стало, что вот такой молодой парнишка пойдет под пули. «А пойдет, не струсит», — подумал он, проникаясь уважением и к старику и к его сынам.
Вырвав листок из записной книжки, он нацарапал карандашом несколько слов.
— На остановке ступай в пятый вагон, спросишь Супрунова Гордея Федоровича. Получишь винтовку.
Парень с жадностью схватил записку, даже забыл поблагодарить.
Савчука же обступили другие, потянулись к нему со всех сторон.
— И что мне делать с вами, не знаю? — сказал он в раздумье. — Давайте решим так. Вы формируйтесь в отдельный взвод, а вольетесь в наш батальон. Ладно?
На том и порешили. Посоветовавшись с людьми, Савчук назначил взводным сельского учителя Черенкова, оказавшегося обладателем того самого тенорка, что еще ночью привлек внимание Ивана Павловича. Черенков показал себя человеком дельным и расторопным. Он в два счета составил списки, подсчитал наличное оружие, патроны. В 1915 году он был вольноопределяющимся в саперном полку, но затем по ранению вышел в белобилетники. Себе в помощники Черенков выбрал старшего сына старика — Пахома Ивановича Крученых, молчаливого, но, видно, хозяйственного мужика и бывалого солдата. Его отец — Иван Васильевич — заметно был польщен таким выбором. Он давал дельные советы и довольно поглаживал бороду.
— Эх, жаль. Негде тут построиться по ранжиру. Куда мне стать? — громко сокрушался бас, тоже знакомый Савчуку с ночи.
Как же удивился Иван Павлович, когда увидел, что обладатель этого феноменального голоса — человек самой тщедушной внешности.
— Да вы ступайте на левый фланг. Крайним будете, без ошибки.
— Днем. А ночью меня на правый ставить. Казаков голосом пугать, — и он без натуги рявкнул на весь вагон: «Чел-ло-век он был такой, со святыми упоко-ой!»
— Го-го-го! Ха-ха-ха!
С верхней полки свесилась красивая чубатая голова с черными как смола волосами, удивленно поморгала глазами.
— А, жизнелюбец! Вон куда ты забрался, — сказал Черенков и поманил молодого человека пальцем. — Слазь, дружок, дело есть.
— А что, Викентий Александрович, разве подъезжаем? — лениво спросил тот и громко зевнул. Потом он, спружинив ногами, ловко спрыгнул в проход. — Эх, Осип, Осип, есть талант, да не тому достался!
— Вот неуемный, ей-богу! Минуту можешь помолчать? — заметил Черенков, с улыбкой глядя на парня. Видно, он давно знал его и любил, но сейчас говорил с ним строго официально: — У тебя, Афоничкин, какое оружие? Карабин?.. Патронов сколько?.. Еще имеется граната Мильса? Очень хорошо. Можешь теперь быть свободным.
Афоничкин пожал плечами и сел на скамью напротив Савчука.
— С приисков, что ли, ребята? — спросил Савчук.
— Ага. С каторги — старатели.
Среди приискателей учитель, видно, пользовался непререкаемым авторитетом. Савчук заметил это и был доволен, что остановил на нем свой выбор.
«Надо по другим вагонам людей тоже организовать. Вот и подмога нам будет», — подумал он и стал дожидаться остановки.
На маленьком полустанке он отдал необходимые распоряжения Супрунову и уже на ходу поезда заскочил в одну из последних теплушек. Здесь ехали бойцы других отрядов, и ему хотелось еще до боев познакомиться с ними.
— Привет, товарищи! — сказал Савчук, протискиваясь в узкую щель чуть откатившейся по пазам двери.
— Здорово, коли не шутишь.
— Закрой двери, вояка! — крикнули из глубины вагона.
Ближе к печурке, вокруг поставленного плашмя патронного ящика, сидела группа по-разному одетых людей и резалась в карты. Что-то в фигуре банкомета показалось Савчуку знакомым; он подошел ближе, и на него в упор уставились светлые, немигающие глаза Петрова.
— А, это ты, сосед? — холодно сказал он и прикупил себе карту.
Савчуку встреча с ним была вдвойне неприятна. Окинув взглядом теплушку, он сразу заметил, что людей в ней немного. Видно, не пускали сюда никого и ехали обособленной группой. А что это за компания, было нетрудно понять. «Вот чудеса! И анархисты, оказывается, с нами», — подумал Савчук с удивлением. Потом, поразмыслив, он уже не знал, радоваться или печалиться такому обстоятельству.
Петров выиграл и пододвинул к себе кучу серебра.
— Вот видишь, Иван Павлович, мне в карты везет, тебе — в любви. Каждому свое, — заметил он с тонкой насмешкой.
Возле них на разостланной газете лежали ломти хлеба, кусок надрезанной колбасы, стояли открытые консервы и две начатые бутылки с водкой. Петров налил полстакана, отрезал колбасы и протянул Савчуку:
— Пей!
— Спасибо. Не хочу.
— Пей! Или ты брезгуешь пить со мной? В начальство вышел... — Петров зло глянул на Савчука, но не выдержал его прямого, открытого взгляда.
— Ладно. Я выпью, — примирительно сказал Савчук.
Водка на него никак не подействовала. Петров же заметно хмелел, под хмельком была и вся компания.
«Эх, будет с ними мороки. И как ваши проморгали? Надо было сразу завернуть их обратно», — думал Савчук, ловя на себе любопытствующие, косые взгляды анархистов. Трое самых дюжих боевиков расположились будто невзначай позади Савчука, у дверей.
— Еще выпьешь? Водки мне для тебя не жалко, — сказал Петров, посмотрел на Савчука и подумал: «Пули я тоже не пожалел бы».
Савчук во взгляде Петрова прочел скрытую угрозу. Мелькнула опасливая мыслишка: «Выбросят под откос, и никто не услышит». Потом он рассердился на себя за это: «Вот еще, стану я бояться всякой шушеры!» И так властно посмотрел на ощерившихся боевиков, что те как-то сразу стушевались.
— Загордился ты, видать, Иван Павлович. Больно высоко голову носишь, — продолжал Петров.
— Ты что же, ссоры ищешь? — спокойно спросил Савчук. — Так время неподходящее.
— Как там моя женушка поживает? Не скучает? — прищурясь, с нехорошей двусмысленной улыбочкой спросил Петров, не обратив внимания на слова Савчука.
Савчук отодвинул налитый снова стакан.
— Пить я больше не буду, — решительно сказал он. — И вам не советую. А будете безобразничать, отцепим вагон на первом разъезде.
— Ой, круто как берешь, — насмешливо протянул Петров. — А ходишь один, без охраны.
— Уж не вас ли бояться? — Савчук усмехнулся; он и в самом деле ни капельки не боялся, только презирал этих бахвалов и пакостников.
Перестук колес становился более редким, вагон покачивало на стрелках; поезд подходил к станции.
— Мелко вы плаваете, ребята. Сидеть вам в луже, коли за ум не возьметесь, — сказал Савчук, еще раз окидывая вагон внимательным взглядом. — Теперь можете открыть дверь.
На перроне он увидел новую группу вооруженных людей и тут же направил всех в вагон к анархистам.
— А вы не мешайте! — прикрикнул он на боевиков, и те расступились, освобождая проход.
Вечером эшелон с главной магистрали перевели на благовещенскую ветку. Пока стояли на узловой станции Бочкарево, Савчук узнал, что Благовещенск уже целиком находится в руках казачьих банд атамана Гамова. Отошедшие революционные отряды сосредоточивались в деревне Астрахановке, верстах в семи от города. Туда Савчуку надлежало привести и свой отряд.
Прицепили еще три вагона с каким-то снаряжением.
Ожидая отправления эшелона, Савчук ходил с Супруновым вдоль состава. Гордей Федорович жаловался, что у него ломит поясницу, к непогоде следовательно.
Небо действительно с трех сторон обложило тучами. Только там, откуда прибыл состав, над горизонтом еще мерцали две-три звезды.
Около полуночи повалил снег. Когда поезд тихо прошел по зейскому мосту и остановился на предпоследнем от Благовещенска полустанке, все вокруг тонуло в белесой мгле. Крупные белые хлопья снега медленно кружились в пространстве, освещенном тусклым светом одинокого фонаря; снег мягким пластом ложился на станционные пути, на крышу небольшого цинкового пакгауза и ветви деревьев. Ветра не было. На станции стояла удивительная тишина.
Спрыгнув с подножки еще до остановки поезда, Савчук зашагал по мягкому снегу к маячившему впереди на путях дежурному железнодорожнику. Вдруг глухой неясный шум пронесся в тишине над станцией. Савчук остановился, поднял голову и стал слушать. И опять тот же звук пронесся над его головой; Иван Павлович уже безошибочно привычным ухом различил звук далекого орудийного выстрела. Затем громыхнуло чуть посильнее. Звуки выстрелов чередовались почти с равными промежутками
Теперь выстрелы слушал не один Савчук; многие бойцы стояли возле вагонов и, подставив лица падающему снегу, прислушивались к далекой канонаде.
— Из трехдюймовых садят, — сказал подошедший Черенков.
— Гаубицы. Четыре с половиной дюйма, — поправил Савчук. — А это — морская пушка Канэ. Из Астрахановки отвечают.
Железнодорожник впереди замахал фонарем; паровоз без гудка тронул вагоны. Эшелон, набирая скорость, помчался сквозь ночь и пургу.
Лошади бойко бежали по темным улицам Астрахановки мимо чернеющих за заборами домов. Кое-где в окнах светились огни. Снег перестал идти, небо понемногу стало очищаться от туч, засияло холодным блеском далеких звезд. Большая Медведица передвинулась, предвещая близкий рассвет.
По невнятному говору, скрипу ворот, хлопанью дверей в этот неурочный час и по десятку других почти неуловимых признаков Савчук понял, что село не спит, что оно и сейчас живет сложной, напряженной жизнью. Сразу дохнуло на него привычной фронтовой обстановкой.
Сколько недель и месяцев провел он в таких вот затаившихся в ночной темноте, насторожившихся деревушках — польских, литовских, белорусских, украинских; деревушках, где каждый дом, каждый двор переполнен дремлющими вповалку усталыми солдатами; где одинокая старушка хозяйка или обремененная детьми солдатка, не смыкая глаз, слушает разноголосый храп, стоны, ругань, вздыхает, думая о своем сыне или муже, который вот так же коротает где-нибудь недолгую солдатскую ночь. А утром сунет она кому-либо из ночевавших в избе солдат последнюю кринку молока и незаметно осенит уходящих крестным знамением. Кто-кто, а уж Савчук знал, как глубоко затрагивает война жизнь народа.
— О Мухине что-нибудь известно вам? Как он сейчас? — спросил Савчук у едущего с ним в санях представителя астрахановского штаба. То был расторопный парень из фронтовиков. Он встретил эшелон на полустанке и дал указание, куда двигаться после выгрузки. Измученный за трое бессонных суток, убаюканный монотонным скрипом полозьев и покачиванием саней на раскатах, парень незаметно для себя начал дремать. Савчуку пришлось толкнуть его в бок и повторить вопрос.
— А! Что?.. Мухин в тюрьме, — сказал он, поняв наконец, что хотел узнать его спутник.
— А другие члены исполкома?
— Тоже в тюрьме, — хмуро отвечал тот, недовольный, что его разбудили. — Кто уцелел, тот здесь. Многих ведь убили прямо на улицах. Это же зверье. Осатанели...
Последние слова он договаривал уже сквозь сон, не в силах противиться ему. Савчук понял его состояние и не стал тревожить вопросами. Он поглядел на темную спину сидевшего впереди возчика, затем подумал о том, что батальон теперь, наверно, тоже подходит к околице села. Савчук лишь ненамного опередил бойцов, намереваясь осмотреть отведенные им помещения.
Пока эшелон разгружался да строился, артиллерийская канонада внезапно оборвалась, будто обе стороны одновременно израсходовали весь боекомплект. Кругом опять стояли мрак и тишина.
Улица повернула и вышла на берег Зеи; справа с некоторыми разрывами еще тянулись дома Астрахановки, с левой же стороны чернели редкие тальники. Далее, за небольшим островком, простиралась ровная гладь реки. В ночной темноте широкая, покрытая снегом Зея совершенно незаметно переходила в знаменитые амурские степи — в простирающуюся отсюда на сотни верст плодородную равнину со многими десятками богатых хлебных сел. Сейчас ничто не выдавало их присутствия: ни накатанная дорога, ни чернеющие среди снегов постройки, ни огонек. Может, он где-нибудь и горел на краю этой беспредельной заснеженной степи, но как его отличить среди множества тихо мерцавших над нею звезд?
— Тпру! Стой!.. Приехали. — Возчик остановил лошадь у какого-то длинного строения. Рядом виднелось еще два-три дома с хозяйственными постройками. Где-то загремел цепью, залаял дворовый пес.
Толчок при остановке и громкий голос возчика прервали сон спутника Савчука. Он открыл глаза и почти одновременно с Савчуком выпрыгнул из саней.
— Вот эти дома и занимайте! Тесновато, но зато все вместе будете, — сказал он неожиданно свежим и бодрым голосом, будто и впрямь успел выспаться за эти несколько минут. — Впрочем, сарай тоже можно приспособить под жилье. Днем посмотрите. А скотину — на баз, черт ее не возьмет. Живут тут молокане, мужики крепкие. У них и снегу зимой даром не выпросишь. Вы с ними не очень-то церемоньтесь. Это та же контра, — продолжал он, понизив голос. — Они, как видите, и поселились отдельно. Хуторком.
Приминая мягкий мартовский снег, они прошли немного по дороге. Постояли на крутом яру. К этому времени небо очистилось. Четвертинка луны бледно озаряла снег, дорогу, кусты.
— Имейте в виду: впереди только застава. Вон в тех домиках, — показал в заключение представитель штаба. Но как Савчук ни напрягал зрение, никаких домиков не увидел. Он постарался, однако, запомнить направление. — У нас с ними телефонная связь. Моряки провод протянули. У них там артиллерийский наблюдательный пункт. Если казаки нагрянут, вам первыми драться. Так что будьте начеку.
— Ладно. Я это приму во внимание, — сказал Савчук. Он решил, как только подойдет батальон, выставить свое охранение. Как раз в утренние часы, когда морозный туман стоит над землей, самое удобное время для неожиданного налета.
Сопровождающий поглядел на небо, подавил зевок и сказал:
— Видите, туман садится. Через полчаса начнет светать. Пожалуй, я двинусь в штаб. А вы — размещайтесь и тоже приходите.
Он пожал Савчуку руку, сел в сани и уехал. Савчук постоял еще несколько минут, послушал, как затихает скрип полозьев. Затем решительным шагом направился к ближайшему двору.
Из штаба Иван Павлович вернулся, когда солнце уже поднялось над снежной степью. С устья Зеи тянул пронизывающий ветерок.
Батальон получил дневку для отдыха и переформирования.
Остаток ночи прошел спокойно, если не считать перестрелки на заставе с конным дозором противника да короткого огневого налета в самый момент восхода солнца. Перестрелка шла верстах в полутора от Астрахановки, даже шальные пули не залетали сюда. Снаряды дали перелет и разорвались на Зее; один снаряд упал на льду недалеко от берега, и теперь бойцы черпали там ведрами воду и похваливали белых пушкарей за своевременную подготовку проруби.
Берег здесь похож на отрезок громадной дуги, довольно глубоко врезавшейся в сушу. Ниже деревни Зея поворачивала и под небольшим углом устремлялась к Амуру. Сам Амур не был виден, но определить, где пролегала река, не составляло труда: на правом, китайском, берегу высились небольшие синие холмы.
Солнце освещало недалекие строения спирто-водочного завода, мельницы, высокие трубы судоремонтных мастерских — это уже окраина Благовещенска, его основной рабочий район. В момент белогвардейского мятежа рабочие-красногвардейцы оказали там мятежникам-казакам упорное сопротивление. Оттуда с боями они отступили потом к Астрахановке и не дали гамовцам возможности распространить свою власть на область. Зона, контролируемая мятежниками, с самого начала была ограничена пределами города. Беспрепятственно сообщаться они могли только с Сахаляном — китайским городом, расположенным как раз напротив Благовещенска.
Савчук прикинул на глаз расстояние. Подумал о том, что у казаков, засевших в городе с его каменными строениями, более выгодная позиция. Интересно, как они там расположились?..
Грузчики обживали молоканский хуторок с поразительной быстротой. Одни кололи дрова, другие таскали воду, третьи сколачивали из черной жести печурки-времянки. Приспосабливали под временное жилье сарай, сложенный из толстого накатника. Позади сеновала свежевали тушу только что забитого бычка. В воздухе вкусно запахло ржаным хлебом.
«Эге, прочно устраиваются!» — усмехнулся Савчук, поглядев на всю эту деловитую хозяйственную суету.
Он молча прошел мимо часового, увидев Супрунова, который среди двора толковал о чем-то со стариком Крученых, заметил спешившего навстречу Черенкова и, неожиданно для себя самого, гаркнул:
— Батальон — в ружье!
Вечером Савчук, усталый, но довольный поведением бойцов, сидел за столом в хозяйской горнице и с аппетитом ел жирный, дымящийся борщ. Ел и прислушивался к разговору, начавшемуся до его прихода.
— Неужели тебя, папаша, так ничто и не интересует? — спрашивал Игнатов, обращаясь к хозяину — высокому широкоплечему мужику, видно, одаренному редкой физической силой. Небольшая русая бородка, голубые глаза придавали ему добродушно-ласковый вид; на самом деле он был человек хитрый и расчетливый.
— Почему же... Своя хата, например, интересует.
Он поблескивал глазами, хитровато щурясь, немного с опаской посматривал на Савчука.
— Политикой пусть грамотные люди занимаются. А наше мужицкое дело — хлеб сеять, убирать, молотить, коли будет что. Да кормить всяких добрых людей. Слава богу, густо они на мужицкой шее сидят.
Хорошо заправленная лампа с металлическим эмалированным абажуром освещала лица бойцов, чинно сидевших на лавках вдоль стен (все поужинали еще до возвращения Савчука), намытые до блеска полы, застланные чистыми половиками. Время от времени кто-нибудь вставал и выходил на крыльцо покурить.
— Ну, ежели нужно выбирать, так я подожду, — сказал хозяин и степенно погладил свою бородку.
— Чего же ждать?
— Да надо посмотреть, чья сила больше: ваша или Гамова.
Савчук положил ложку и внимательно посмотрел на него.
— Вот возьмут вас, христосиков, в оборот. Давно следует, — сказал он.
— А мне-то что. Я к вам в подпевалы не нанимался, — ответил хозяин, ласково улыбаясь.
Савчук крякнул, но больше ничего не сказал. Выпив еще кружку чаю с молоком, он взял планшет, накинул на плечи шинель и тоже вышел на крыльцо.
— И просторно у них и чисто, а вот не лежит душа. Ей-богу, — с досадой проговорил один из куривших.
Савчук попросил огоньку, жадно затянулся. Докурив, швырнул окурок.
— А ну их к черту, этих молокан! — и зашагал через двор к сараю, откуда доносились взрывы смеха.
Еще утром в сарае разгородили стойла: образовалось довольно просторное, хотя и мрачноватое на вид помещение. В двух концах его пылал огонь; бока печурок от жара стали красными. Трещали смолистые дрова, на полу и на лицах бойцов играли румяные блики.
Возле ближней печурки сгрудились молодые бойцы. Прямо против открытой дверки, весь озаренный светом, сидел Митя и восторженными, сияющими глазами смотрел на увешанного оружием парнишку из Забурхановки — городского предместья в Благовещенске. Тот рассказывал не столько о недавних боях, сколько о своем собственном геройстве.
— Стрельба. Залпы, залпы... Пулеметы так и косят! — частил он, сопровождая свои слова мимикой и жестами. — Люди валятся, как снопы в молотилку. А я — бегу. Штык вперед — и бегу. Ур-ра-а! Пули. Пули градом по земле прыгают.
— Постой, — перебил Савчук. — А эти пули ты не сам отливал?
Грянул хохот.
— Все. Сгорел ты, брат, на корню, — веско сказал Афоничкин и тронул за плечо гармониста. — Сыпь, дружок, да почаще! Ребята, освобождай круг...
В хромовых сапогах гармошкой, в вышитой сатиновой рубахе, подпоясанный тонким шелковым пояском, Афоничкин выглядел лихим малым. Он рывком вскочил, одернул рубаху, подбоченился, топнул раз-другой каблуком — и пошел. Потряхивая головой, поводя плечами, он выкрикивал что-то бесконечно озорное, веселое.
Когда Афоничкин прошелся несколько раз по кругу, выкидывая разные коленца, вслед за ним, с такой же лихостью пустился в пляс парень из Забухановки.
«Ну, эти друг друга стоят», — одобрительно подумал Савчук. Знакомый плясовой мотив, общее веселье захватили и его, ноги сами просились в пляс. Но Савчук подумал о неотложных делах и прошел ко второму камельку.
Там Пахом Иванович и Черенков расспрашивали хозяйского батрака о прилегающей к городу местности. Черенков у себя на коленях разложил карту, водил по ней пальцем.
— Это, что ли, архиерейская дача?.. Ну как не знаешь!
— Дачу знаю. Я по три раза на дню мимо езжу. Молоко в город вожу.
— Вот и расскажите подробнее, что там есть по дороге. Какие постройки и прочее, — предложил Савчук, подсаживаясь к ним.
Все курили крепчайший самосад. В помещении нельзя было продохнуть от дыма.
— Дурной я был, работал, пил водку, дрался с парнями из-за девок. Думать не думал, — откровенничал кто-то за спиной у Савчука.
В дверях показалась знакомая фигура члена астрахановского штаба. Утром Савчук рапортовал ему о прибытии.
— Ну, Иван Павлович, вижу: неплохо устроились!
Лицо у него сухощавое, подвижное и энергичное. Из-под очков спокойно и пытливо смотрели карие глаза. Три дня назад он был ранен в бою; правая рука висела на перевязи. Рассказывали, что мужеству и хладнокровию этого человека многие обязаны жизнью.
— Что нас в штабе беспокоит: мало знаем о противнике. До обидного мало, — говорил он минутой спустя. — Еще три-четыре дня — и мы будем в состоянии наступать. Удар должен быть сокрушительным. То есть хорошо рассчитан. А для этого...
— Для этого надо вести разведку, — сказал Савчук.
— Вот-вот. Мы понимаем друг друга с полуслова. Нужен опытный в военном отношении человек. Что, если вы лично займетесь этим? — предложил представитель штаба.
Он кашлянул и улыбнулся, отчего лицо его стало удивительно простым и симпатичным.
Савчук поискал глазами, кого взять завтра с собой.
Утро выдалось морозное. В Астрахановке топили печи; дым из труб столбами поднимался в небо. Только что взошедшее солнце окрашивало эти расплывающиеся вверху дымные столбы в золотисто-розовые тона.
Савчук, Афоничкин и Митя уже более часа брели по снежной целине под покровом морозного тумана. Глубина слега доходила почти до колен. Местами ветры сдули снег, обнажив мелкий кочкарник с космами прошлогодней сухой осоки. Зато возле кустов намело сугробы. Идти по такому снегу было трудно.
Ко времени, когда туман начал расходиться, они достигли намеченного пункта на опушке небольшого лесочка. Отсюда открывался вид на дорогу и на городскую окраину. Савчук долго рассматривал местность в бинокль, чертыхался.
Справа от них, за рощей, чуть в стороне от дороги, виднелась красная крыша архиерейской усадьбы. Там располагалась застава белых. Между рощей и усадьбой, ближе к разведчикам, стояли отдельно еще две-три избы. Казаки вряд ли выбрали их для постоя.
Это соображение и побудило Савчука двинуться в том направлении.
Тропка вывела их прямо к ближней избе. Ничто не указывало на присутствие посторонних. Из трубы мирно вился дымок. У ворот стояла тощая пегая собака и, лениво помахивая хвостом, смотрела на подходившего Савчука.
«К усадьбе идти не стоит. Расспросим жителей», — подумал Савчук, без опаски направляясь к дому.
Он был уже рядом, когда со двора, застегивая на ходу шинель, выскочил ледащий казачишко в лохматой черной папахе с желтым верхом, с закинутым за спину карабином.
— Кто такие? Что за люди? — спросил он оторопело, чуть не столкнувшись с Савчуком, и хотел схватиться за оружие. Но Савчук, соображавший быстрее, не дал ему времени.
— Ты что, холера? Не видишь, кто идет? — начальственно заорал он.
Казак завилял глазами и попятился от него. Он боялся повернуться спиной к Савчуку, чтобы не оказаться в невыгодном положении, так и отступал перед ним, пятясь задом. Лицо его сильно побледнело; на худой, тонкой шее от напряжения заметно дергался мускул. Захваченный врасплох, он вряд ли был способен на сопротивление.
«Сейчас заверну его в проулок, там и возьмем, — решил Савчук, слыша, как шедшие за ним Афоничкин и Митя прибавили шагу. — Экая, однако, ворона — этот казак! Без шуму возьмем».
Медленно наступая, Савчук прошел за перепугавшимся воякой до угла и только тут заметил, что за стеной угловой избы, хоронясь от них, стояло еще человек десять вооруженных казаков.
«Ну, влопались!» — мелькнуло у него в голове.
Но прежде чем Савчук успел на что-нибудь решиться, прежде чем казаки набросились на него, Афоничкина и Митю (а схватка была бы неравной и совершенно безнадежной), прежде чем это произошло, раздался властный командный голос:
— Отставить! Свои это.
С крыльца, придерживая шашку, сбежал вниз высокий черноусый офицер. Савчук не без удивления узнал в нем есаула Макотинского, которого он встречал однажды в канцелярии окружного Интендантского управления.
— А, екатерино-николец! Сам в гости звал, а встречает западней, — стараясь улыбнуться как можно приятнее, сказал Савчук. Кто знал, какого труда стоили ему и эта улыбка и небрежно-спокойный тон!
Ничего не подозревавший есаул дружески протянул ему руку.
— Вот черт! Думаю: захвачу «языка». Ан нет. Ну рад, очень рад, — сказал он весьма приветливо и еще раз тиснул Савчуку руку. — Какими судьбами, однако? К атаману Гамову под знамена, а?.. Еще миг, и мои казачки посчитали бы вам ребра. Могли ведь и ухлопать сгоряча.
— Н-да... — Савчук хмуро посмотрел на обступивших его дюжих казаков, кажется недовольных таким оборотом дела, и повернулся к своим растерявшимся бойцам. — Ничего, ребята, все обошлось... Знаете, мне просто повезло, что я натолкнулся на вас, — сказал он затем совершенно искренне. — Действительно могло произойти побоище.
— Вот-вот! Своя своих не познаша, — засмеялся есаул. — Вообще-то у нас разговор короткий. Допрос — и на осину.
Он отдал какое-то распоряжение; казаки разбрелись по двору. Двое побежали к архиерейской усадьбе за лошадьми.
— Вы сейчас из Астрахановки, да? Какая там обстановка? — спросил Макотинский и, прищурясь, посмотрел сперва на Митю, затем на Афоничкина. — Эти-то с вами или так... увязались?
— Со мной, со мной, — поспешно сказал Савчук.
Есаул, как видно, принял их за перебежчиков. Разубеждать его в этом было не в интересах Савчука. «Только бы хлопцы не подвели. Митя-то на меня зверем смотрит...» В голове у Савчука уже зарождался новый план. Но как согласовать его с остальными, когда даже словом нельзя перемолвиться?
— Прибыли поездом этой ночью. В деревню не заходили. Подальше, знаете, от греха. Так что дать сведения я затрудняюсь. Хотя слышал кое-что, — говорил Савчук, отвечая на вопрос есаула и наблюдая одновременно за поведением своих товарищей.
Митя упорно не глядел на него. Губы у него дрожали, как у обиженного ребенка. Афоничкин же при словах Савчука быстро поднял глаза, но тут же с деланным равнодушием перевел взгляд на офицеров, на казаков. «Ага, соображаешь, значит», — с удовлетворением подумал Савчук.
Макотинский раскрыл портсигар, предложил Савчуку папиросу, закурил сам.
— Сейчас подадут лошадей, поедем в город, — сказал он, с наслаждением вдыхая морозный воздух с табачным дымом пополам. — Вам надо определиться. У меня тоже есть дела. Люди ваши пока останутся здесь.
Полчаса спустя есаул и Савчук, сопровождаемые казаком-ординарцем, мирно беседуя, ехали по дороге в город.
Афоничкин и Митя сидели вместе с казаками в жарко натопленной избе и пили чай. Мите все случившееся казалось дурным сном. Хотя Афоничкин успел кое о чем шепнуть ему, Митя все же сильно сомневался в Савчуке. Жалел, что не поддался первому побуждению и не выпустил в него всю обойму из винтовки. «Офицер — это у них одна компания». Он хмурился, бледнел, краснел и почти не вникал в смысл разговора.
Зато его товарищ чувствовал себя как рыба в воде. Несмотря на свою молодость, Афоничкин был калач тертый, повидал людей и мог легко к ним приспосабливаться. Он резал перочинным ножом мерзлое сало, накладывал белые ломтики на ржаной, вкусно пахнущий хлеб, старательно двигал челюстями и ухитрялся в то же время без задержек выпускать изо рта слова, за которыми, видно, не лазил в карман.
— Приискатели — народ фартовый. Пофартит, так и из воды сухим выйдешь, — говорил он не столько для казаков, сколько для Мити. — А золото — песок. Протечет между пальцев, только его и видел. И ладно. Чего нам горевать? С какой стати, — продолжал он подчеркнуто небрежным тоном. — Сегодня ты в силе, а завтра в могиле. Сегодня пляшешь, а завтра плачешь. Всяко бывает. На то и жизнь.
Две смешливые хозяйские девчонки, забравшись на печку, разинув рты, глядели оттуда на него, то пугаясь то смеясь.
— Ох и девки, до чего хороши! — Афоничкин, заметив их, стрельнул озорными карими глазами. Обе головенки моментально спрятались. Послышался смех.
Казаки сдержанно улыбались.
— Вот, Митя, ехали мы с тобой, не знали, где счастья искать. А оно, оказывается, на печи лежит, — смеясь, заметил Афоничкин, потряхивая черной кудлатой головой. Его самого, признаться, начинало беспокоить очень уж мирное течение беседы. Эх, кабы знали эти бородачи, как он им арапа заправляет!
— Тут пальба поднимется, от счастья-то — мокрые брызги останутся, — словно угадав мысли Афоничкина, сказал чернявый урядник. — Послушай, Ефим! Ступай на сеновал, смени Гарусева.
Вскоре в избу, снимая сосульки с жиденьких усов, ввалился тот самый казачишко, которого Савчук чуть было не захватил в плен. Он недобро покосился на Афоничкина и сел сбоку от него за стол.
— Никого не видать? — озабоченно спросил чернявый.
— Не видать.
— Как же ты, Гарусев, этих-то просмотрел? Ну и фигура у тебя была, — хохотнул молодой казак.
— Чего фигура? Я нарочно заманивал, чтобы они по сторонам не глядели, — сказал Гарусев, стараясь представить теперь свое поведение в самом выгодном свете.
— На-роч-но. Штаны только позабыл подтянуть.
Гарусев отодвинул кружку и свирепо уставился на обидчика. Но вмешался урядник и предотвратил ссору.
— Ладно, ладно. Петухи. Одевайтесь-ка лучше. Ты и ты, — он ткнул пальцем в молодого казака; тот оделся и вышел вслед за чернявым.
«А боятся они нас. Боятся», — подметил Афоничкин и многозначительно посмотрел на Митю.
Гарусев, ни на кого не глядя, торопливо глотал чай.
— Командир у вас как, ничего? — спросил Афоничкин.
Рыжий казак, ковыряя в носу, сказал:
— Он строгий. Чуть не так, как хлобыстнет по физиономии. И жаловаться не смей.
— А архиерей богато живет?
— Кто ж его знает, — задумчиво протянул рыжий. — В горницах я не был. Не положено. А двор справный. И, видать, понимает по женской части: бабы там смазливые.
— Самого-то преосвященного здесь нет, — вставил Гарусев. — Служба у него в городе.
— Может, служба, может, нет. Но там, конечно, безопаснее, — возразил рыжий. — А тут у него под окнами поставили батарею — и давай лупить. Матросы из Астрахановки видят такое дело — и пошли крыть в свою очередь. А владыка — он только словом может: «Оборони бог», «Заступись, святая дева Мария!», «Спаси, Иисус Христос!» Смотрит — никакого действия. Ну смекнул, конечно: «Бог-то бог, да и сам не будь плох». Велит запрячь тройку коней, и только снег за ним завился.
— Эх, богохульник ты, богохульник! — сказал Гарусев и укоризненно покачал головой.
Афоничкин же от рассказа пришел в совершенный восторг. Он хлопал себя по ляжкам и все повторял:
— Значит, молитва не помогает?.. Хоть лоб разбей. Ты слышишь, Митя?
— Тут, паря, видно, все перепуталось, — наклоняясь ближе, доверительно сказал рыжий. — Молятся о ниспослании победы одни и другие. Можно сказать, на всех языках. И все это чада божьи. А кого слушать? Кому внимать? Это задача. Повернешь так — одному интересно, а другой обижается: «За что караешь, господи!» Переиначишь — первый вопит: «Отвернул ты от меня лик свой!» Глядел, глядел Саваоф: «Да ну вас, говорит, к лешему! Разбирайтесь как-нибудь сами...»
Гарусев покосился на дверь, заметил неодобрительно:
— И охота тебе трепать языком. Вот услышит его благородие.
— Пока разберемся, ребер-то поломаем, господи! Несть числа, — сказал рыжий и умолк, как-то странно посмотрев на Гарусева.
— А вы, стало быть, из Астрахановки. Что там много хохлов собралось? Уж зададим им жару, — сказал Гарусев после паузы, перестал жевать и уставился на Митю сощуренными глазками.
— Ох и много! — сказал Митя в простоте душевной; весь предыдущий разговор оказался совсем не таким, какого он ожидал от казаков, и это усыпило его подозрительность. Спохватился он, когда Афоничкин наступил ему под столом на ногу.
— Шум там такой, как на ярмарке, — поспешно вставил Афоничкин. — Мы, когда эту Астрахановку обходили, дивились даже. Галдеж, песни, будто не ночь на дворе. Я говорил: двинем прямо через село. На лбу не написано, кто мы такие. А их благородие, господин прапорщик, не согласился.
— Да уж схватили бы вас большевики — там вы чаи не стали бы вот так запросто распивать, — самодовольно сказал Гарусев и подмигнул Мите. — Старших будешь слушаться, не прогадаешь.
— Я что... Я как другие, — пробормотал Митя. Впервые за это тревожное утро широкая улыбка озарила его лицо. Уж очень занятной показалась ему сложившаяся ситуация.
Рыжий достал кисет и стал свертывать себе самокрутку. Отсыпал махорки Афоничкину.
Гарусев пододвинулся ближе и тоже протянул ладонь.
— Дай-ка и мне, станичник, на закрутку, — сказал он, глядя на кисет с каким-то ласковым умилением. Весь табак он бережно ссыпал в мятую бумажку и спрятал в карман. — Ничего. Бунтовщиков усмирим. Они, паря, скоро такое узнают, что на век зарекутся.
— А что?.. — выпустив колечками дым, равнодушно спросил Афоничкин.
— А то... Слыхали небось, как тут началось? Как мы со своими комиссарами расправились?.. Нет? Тогда слушайте. Только допреж ты мне свой окурок дай. Не бросай. Чуток горло прочищу.
Гарусев перехватил «бычок», жадно затянулся раз за разом, придерживая заглотанный табачный дым. Затем принялся рассказывать о том, как в первый день гамовского восстания хватали рабочих и тут же на улицах чинили суд и расправу. Говорил он об этих вещах со смешком, с циничной откровенностью закоренелого убийцы.
— А чего их вести в тюрьму? Один конец. Жаль, что Мухина сразу не шлепнули. Сто десятин, говорит, — это грабительство. А три аршина не хошь?..
В те дни центр мятежников находился в Кондрашевской гостинице — двухэтажном каменном здании на центральной улице. Многие из съехавшихся к этому времени в Благовещенск офицеров жили тут же в номерах или квартировали по соседству в купеческих особняках. В день восстания они извлекли из чемоданов военные мундиры, нацепили погоны, вооружились и по заранее составленному расписанию двинулись к намеченным объектам. Захватив власть в городе, они тем более почувствовали себя хозяевами положения,
В гостиницу и особенно в ресторацию при ней, помещавшуюся в этом же здании, но с отдельным входом, тянулся теперь весь буржуазный Благовещенск. Тут ложно было видеть городских воротил в богатых шубах, в бобровых дорогих шапках и их долговязых сынков в новеньких, с иголочки, шинелях, в зеленых, английского покроя френчах; сюда забредали безусые, но воинственно настроенные добровольцы-гимназисты, воспитанники духовной семинарии, «взявшие меч, чтобы утвердить слово божие»; осторожно, как пескари среди щук, кружились около обыватели, охочие до сплетен и новостей, готовые и рукоплескать и ретироваться, — смотря по обстоятельствам. Что касается господ офицеров, то они в этой атмосфере общего поклонения чувствовали себя до некоторой степени именинниками: перед ними изливали души и, главное, — открывали кошельки. Впрочем, наиболее умные из них понимали, что радоваться пока нечему.
Вот в эту Кондрашевскую гостиницу и привел Савчука есаул Макотинский. Неожиданно для себя Савчук оказался в самом средоточии контрреволюционных сил. Собираясь в разведку, он и в мыслях не имел что-либо подобного. Случайность, каких много на войне, переломала и перекорежила весь его первоначальный план. Но можно ли предусмотреть все случайности? Слишком бы просто тогда все было.
У Савчука была хладнокровная, трезвая голова, он не терялся в трудных обстоятельствах. В первые минуты, когда случай так неожиданно свел его с Макотинским, Савчуку не оставалось ничего другого, как поддержать выдвинутую самим же есаулом версию. Да, он прибыл для того, чтобы при первом же случае перейти к Гамову. К чему другому еще может стремиться офицер? Есаул и сам так думал. Ни тени сомнения не зародилось у него. Савчук же лихорадочно соображал, как половчее вывернуться из этого дурацкого положения. Затем новая дерзкая мысль зародилась у него. Да ведь такой редкий случай! Что, собственно, могло грозить ему? Натолкнуться на кого-либо из офицеров, которых он сам разоружал в Хабаровске? Случай вероятный. Но зато какие сведения можно получить! Нет, игра стоит свеч. И Савчук уже совершенно спокойно болтал по пути с есаулом о разных пустяках, зорко поглядывал в то же время по сторонам и все примечал.
Пока они ехали по предместью, город казался Савчуку вымершим. Кроме многочисленных патрулей, на улицах — ни души. Жители рабочей слободки старались не показываться на глаза своим «освободителям». Везде следы прошедших боев: изрешеченные пулями стены, разбитые окна, поваленные изгороди: в ряду домов торчали черные остовы сгоревших строений; еще не выветрился острый запах пожарища.
Бежавшие из города люди рассказывали, что в первые дни тут везде лежали трупы убитых в бою жителей. Но сейчас трупы поубирали; выпавший в последние дни снег скрыл следы крови. Лишь при повороте на главную улицу, протянувшуюся параллельно Амуру через весь город и обсаженную двумя рядами тополей, Савчук увидел повешенных. Двое были пожилыми людьми, третий — почти ребенок. Его вздернули высоко на сук, и лошадь Савчука, испуганно всхрапывая, прошла под ним. Савчук невольно пригнул голову. Только мельком взглянув наверх, он успел охватить взглядом все подробности страшной картины: посиневшее лицо мальчика, блестящие морские пуговицы его пальто, должно быть перешитого из отцовской шинели, протоптанные почти насквозь подошвы ботинок. По немногим этим приметам Савчук мог с закрытыми глазами представить себе жизнь мальчика и его семьи.
Но не это поразило его. Поразило Савчука то, что рядом на панели стояла кучка таких же подростков-мальчишек из богатых семей и хохотала, глядя на стоптанные ботинки повешенного парнишки. Двое дылд с винтовками — один в студенческой шинели, другой в гимназической форме — деловито объясняли обступившим их сосункам, как это делается, то есть как вешают людей.
Савчук скрипнул зубами, ударил каблуками коня.
— Тяжелые обязанности, очень тяжелые. Но необходима строгость, — сказал есаул, догнав вырвавшегося вперед Савчука.
На плацу, мимо которого они проезжали, выстроились две сотни казаков. Невысокий офицер в черном полушубке с серебряными погонами, придерживая за повод неспокойно стоявшего коня, держал перед ними речь. Вот он выкрикнул что-то и взмахнул рукой.
Ближайшие казаки заревели во всю мощь своих глоток:
— Ур-ра-а-а!
— Атаман Гамов, — сказал есаул, кивнув головой в сторону плаца. — Придется нам подождать. Впрочем, хорошо: пообедаем, отдохнем. Я устал от этой собачьей жизни.
Оставив лошадей ординарцу, они прошли мимо наружного часового в гостиницу. В вестибюле за столом сидел дежурный. На голове у него красовалась фуражка с желтым околышем, которая ему была мала и только чудом держалась на макушке, над чубом. Макотинскому он улыбнулся, как хорошему знакомому.
— Что, мои сожители дома? — спросил есаул, мельком взглянув на ящик с ключами. Получив утвердительный ответ, он повернулся к Савчуку. — Ступайте наверх, прапорщик. В самый конец, тринадцатый номер. А я на минуту забегу в ресторацию.
Савчук, поглядывая на таблички на дверях номеров, прошел в глубь коридора. Ноги неслышно ступали по мягкой дорожке. Постояв у окна, выходившего во двор, Савчук потоптался в нерешительности перед дверью без таблички, которая по всем предположениям вела в искомый номер. Постучался негромко. Не дождавшись ответа, но слыша за дверью голоса, он толкнул створку и вошел.
Номер был просторный и светлый. Два окна выходили на Амур; близко за окнами поднимались крыши пристанских строений, дальше можно было различить в морозной дымке китайский берег и город Сахалян. В номере стояли четыре кровати; две, видно, были поставлены здесь недавно.
На одной из кроватей сидел и курил молоденький черноволосый юнкер. Другой жилец — казачий офицер в чине войскового старшины — был вдвое старше. Его сапоги стояли возле дверей, чуть сбоку от входа; он ходил по комнате в носках и что-то рассказывал.
Савчук прервал молчание, водворившееся при его внезапном появлении.
— Я не ошибся дверью? Это тринадцатый номер?
— Надо знать, что в порядочных гостиницах тринадцатых номеров не бывает, — сказал юнкер.
Войсковой старшина очень пристально посмотрел на вошедшего; Савчук ответил таким же пристальным настороженным взглядом.
Но тут появился отставший есаул и громко сказал:
— Знакомьтесь, господа. Прапорщик Савчук.
Войсковой старшина натянул сапоги и принялся расспрашивать Савчука о положении дел в Хабаровске. Картина, нарисованная Савчуком, отнюдь не могла его порадовать.
— И никто к вам не приставал?
— Абсолютно. Два раза собака залаяла, да гусь шипел... вот и все, — ответил Савчук с тонкой усмешкой.
Войсковой старшина недоверчиво покачал головой.
— Странно, странно, — протянул он. — Впрочем, и у нас та же беспечность. Правила гражданской войны еще не написаны.
— Войны? — удивился юнкер. — Боже мой, какие громкие слова! Усмирение бунта...
— В масштабах целого государства, заметьте. А это не так просто. Не так просто, — повторил войсковой старшина. — Что не мешало бы понять и господину Гамову.
— Гамов всем показал пример. За это я его уважаю. Не смейтесь, пожалуйста, — запальчиво возразил юнкер. — Ваш скепсис удивительно неуместен.
Видимо, они продолжали ранее начатый спор.
— Ну уважайте, уважайте. А мне-то с какой стати целоваться с ним? Красная девица он, что ли? — Войсковой старшина пожал плечами и пренебрежительно фыркнул. Затем обратился к Савчуку, считая его более серьезным и достойным собеседником. — Ох уж эти болтуны-политиканы! Удивительная переоценка сил и возможностей, даже с чисто военной точки зрения. Надо было нам наступать на Астрахановку. Установить связь с областью. Проявить максимум решимости. А мы попусту теряем драгоценное время. Произносим митинговые речи перед казаками. Обучаем сосунков стрелять из винтовки, будто можно человека сделать солдатом в три дня. Чепуха!
— Вы же знаете, что наступление на Астрахановку только отложено. Необходима перегруппировка сил, — опять вмешался юнкер.
— Ну хорошо. Перетасуем заново, согласен. Пополнимся еще одним наскоро сформированным батальоном добровольцев. Так они же, сукины дети, разбегутся при первом выстреле!
— Простите. Зачем же оскорблять патриотические чувства людей, — сказал юнкер, и красные пятна показались у него на щеках. — Как вы можете...
— Могу, — сказал войсковой старшина с усмешкой. — Знаю эту публику. Да вы не смотрите на меня такими глазами: я не большевик. Я — монархист, если хотите. Но дело надо делать умеючи. В этом суть моих расхождений с господином Гамовым. Его выступление преждевременно. Слишком локально, если вам угодно знать. И слава богу, что Сахалян у нас под боком. Слава богу. — Он посмотрел в окно на дымки недалекого китайского города и повернулся к Савчуку. — А вы что думаете по этому поводу?
— Я слышал, что вас поддержали японцы? — вопросом же ответил Савчук.
— Японцы?.. О да! — войсковой старшина грустно улыбнулся. — Такеда сформировал отряд в сотню штыков. Парикмахеры и прачки оказались прекрасно обученными солдатами. Этого и следовало ожидать, если учесть опыт прошлого... Но их участие, если вам угодно знать, рассчитано больше на политический эффект.
— В самом деле? А какой же результат? — поинтересовался Савчук.
— Двоякий. Одних эта открытая поддержка японцев ободрила. Если хотите, подтолкнула к выступлению. Других, я бы сказал, обескуражила. Да, — продолжал войсковой старшина очень серьезно, — нельзя не задуматься над тем, ради чего они полезли в свалку. Ведь мы недавно уже столкнулись с ними на поле брани. Не хотят ли японцы вновь воспользоваться ослаблением России в собственных интересах?
— Да уж наверно, — сказал Савчук.
— И вот что симптоматично, — продолжал войсковой старшина — Наш серятина-казак нашел способ высказаться по поводу участия союзников. Два дня назад повели мы совместно с ними наступление от вокзала к Астрахановке. Японцы вырвались вперед. Но гут их накрыла снарядами наша собственная артиллерия. Сразу ухлопали двоих, нескольких ранили — и они побежали назад, под укрытие.
— Это результат плохой взаимосвязи. Дело расследовалось, — возразил юнкер.
— Гм... Не думаю, — возразил войсковой старшина и в сомнении покачал головой. — Казак — продувная бестия. Схитрит... и сам руками разведет. Промашка...
«Ага. Значит, не все у вас гладко», — подумал Савчук с удовлетворением.
В эту минуту вновь появился есаул Макотинский.
— Пойдемте представиться начальству, прапорщик, — сказал он, считая долгом опекать Савчука.
Канцелярия штаба помещалась в так называемых парадных номерах гостиницы. В коридорчике их встретил дежурный офицер с хмурым, озабоченным лицом. Два хрустящих желтых ремня крест-накрест, маленький пистолет в желтой кобуре, в тон ремням, походили на сбрую, в которую его запрягли и пустили тянуть лямку.
— Прошу предъявить документы.
— Какие документы! Человек сегодня из рук большевиков вырвался, — вмешался есаул, видя некоторое замешательство Савчука.
Представительный усатый полковник заканчивал разговор с каким-то нескладным, высокого роста штатским. Тот стоял сбоку стола, почтительно наклонив голову. Скосив глаза, он внимательно посмотрел на Савчука.
Лицо у него самое обыкновенное: слегка приплюснутый нос, невысокий лоб, рыжеватые усики, водянистые глаза. Он был очень худ; мятый серый пиджак висел на нем, как на спинке стула.
— Так я надеюсь на вас. Будьте здоровы! — и полковник повернулся к Савчуку. — Это вы прибыли из Астрахановки?
— Из Хабаровска, — поправил Савчук.
Он стоял навытяжку и ел глазами начальство. Пожалуй, он несколько переборщил в своем старании.
— Прапорщик?
— Так точно.
— Прапорщик военного времени? Из вольноопределяющихся?
— По производству... за храбрость. Четыре Георгия.
— А-а! Ну рассказывайте, — полковник откинулся на спинку стула и еще раз окинул Савчука взглядом. Затем он обрушил на него град неожиданных вопросов.
— Н-да... Не наблюдательны вы, прапорщик, — сказал он тоном строгого выговора. И тут же стремительно поднялся из-за стола.
Савчук сделал пол-оборота налево и увидел шедшего от дверей невысокого офицера с черными усиками. Остриженные под ежик волосы придавали ему немного мальчишеский вид. На нем были мундир, широкие штаны с желтыми лампасами и высокие сапоги с маленькими шпорами.
— Запишите в завтрашний приказ, полковник, — начал он немного охрипшим голосом, не взглянув даже на Савчука. И стал диктовать свои замечания, связанные с сегодняшним объездом частей.
«Что за тип? Неужели Гамов?» — подумал Савчук. Он слушал, стараясь ничем не выдать своего интереса.
На какое-то время Гамов замолчал, и до Савчука донеслось тиканье карманных часов, лежавших на столе у полковника. Слух его был обострен до крайности.
— Да, особо выразить мою благодарность командиру вспомогательного японского отряда. За образцовое несение караульной службы, — сказал Гамов и в первый раз посмотрел на Савчука. Наморщил лоб, что-то вспоминая. Из-под нахмуренных бровей он метнул еще один взгляд и пошел к двери.
Полковник крякнул, покрутил усы, опять уставился подозрительно на Савчука. Он задал еще несколько вопросов. Савчук с простодушным видом объяснил, что он не имел времени интересоваться такими вещами, так как спешил и боялся оказаться задержанным.
Выражение лица полковника ясно показывало, что объяснение Савчука не удовлетворяло его.
— Вы где остановились, прапорщик?.. За назначением зайдите дня через два.
В номере, куда вернулся Савчук, стало тесно и шумно. Кроме постоянных жильцов, пришли еще пять-шесть офицеров, среди них — щеголеватый казачий сотник в черкеске с нашитыми газырями, с кинжалом у пояса и тонкой талией и два капитана-антипода: один непомерно худой, с надменным выражением лица, другой невообразимо толстый, с абсолютно лысой головой, лоснящимися щеками, шумный и болтливый.
На столе стояли графины с водкой, бутылки с коньяком, открытые банки со шпротами, тарелки с паюсной икрой, селедочка с гарниром.
Савчук присел на краешек кровати. Макотинский подал ему стакан водки.
— Ну, определились? — спросил он участливо.
Савчук неопределенно пожал плечами.
— Миловидная женщина, господа, — рассказывал тем временем сотник, слегка грассируя и рисуясь, — Миндалевидные глаза. Рот только для поцелуев и создан. Красивый высокий бюст. Бюст, господа! — и он сделал округлое движение рукой и улыбнулся своей жесткой циничной улыбкой. — Сама, шельма, стройна. Грация.
Савчук чувствовал себя отвратительно. Когда на фронте его произвели в прапорщики, он не раз в офицерской среде ощущал такой же точно холодок. Существовала неуловимая грань, которой эти люди умели отделить себя от других.
— И что же вы тогда предприняли? — блестя глазами, щеками и лысиной, спросил толстый капитан.
— Позвал урядника. Эта дамочка, говорю, офицером брезгует. Может, казаки ей больше подойдут. Отдаю всему взводу. Вот так, господа, была наказана строптивость.
Сотник рассказывал об этом без всякой неловкости и стеснения, как о деле самом заурядном.
Толстый капитан скрипнул стулом, протянул разочарованно:
— Лично вы спасовали, значит. Жа-аль... — Опустив глаза на стопку с коньяком, он взял ее пухлыми пальцами и медленно поднял до уровня глаз. — Поехали, господа! — и вылил коньяк себе в рот. Взгляд у него немного осоловел.
— А знаете, какую шутку н-надумали в штабе, — продолжал он, выловив после некоторых усилий из банки шпротину и сочно жуя. — Хи-хи! Если красные станут напирать, наша батарея запустит десяток снарядов в Сахалян. Под марку большевиков. Ну, китайцы заявят протест... начнется конфликт между ними и красными. Не дурно, а?
При этих словах Савчук быстро покосился на него: капитан медленно стал соображать, что сболтнул лишнее.
Заговорили о красных в Астрахановке, о предстоящих боях. Глаза подгулявших офицеров озлобились.
«Хотят войны — ну, будет им война, черт их побери!» — думал Савчук.
Солнце, заканчивая свой путь, заглянуло в окна; навстречу его лучам от стола синеватыми космами плыл табачный дым.
Толстый капитан с трудом оторвался от стула, неверным движением повернулся кругом, побрел к двери; было видно, что он основательно накачался и вряд ли годен на что-нибудь, пока не проспится.
— А заметили вы, как войсковой старшина брюзжит? Обошли его при распределении постов, — сказал с усмешкой Макотинский, когда они с Савчуком двинулись по вечерним улицам в обратный путь.
За двойными рамами изредка мерцали желтые огоньки, большинство окон было наглухо завешено или закрыто ставнями. Жители прятали свою жизнь от улицы, на которой хозяйничали гамовцы.
На перекрестке — три странные неподвижные фигуры в тулупах и непривычного покроя меховых шапках. В свете уличного фонаря блеснули широкие штыки.
Савчук повернул голову и со смешанным чувством ненависти и острого любопытства поглядел на них. Это были японские солдаты-резервисты; первые, которых он увидел на своей родной земле.
Как и предполагала Настя, Зотов пережил несколько неприятных минут. Лисанчанского и Суматохина в доме уже не было; они быстро собрались и куда-то ушли. Судаков дремал на диване. Зотов хотел разбудить его, но потом махнул рукой и пошел в библиотеку. Здесь он и сидел, не зажигая света, затаившись, как мышь. Наконец пришел камердинер и сообщил, что матрос покинул дом.
— Ушел? Ну, слава богу! — Рука хозяина заученным жестом потянулась ко лбу, коснулась живота и задержалась на полдороге к плечу. — Может, он за патрулем отправился?
— Непохоже, ваше степенство. Он мирный, — прошамкал слуга. — Прикажете свет в библиотеке зажечь?
— Не надо. Ступай. — Зотов выпроводил старика и подошел к окну.
Прохожие изредка появлялись в свете фонаря у ворот и тут же пропадали в темноте.
Мучительно долгими показались Зотову эти минуты ожидания.
Но вот неподалеку загремели выстрелы, будто там, за окнами, кто-то рвал полотно. В доме захлопали двери.
«Началось!» — подумал Зотов с радостью и страхом. Стоя сбоку у окна, он часто и мелко крестился.
Когда мимо особняка прошла сотня казаков, Зотов вдруг заторопился, схватил винчестер и тоже выбежал на улицу.
Стрельба удалялась к окраинам. В центре города казаки-гамовцы охотились за одиночками красногвардейцами.
Зотов, нацепив белую повязку, примкнул к отряду гражданской милиции. Пыхтя и отдуваясь, он бегал вслед за сынками своих компаньонов, палил куда-то из винчестера и чувствовал себя героем.
Недалеко от особняка они насмерть забили прикладами пожилого рабочего. Зотов первым ударил его сзади, а потом с остервенением пинал упавшего человека короткими ногами.
— Кончилась ваша власть. Кон-чи-лась... — фальцетом выкрикивал он, распаляя себя и других.
Жажда крови влекла его дальше.
— Господа, там матроса схватили! — сообщил пробегавший мимо человек с белой повязкой.
— Ага, матро-ос... — зарычал Зотов. — Ребята, дадим и ему отведать красной юшки!
В конце переулка группа людей образовала круг под уличным фонарем. Зотов прибавил шагу, а затем, подстегиваемый мстительным чувством, затрусил рысцой.
Шумно дыша, Зотов выбежал на перекресток. И в это время там, где столпились казаки и милиционеры, полыхнуло пламя.
У Зотова ноги сразу приросли к земле. Скрежет осколков над головой и звон посыпавшихся из окон стекол в один миг отрезвили его.
Фонарь погасило взрывом. Стараясь не смотреть на то, что осталось внизу, Зотов повернул обратно.
— Господи, благодарю, что оборонил, — шептал он застывшими губами.
Весь его пыл пропал бесследно.
Утро и большую часть следующего дня он просидел дома, с тревогой прислушивался к звукам боя, отодвинувшегося к этому времени в район затона.
Многие соседи Зотова эвакуировались в Сахалян. Туда же отправилась его супруга, захватив добрую половину своего гардероба.
Когда канонерская лодка «Орочанин» из Астрахановки открыла огонь по городу, по местам скопления казаков и белой милиции, Зотов тоже поддался панике.
— Запрягайте лошадей! Пакуйте чемоданы... живо, живо! — кричал он, бегая по комнатам, не зная толком, что брать с собой, теряясь среди массы вещей.
В разгар сборов вернулся Лисанчанский. Он с усмешкой посмотрел на суетящегося без толку хозяина и сообщил, что красногвардейцев вытеснили из района мастерских на остров затона. Оттуда они переходят на противоположный берег Зеи. Другие отряды рабочих отступили к речке Чигири.
— Ну, обрадовали вы меня, Станислав Генрихович. Слава тебе, господи! — Зотов захлопнул крышку чемодана и сел на него. — Не знаете, пароходы там не повредили? Что-то дым большой, — озабоченно сказал он.
— Ерунда. Халупы горят. Пожалуй, я перекушу немного да лягу спать. — Лисанчанский потянулся, захрустел пальцами.
В соборе служили благодарственный молебен. Высокие стрельчатые окна были бледно озарены мерцающим светом, доносился торжественный хор.
Священник в шитой золотом ризе говорил о христолюбивом воинстве и мирянах, во славу божью взявших оружие.
Зотов в распахнутой тяжелой шубе стоял впереди и со слезами умиления внимал проповеди.
Честолюбивые мысли плыли одна за другой, как ладанный дым из кадильниц.
Снова грянули колокола.
Бомм! Бомм! — Старались звонари благовещенских церквей: тугой медный звон висел над городом, покрывая звуки далекой стрельбы.
Из собора Иван Артамонович возвращался полный новых планов и забот.
Сам себе он казался фигурой очень значительной.
Атаман Гамов, обедая у Зотова, обещал в скором времени послать на прииски казачьи отряды для наведения порядка. Приглашенных было немного, и разговор носил конфиденциальный характер.
Все было как в доброе старое время. Подкрахмаленные скатерти, серебро, хрусталь... Вина и коньяки. Шампанское.
Посреди стола на длинном блюде красовался аппетитно зажаренный, подрумяненный поросенок, искусно обложенный со всех сторон свежей зеленью из собственной теплицы.
— Немцы у стен Петрограда. Боже мой, — говорил затянутый ремнями адъютант и сердито сопел. — Демобилизовали русскую армию, разогнали ее костяк — офицерство; теперь пожинают плоды своей безумной политики. Возможно, господа, что именно здесь, у нас, начинается движение за возрождение России.
— Вы скажите, много у вас арестованных? Где их содержите? — прервал его рассуждения управляющий отделением Сибирского банка.
— Пятьсот тридцать солдат заперты в реальном училище. Несколько сот человек в тюрьме. Мухин с помощниками тоже там, — весьма предупредительно ответил адъютант.
— Что вы намерены с ними делать?
Гамов управился с порцией поросенка, потрогал молодцевато черные усики, сказал:
— Рассортируем... — и жестко усмехнулся.
— Уж будьте добры, господин атаман, уймите смутьянов. Повесьте их, что ли, — воскликнул Зотов.
— Господа, я все сделаю для восстановления порядка и законности.
Разговор велся под звуки недалекой канонады: шла артиллерийская дуэль между казачьей батареей и красной канонеркой «Орочанин». К пушечной пальбе в Благовещенске попривыкли и уже не пугались, как в первые дни.
— Я отклонил попытку красных вступить в переговоры. Мое требование одно: безоговорочная капитуляция. Я не страшусь призрачных сил Астрахановки, — заговорил вдруг Гамов, и было непонятно: хотел он уверить в этом других или же самого себя.
— А я думал к жене в Сахалян перебраться, пока тут идут бои, — признался Зотов.
— Милейший Иван Артамонович, в этом нет необходимости.
К концу обеда вернулся Судаков, оживленный, посвежевший. Он хлопотал об общественной поддержке вновь образовавшемуся правительству.
— Господа, я счастлив, что во главе пас стал человек, которому близки и дороги идеалы демократии, идеалы социализма, — воскликнул он, когда хозяин представил его почетному гостю.
Гамов, не вставая, чуть наклонил голову.
К одиннадцатому марта — на исходе первой недели мятежа — в Астрахановке сосредоточилось более семи тысяч красных бойцов. Пополнения прибывали непрерывно. По всем дорогам Амурской области тянулись сюда вооруженные отряды Красной гвардии и отдельные группы демобилизованных солдат. Прислали свои боевые батальоны рабочие Хабаровска, Владивостока, Никольск-Уссурийска, Свободного. Из Приморья прибыл эшелон с артиллерией.
В Астрахановке не было двора, где не стояли бы на постое красногвардейцы. Бойцы посменно спали в избах, а остальное время проводили во дворах, греясь у костров. Из уст в уста передавались последние новости. Происходили самые неожиданные встречи.
Вспоминали бои в Карпатах, восстание минеров во Владивостоке, каторжные тюрьмы Забайкалья. Говорили о тех, кому не суждено было дожить до победы революции. Находились люди, которые лично знали соратников В. И. Ленина, организаторов читинского вооруженного восстания в 1906 году Ивана Васильевича Бабушкина и Виктора Константиновича Курнатовского.
Митя и Афоничкин затаив дыхание слушали рассказ об этих славных революционерах. Вот где настоящая жизнь! Вот геройство...
Благополучно выбравшись из переделки, оба считали свою роль в разведке до обидного незначительной. Хвалиться было нечем. Другое дело — Иван Павлович. Савчук сразу вырос в Митиных глазах. За ним он пошел бы сейчас хоть в пекло.
Их приключение окончилось весьма обыденно. Они так и просидели дотемна в избе с казаками. Даже распили вместе бутылку водки, после чего Афоничкин начал врать столь беззастенчиво, что Митя в свою очередь несколько раз наступал ему на ногу. Казаки похохатывали, отдавая должное его ловко привешенному языку. Состязаться в таких вещах с Афоничкиным безнадежно.
Вечером вернулись есаул и Иван Павлович. Для Савчука запрягли пару коней с архиерейской дачи, попутно доложили в сани несколько мешков с кружками замороженного молока. В город их сопровождал Гарусев — тот самый плюгавый казак, из-за которого начались все злоключения. Доставив Савчука и его людей, Гарусев должен был завезти молоко на подворье к архиерею и там заночевать.
Заметно повеселев, он бодро покрикивал на лошадей:
— Но, каурые! Но!..
Савчук, отъехав с полверсты, хладнокровно взял вожжи и свернул на другую, чуть черневшую в ночи дорогу.
— Ваше благородие, не сюда, — сказал Гарусев, хватаясь за вожжи.
— Цыц! Помалкивай. — Иван Павлович показал возчику дуло нагана.
Афоничкин в два счета обезоружил Гарусева.
После этого в полном молчании, прерываемом лишь неудержимой икотой Гарусева, они еще добрый час крутились среди перелесков, пока из-за кустов не донесся грозный окрик:
— Сто-ой! Кто идет?..
Если кто теперь спрашивал о подробностях пребывания у гамовцев, Афоничкин, посмеиваясь, говорил:
— Ничего особенного. Ездили к архиерею за молоком.
Небо с утра было низким и хмурым. Медленно, большими хлопьями падал мокрый снег. К полудню, однако, метель прекратилась, и затем небо очистилось от туч.
Над городом тревожными багровыми красками пылал закат.
Савчук возвращался с совещания командного состава, на котором обсуждался план предстоящей операции.
Все понимали, что дольше оставлять Благовещенск в руках гамовцев нельзя: каждый день от руки палачей гибли товарищи. Страшная угроза нависла над теми, кто находился в тюрьме.
В распоряжении Астрахановского штаба к этому времени находились двадцать три роты, морской отряд, четырехорудийная конная батарея, две пушки, установленные моряками на железнодорожных платформах, и морские орудия «Орочанина», артиллеристы которого уже зарекомендовали себя в боях.
Гамовцы не ожидали такого быстрого сосредоточения сил. Зачинщики мятежа полагали, что фактор времени будет на их стороне. Они рассчитывали на общую растерянность.
Губельман — представитель областного комитета — после совещания задержал Савчука и стал расспрашивать о настроении офицеров в Благовещенске. Он жадно впитывал все, что могло оказаться полезным и нужным.
— Да, снаряды к батарее доставили? Надо, чтобы был полный комплект, — сказал он, прерывая разговор с Савчуком.
Вперед выступил молодцеватый парень в кавалерийском коротком полушубке и черной папахе с красной лентой. Красный бант красовался у него и на груди.
— Разрешите, я проверю, — предложил он, выбежал на улицу, и мгновение спустя послышался быстро удаляющийся конский топот.
А Губельман опять повернулся к Савчуку.
— Постойте. Что-то мне говорили... очень важное. Что там они затевают против китайцев? — вспомнил он.
Иван Павлович рассказал о плане артиллерийского обстрела казаками Сахаляна.
— Ах, подлецы! Возмутительная провокация... Сейчас же надо отправить наших представителей в Сахалян, — сказал Губельман. — Советская Россия — единственная страна, которая протягивает руку помощи угнетенным нациям. И вот нас хотят опорочить в глазах соседнего, дружественного народа. Нет, какая мерзость, — продолжал он возмущаться, ища в то же время глазами, кого бы послать с такой серьезной миссией.
Во дворе Савчука догнал Логунов.
— Ба! Ты здесь? Как я рад тебя видеть, — сказал Иван Павлович, с чувством пожимая руку Логунова. — Побывал в бою? — спросил он, заметив, что у матроса из-под шапки выглядывает край загрязнившегося бинта.
— Царапина, — отмахнулся Логунов и стал рассказывать, как он ускакал из охваченного мятежом Благовещенска.
За эти дни Логунов был и комендором и пулеметчиком, в тесных дворах Забурхановки ходил в штыковые атаки, а сейчас командовал штурмовым отрядом моряков.
Пули косили товарищей, но Логунов, охваченный гневом и ненавистью к врагу, пренебрегал опасностью. Однажды пуля задела и его, чиркнула повыше уха по кости, оставив добрую заметину. Его наскоро забинтовал кок с «Орочанина», и, лежа рядом в снегу, они продолжали ловить казаков на мушку. Вечером фельдшер обработал рану йодом — на том лечение и кончилось.
Рана побаливала, но Логунов ни за что не признался бы в этом.
Шагая рядом с Савчуком, чуть морщась, когда боль начинала отдавать в ухо, он спешил согласовать с Иваном Павловичем свои будущие действия. В наступлении им предстояло быть соседями.
В казарме моряков теснота. Амурцы приютили у себя красногвардейцев-железнодорожников. Весть о скором наступлении уже облетела всех. Кто проверял подсумок с патронами, кто чистил оружие.
— Последняя новость, Федор: во Владивостоке арестовали Циммермана, Свидерского, Синкевича — членов биржевого комитета. На квартирах взяли. Видать, тоже подняли голову, — сказал моряк в тельняшке.
Он чинил бушлат, распоротый недавно вражеским штыком; не переставая орудовать иглой, подвинулся немного, освобождая место для пришедших.
Командир взвода железнодорожников — молодой белолицый парень, бывший телеграфист — допрашивал задержанного.
Худой человек в коротком пальто назвал себя агентом-закупщиком, возвращающимся из области в город. Документы кооператора оказались в порядке.
— Я же не знал. Господи! Всегда через Астрахановку ходим. К ночи рассчитывал быть дома, — вяло оправдывался он, скользя равнодушным взглядом по лицам.
— А почему вы интересовались сроком наступления?
— Да чтобы вслед за вами идти без опаски. Голову терять мне, чай, тоже не хочется.
— Я вас все же не отпущу до утра, — сказал взводный. — Что с вами? — тут же спросил он, заметив, как задержанный вдруг изменился в лице.
Тот увидел Савчука, его насмешливую улыбку. От неожиданности он не мог вымолвить ни слова, только уставился на Ивана Павловича испуганным взглядом.
Два дня тому назад они встречались в Кондрашевской гостинице, у полковника из штаба атамана Гамова.
— Ну не зря я зашел к тебе. Не зря, — сказал Савчук, когда матросы с посуровевшими лицами окружили и увели разоблаченного шпиона.
Около шести утра, в предутреннем тумане, красногвардейские цепи повели наступление на город. Орудия «Орочанина» и конной батареи вели беглый огонь по расположению противника. Вскоре вступила в дело и артиллерия казаков. Били они по Астрахановке, почти опустевшей к этому времени, и по городской бойне.
С рассветом почти на всех направлениях красногвардейцы ворвались на улицы Благовещенска. Мятежники оказались вынужденными рассредоточить своп силы, но повсюду оказывали упорное сопротивление.
Батальон Савчука и отряд моряков ворвались в расположение вокзала, но вынуждены были залечь под огнем пулеметов. У мятежников была связь с батареей. Минут через пять-семь снаряды начали ложиться прямо среди красногвардейских цепей. Была разбита кирпичная казарма возле переезда, с чердака которой Савчук только что рассматривал местность. Осколком кирпича задело Супрунова; докладывая комбату о замеченном со стороны города движении крупного отряда казаков, он пальцами стирал со щеки кровь.
— Поди к санитару. Перевяжись, — распорядился Савчук.
Подоспевшее подкрепление мятежников с ходу атаковало батальон. Ивану Павловичу показалось, что среди казаков мелькнула поджарая фигура есаула Макотинского. Но ему некогда было следить за ним: батальон попал в трудное положение.
— По бандита-ам... пачками, ого-онь!
Из ближних улочек на пустырь выплеснулось сотни две казаков вперемежку с юнкерами и японскими резидентами.
— Банза-ай!..
Афоничкин привстал на колено, щелкал затвором. Казаки и японцы, не пройдя и половины расстояния до железнодорожной насыпи, стали падать один за другим, смешались и побежали назад. Пулемет Игнатова бил им во фланг из-за штабеля шпал на той стороне пути. Когда он только успел туда перебраться?
— За мно-ой! — Савчук, не теряя времени, ринулся вперед.
На плечах у противника красногвардейцы ворвались в прилегающие к вокзалу улицы.
— Теперь будем гнать их дальше. Остальных моряки выкурят, — сказал возбужденный боем Савчук. — Ну что, Митя, страшны японцы?
Митя, еще трудно дыша от бега, улыбался.
— Ерунда. У меня винтовка в руках.
Во дворе на шинели лежал принесенный расчетом пулеметчик Игнатов. Красивый, строгий, он широко открытыми глазами глядел в небо. Вражья пуля пробила ему навылет голову.
— Когда убили? — спросил помрачневший Савчук.
— Еще до казачьей атаки.
— Кто за пулеметом был?
— Товарищ Ван. Он сейчас у нас за первого номера, — доложил подносчик патронов.
Китаец стоял рядом, горестно опустив голову, глядел на убитого друга.
— Ладно. Двигайтесь вот этой стороной, — Савчук показал направление. — Я вас сейчас догоню.
Он взглянул еще раз на мертвого Прохора Денисовича, подумал о его больной жене, детишках, стиснул зубы и пошел со двора.
Дольше всех держалась группа офицеров, запершихся в каменном здании в конце перрона. Они отвергли предложение сдаться и стреляли в каждого, кто пытался приблизиться. Под огнем несколько отчаянных моряков все же пробрались к дверям и залегли у каменного крыльца. Но дальше дело застопорилось.
— Осы в гнезде: пусть там и остаются! — сказал Логунов.
Прижимаясь вплотную к стене, он продвинулся до уровня окна и одну за другой бросил через плечо две гранаты. Внутри помещения ахнул взрыв. Послышались крики. Второй взрыв. И сразу тишина. Стало слышно, как с другой стороны дома застучали по двери прикладами.
Логунов, немного оглушенный близким взрывом, помотал головой, как ныряльщик, когда ему в уши наберется вода, и тоже побежал вокруг здания, ища ближайший вход в него.
В середине дня наступающие заняли реальное училище и освободили запертых там солдат. Они тоже взялись за оружие, подбирая его тут же на улицах и дворах. Вышли на свободу Мухин и другие комиссары, томившиеся в тюрьме. Освобожденные делегаты областного крестьянского съезда с удивлением и радостью узнавали среди штурмовавших тюрьму красногвардейцев своих сынов и односельчан.
Упорные бои продолжались и на Амурской улице, вдоль которой, очищая дворы от противника, продвигался поредевший батальон Савчука.
Митя, идя вслед за комбатом, заметил, как из верхнего окна соседнего особняка высунулось дуло ружья. Прежде чем раздался выстрел, он кинулся вперед и своим телом заслонил Савчука.
— Что с тобой, ранен? — Савчук нагнулся над ним.
Парень был мертв. Иван Павлович на руках вынес его тело из зоны обстрела.
— Да-а, — сказал с жалостью подошедший Черенков. — Обидно помирать в молодых годах.
— Жаль парня!
Савчук стал распоряжаться штурмом особняка.
— Чей это дом? — спросил он.
— Зотова Ивана Артамоновича. Он и брательника моего сгубил. Вот ведь как получилось. — У старика Крученых по щеке катилась слеза. Он тяжелым ненавидящим взглядом посмотрел на особняк, спросил: — Из которого окна стреляли?..
Наступление красных явилось для Зотова полной неожиданностью. Накануне была пирушка и затянулась до поздней ночи. Никто и намека не делал на возможность подобного поворота событий. Иван Артамонович был не дурак выпить и хлебнул как следует.
На заре его едва разбудили, хотя стекла дрожали от близкой стрельбы. Вряд ли в городе был еще один человек, который спал так же спокойно и безмятежно.
Охваченный тревогой, Иван Артамонович бегал по комнатам особняка, не зная, на что решиться. Жадность, боязнь потерять вещи приковали его здесь. Он рассчитывал, правда, что в крайнем случае Лисанчанский предупредит его об опасности.
А капитан 2-го ранга, хмурый и озабоченный, шагал по опустевшей улице к штабу. В глаза бросалось множество японских флагов, вывешенных на домах.
Недалеко от Кондрашевской гостиницы прямо на виду у всех юнкера избивали каких-то людей в штатском.
— Послушайте, вы, олухи! — сказал Лисанчанский, уничтожающе поглядев на развоевавшихся юнцов. — Надо же соблюдать приличие, — и повернулся к арестованным: — За что задержаны?
— Господин офицер, я случайно проходил. Меня толкнули, стали бить, — пожаловался человек, похожий на приказчика.
— Отойдите в сторону. Вы?..
Лисанчанский отпустил еще человек трех. Остальные были по виду рабочими. Он прекратил дальнейший опрос.
— Господин офицер, зазря взяли! Вот крест святой...
— За что людей терзаете?
— Сами виноваты, — строго сказал Лисанчанский.
— Без вины виноватые, — возразил пожилой рабочий, хмуро посмотрев на офицера.
— Ну-ну, знаем... В городе осадное положение. Отведите их, — Лисанчанский махнул рукой, и юнкера, подталкивая рабочих прикладами, погнали их через площадь к длинному каменному забору. Через минуту раздался недружный залп.
В штабе суматоха и растерянность. Спешно упаковывали дела, жгли какие-то бумаги. У коновязи стояли оседланные кони, прядали ушами, когда близко рвался снаряд.
Гамов, громко топая сапогами, метался взад-вперед по комнате. Он отдавал распоряжения и тут же отменял их. Что теперь можно сделать, атаман сам не знал.
Полковник, у которого побывал Савчук, внешне держался спокойнее. Увидев Лисанчанского, он кисло улыбнулся.
— Кажется, это конец. Будем думать об эвакуации, — сказал он, нервно барабаня пальцами по столу. — Хотел поручить вам ликвидировать тюрьму. Но поздно — не доберетесь. Берите конвой, — продолжал полковник. — В государственном банке тридцать семь пудов золота — доставите в Сахалян. Лично будете сопровождать.
К тому времени, когда Зотов потерял надежду дождаться Лисанчанского, район оказался отрезанным.
Грохот стрельбы то стихал, то вновь усиливался, приближаясь к особняку. Два-три стекла были разбиты шальными пулями.
Сотник Суматохин с десятком офицеров и несколькими казаками готовил особняк к обороне.
— Ничего, Иван Артамонович. До ночи посидим за этими стенами. Их пушкой не прошибить. А там — уйдем, — утешал он сразу скисшего хозяина.
Безвыходность положения придала Зотову храбрости. Он взял винчестер и тоже стал на пост возле углового окна библиотеки.
Со злобой и остервенением он стрелял в каждого, кто появлялся в поле зрения.
— А-а, за моим добром... На, получай!
Вдруг клуб дыма поднялся вдали над крышами. Вспыхнул дом духовного ведомства.
Зотов выглянул в окно и чуть дольше помаячил в нем. Тут и вошла ему между глаз меткая пуля охотника-таежника.
Некоторое время спустя в библиотеку заглянул прихрамывающий сотник Суматохин. Глянул в окно, прикинул зону обстрела.
— Ага. Вот сюда и поставим пулемет, — сказал он, и мертвого хозяина бесцеремонно сбросили на пол.
...Настя все это время находилась внизу, на кухне, вход в которую охраняли два казака.
— Дяденьки, отпустите меня. Мне-то зачем погибать? — спросила она.
— Нельзя. Разболтаешь, сколько нас. Мало ли что.
Кутаясь в шубку, Настя поглубже втиснулась в угол между печью и капитальной стеной. Первый страх у нее прошел, и она теперь размышляла над своим положением.
Казаки хоронились от пуль за простенками, стреляли редко. Но сверху, из окон второго этажа, палили беспрестанно.
Красногвардейцы несколько раз пытались проникнуть в дом. Как поняла Настя, эти попытки стоили жертв.
«Вот погибают люди... из-за иродов», — думала она. Все в ней бурно протестовало против того, что делали Зотов и Суматохин. Она не знала, что хозяина уже не было в живых.
— Гляди-ка, чего-то они соображают, — выглянув в окно, сообщил казак помоложе.
Второй чертыхнулся и зарядил винтовку новой обоймой.
— Как бы не подожгли, — озабоченно сказал он. — Надо патронов еще принести, — и ушел, наказав первому следить за двором.
«Да, да... поджечь гнездо. Пусть горит! Пусть...» — Мысли Насти сразу приняли определенное направление. Она быстро оглядела помещение и незаметным движением схватила с полки коробок спичек.
— Послушай, барышня, водочки тут нет? — просительно улыбаясь, сказал оставшийся казак.
— Водки?.. Ах, да, да. В той комнате, в буфете, — быстро сказала Настя.
Едва казак скрылся, как Настя метнулась в противоположный угол, в мгновение ока отвинтила крышку полутораведерного бидона с керосином. Опрокинув посудину, она проследила, как керосин потек через кухню, спокойно перешагнула лужу и сняла с двери засов.
Обернувшись, она увидела настороженные, злые глаза казака, наблюдавшего за ней.
— Ты куда... бежать? От пули не уйдешь.
Настя, не отводя взгляда, машинально чиркнула спичкой. Спичка сломалась. Она ощупью достала другую, зажгла и бросила на пол. Сразу огненная стена выросла между ними. Настя закрыла руками лицо и выбежала во двор.
Рев, треск, гул пламени, вихри багрово-черного дыма, пепел, уносимый ветром, — вот чем в конце концов обернулось зотовское стяжательство.
К ночи стрельба почти затихла. Большая часть казаков и офицеров бежала через Амур за границу. Красногвардейцы помогали тушить пожары. Вылавливали разбежавшихся гамовцев и уголовников, выпущенных ими из тюрьмы. В городе устанавливался твердый революционный порядок.
Лишь анархисты буянили в одном из брошенных особняков. Горланили песни, бранились; шум разносился на два квартала.
Случай снова свел Савчука с Петровым.
— Эге-ей, братцы, гуляй! Свое пьем, завоеванное...
— Грабленое пьете! — жестко сказал Савчук, появляясь внезапно среди пирующих. — А ну, хлопцы, бей посуду!
Десять прикладов, одновременно пущенных в ход, в мгновение ока превратили ящики с напитками в месиво из щепы, осколков стекла и растекающейся по паркету бурой жидкости. В помещении остро запахло спиртом.
— Ма-ать честная, добра-то пропадает! — сожалеющее ахнул кто-то.
Теперь все анархисты вскочили на ноги. Стояли друг против друга двумя враждебными стенами.
Петров до сих пор сидел в стороне, делая вид, что не замечает Савчука. Сейчас он поднялся, медленно прошел через комнату и некоторое время молча сверлил Савчука глазами.
— Ну, Иван Павлович. Это тебе не пройдет. Терпение у меня кончилось, — просипел он, задыхаясь от ярости, и потянулся рукой к пистолету.
— Обезоружить! — не поворачивая головы, коротко бросил Савчук.
Кто-то из бойцов, опередив Петрова, рванул за кобуру, ремень портупеи лопнул. Петров пошатнулся и лапнул рукой уже по пустому месту. Должно быть, это отрезвило его. Он постоял еще секунду-другую в угрожающей позе, затем, не зная, что предпринять, переступил с ноги на ногу.
— Чтобы больше не безобразничали. Иначе в трибунал, — веско сказал Савчук.
Лицо Петрова исказилось. Злобно ощерясь, он закричал:
— Так ты спишь с моей женой, а меня хочешь с пути убрать, — и рванул на себе ворот. — Стреляй! Вот моя грудь!
— Дура-ак! — сказал Савчук, повернулся и пошел прочь.
Здание почтово-телеграфной конторы охранял отряд моряков. Часовой мерял шагами площадку перед главным входом.
Часть матросов разместилась в глубоких оконных нишах, дремала. Другие пытались разобраться в путанице проводов и смонтировать из уцелевших частей хотя бы один исправный аппарат.
Им помогал молодой телеграфист.
Мухин, зайдя на телеграф, некоторое время молча смотрел на разрушения. Потом стал набивать табаком трубку.
— Здравствуйте! — сказал он простуженным баском и подошел ближе, чтобы попросить огонька. — Вот забыл в тюрьме спички. Дайте прикурить, ребята.
Обгорелые строения без оконных рам, без крыш, остатки печей и труб среди черных пожарищ, опаленные огнем деревья, разломанные заборы — такова была картина многих улиц Благовещенска утром.
Город возвращался к мирной жизни, израненный, истерзанный, с горем во многих домах и с великой надеждой.
Кто знал тогда, что пронесся лишь первый короткий шквал? Что грянет скоро буря, куда посуровее?
Люди, покончившие с мятежом, показали, что они умеют постоять за родную Советскую власть. И здесь, на самой границе, она прочно встала на берегу многоводного красавца Амура.
Они — единственные хозяева этой прекрасной, еще дремлющей под снегами земли, готовой принять новые семена и дать дружные всходы. Где-то впереди, скрытая во времени, была и пора жатвы.
...Логунов медленно поднимался по лестнице в аппаратную телеграфа. Как старому знакомому, улыбнулся молодому телеграфисту.
В тишине зала вдруг ожил, бойко застрекотал старенький «морзе». Точка, тире, тире, три точки, одна... «Всем, всем, всем...» — читал Логунов.
Он подошел к окну и стал смотреть на утреннее розовеющее небо, на город, дымки которого говорили о жизни.
Первый луч взошедшего солнца мягко коснулся его щеки и радужными блестками заиграл на покрытом ледком холодном стекле.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |