"Вайзер Давидек" - читать интересную книгу автора (Хюлле Павел)
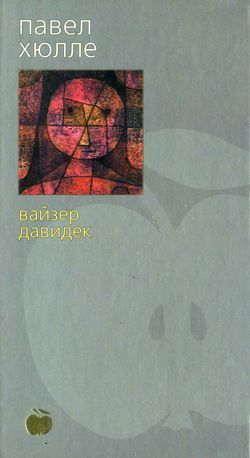 |
Павел Хюлле Вайзер Давидек
Как же так случилось, как произошло, что мы стояли втроем в кабинете директора школы, и уши у нас под завязку набиты были зловещими словами:
Мужчина в форме вытирал со лба пот, тупо смотрел на нас взглядом замученного животного и то и дело грозил пальцем, бормоча под нос невнятные проклятия. Директор, расслабив узел галстука, барабанил пальцами по черной поверхности стола, а учитель естествознания М-ский входил каждую минуту, справляясь о ходе следствия. Мы смотрели, как лучи сентябрьского солнца, пробиваясь сквозь зашторенные окна, освещают пыльный ковер некогда бордового цвета, и нам было жаль прошедшего лета. А они всё спрашивали, без устали, по сто раз одно и то же, не в силах понять простейших вещей, ну словно это они были детьми. «Они запутывают следствие, за это положена статья уголовного кодекса!» – кричал мужчина в форме, а директор поддакивал, хватаясь ежеминутно за галстук: «Что мне с вами делать, ребята, что мне с вами делать», – и теребил, расслабляя все больше, огромный треугольный узел, который издали можно было принять за бант якобинца. Только М-ский сохранял относительное спокойствие и уверенность, нашептывал на ухо тому, в форме, какую-то информацию, после чего оба поглядывали на нашу троицу с усиленным интересом, обычно предваряющим новую серию вопросов. «Каждый из вас говорит что-то свое, – кричал директор. – И всегда разное, как же так, почему вы не можете остановиться на одной версии?» А мужчина в форме ему в тон: «Слишком важное дело для шуток, шутки кончились вчера, а сейчас пожалуйте всю голую правду на стол!»
Мы и в самом деле не знали, как выглядит голая правда, но ведь ни один из нас не врал, мы говорили только то, что они хотели услышать, и, если М-ский спрашивал о снарядах, мы поддакивали: да, снаряды, – когда же человек в форме добавлял про склад ржавых боеприпасов, никто из нас не возражал: да, где-то такой склад, наверное, был, а может, и сейчас есть, только неизвестно где – после чего у спрашивающего лицо шло красными пятнами и он закуривал новую сигарету. Был в этом какой-то неосознанный способ защиты, о который они разбивались не хуже мыльного пузыря. Если бы, например, они спросили у нас, присутствовали ли мы при взрывах Вайзера, каждый подтвердил бы с готовностью: да, – однако никто не смог бы уточнить, в какую пору дня, и вдобавок один из нас промямлил бы сразу, что, собственно, Вайзер делал все это один, время от времени приглашая только Эльку. Мы прекрасно чувствовали, что на вопросы, которые нам задают, нет правдивых ответов, и даже если бы спустя какое-то время оказалось, что все же есть, то и в этом случае все, что произошло в тот августовский день, останется для них абсолютно необъяснимым и непонятным. Вроде уравнения с двумя неизвестными.
Шимек и Петр стояли по бокам, а я в середке, со своей ноющей и опухшей от долгой неподвижности ногой. Они могли спасаться, уводя взгляды влево или вправо, я же оставался прямо перед глазами директора и оправленным в темную раму белым орлом над его головой. Моментами мне казалось, что орел шевелит одним из крыльев, собираясь вылететь во двор, и я ждал, что все мы услышим звон разбитого стекла и птица упорхнет, но ничего такого не произошло. Вместо ожидаемого полета все гуще сыпались вопросы, угрозы и просьбы, а мы все стояли, ни в чем не виноватые и напуганные: чем же это кончится, ибо все ведь
– Не может человек исчезнуть без следа! – кричал тот, что в форме. – А ты, Королевский, – обратился он к Шимеку, – утверждаешь, что Вайзер и ваша подружка (он никак не мог запомнить, как звали Эльку, вышли в тот день вместе из дому, направились в сторону Буковой горки и что ты их больше не видел, хотя вас видели втроем на железнодорожной насыпи вскоре после полудня.
– А кто видел? – робко спросил Шимек, переступая с ноги на ногу.
– Ты мне тут вопросов не задавай, твое дело отвечать! – Мужчина в форме грозно сверкнул глазами. – Дождетесь, что это для вас плохо кончится!
Шимек проглотил слюну, его оттопыренные уши стали маковыми.
– Так ведь нас видели за два дня до того.
Директор нервно перелистал бумаги, где были записаны наши показания.
– Неправда! Ты опять бессовестно врешь, твои друзья сказали ясно, что вы шли втроем по старой железнодорожной насыпи в сторону Брентова, или, может, – теперь он обратился к нам, – это не ваши слова, а?
Петр кивнул в знак согласия:
– Да, пан директор, но мы вовсе не говорили, что это было в тот последний день, это правда было на два дня раньше.
Директор распустил узел галстука, так что тот уже вовсе стал похож не на нормальный галстук, а скорее на шарфик, узкий и пестрый, повязанный под воротничком. Мужчина в форме зыркнул в показания и состроил гримасу, но на этот раз удержался от крика, чтобы следующим вопросом заехать совсем с другого боку, коварно и внезапно. Может быть, он хотел узнать, откуда Вайзер брал взрывчатку для своих взрывов, а может, совсем уж какую-нибудь ерунду, например, в каком платье была Элька, когда мы видели ее последний раз, или не грозился ли Вайзер перед исчезновением, что сотворит нечто необыкновенное, что еще что-то покажет. Все это неизбежно вертелось вокруг тех двоих, но мы отлично понимали, что допрашивающие никогда не нащупают правду, потому что след, по которому они шли, с самого начала был ложным.
Не знаю, сколько прошло времени до того момента, когда М-ский предложил новый способ ведения следствия, однако еще до этого я подумал, что Вайзер и Элька, конечно же, каким-то лишь им известным образом слышат сейчас нас, стоящих в кабинете директора и дающих показания под диктовку грозного человека в форме. И наверно, Вайзер прищелкивает языком с одобрением, когда слышит, как эти трое мучаются с нами, а Элька громко смеется, обнажая белые беличьи зубы. Петр и Шимек наверняка подумали то же самое, ни один из них даже не пикнул, когда М-ский приказал нам выйти в канцелярию и ожидать там индивидуального вызова. Это и был его новый замысел – допрашивать нас по одному, – от которого они ждали большего успеха.
В канцелярии нам наконец разрешили поесть – это было главное, к тому же минута отдыха от взглядов М-ского и криков человека в форме была прекрасна и неожиданна, и мы восприняли ее как явный знак провидения, что худшее уже позади. Та троица в кабинете дала нам немного времени, чтобы мы осмыслили безнадежность нашего положения и сделали соответствующие выводы, но нам не нужно было даже советоваться насчет дальнейших показаний. Мы знали, что каждый будет говорить как чувствует, только это и давало нам наибольшие шансы выпутаться. Первым пошел Шимек, исчез в пасти кабинета покорно и тихо, и мы остались с Петром одни, впрочем ненадолго. Через минуту прислали сторожа – следить за нами. С той минуты мы сидели в молчании, наполненном тиканьем стенных часов, прерывающимся, только когда они отбивали полный час.
Как же все-таки случилось, что мы подружились с Вайзером?
Раньше мы видели его часто, он ходил в ту же школу, что и мы, бегал в том же дворе и покупал в том же магазине Цирсона бутылки с лимонадом, которые взрослые называли почему-то
Если все имеет свое начало, то в этом случае все началось с праздника Тела Господня, который пришелся тогда позже обычного. В пыли и зное июньского утра мы шагали в процессии, отделенные от ксендза Дудака группой министрантов и новопричащенных третьеклашек, распевая вместе со всеми «Славься, Иисусе, Сын Девы Марии, Ты ж есть Бог истинный…» и следя с нескрываемым благоговением за движением кадильницы. Потому что самой главной являлась кадильница, а не облатка и не святые образа Божией Матери и Бога, Сына Человеческого, не деревянные фигуры, которые несли члены Братства Розария на специальном паланкине, не знамена и ленты в руках, затянутых в белые перчатки, но именно кадильница, качающаяся вправо и влево, вверх и вниз, дымящая серым облаком, кадильница из золоченой жести на толстой цепи того же цвета, и аромат ладана, раздражающий ноздри, но одновременно удивительно мягкий и приторный. В неподвижном воздухе клубы дыма удерживались, долго не меняя формы, и мы ускоряли шаг, наступая на пятки впереди идущим, чтобы схватить серые облачка, прежде чем они расплывутся в ничто.
Тогда-то мы и увидели Вайзера в роли для него не характерной, в роли, которую он сам выбрал и затем навязал всем нам, о чем, ясное дело, мы не могли знать. Здесь же, перед алтарем, который из года в год воздвигали рядом с нашим домом, ксендз Дудак усиленно замахал кадилом, выпустив великолепное облако дыма, которое мы ожидали с дрожью и напряжением. А когда серый дым рассеялся, мы увидели Вайзера, стоящего на небольшом бугорке слева от алтаря и наблюдающего за всем с нескрываемой гордостью. То была гордость генерала, принимающего парад. Да, Вайзер стоял на бугре и смотрел так, словно все песнопения, хоругви, образа, вся толпа, ленты были приготовлены специально для него, словно не было иного повода вышагивать людям по улицам нашего квартала с истовым пением на устах. Сегодня я знаю и нисколько в этом не сомневаюсь, что Вайзер был таким всегда, но в тот момент, когда рассеялся дым, он будто вышел из укрытия, показав нам впервые свое истинное лицо. Впрочем, это длилось недолго. Когда растаяла последняя ленточка ароматного кадильного дыма, и умолк писклявый голос ксендза Дудака, и толпа двинулась дальше к костелу, Вайзер исчез с бугорка и уже не сопровождал нас. Какой же генерал бежит за войсками по окончании смотра?
Оставшиеся до конца учебного года дни можно было сосчитать по пальцам, свирепствовал июньский зной, и каждое утро нас будили через открытые окна голоса птиц, возвещающие безраздельное господство лета. Вайзер снова превратился в робкого Вайзера, который только издали следил за нашими крикливыми играми. Но что-то уже изменилось, теперь в его взгляде, пронзительном и жгучем, мы ощущали снисходительный интерес – как будто скрытый глаз изучал каждый наш шаг. Может быть, подсознательно мы оборонялись от этого взгляда, кто знает, но, так или иначе, в день выдачи аттестатов по Закону Божьему мы увидели его снова – как и в день Тела Господня или, скорее, в подобной ситуации. Костел Воскресения расположен был, впрочем, как и весь наш район, рядом с лесом, и, когда уже ксендз Дудак закончил свои молитвы и наставления, раздал наиболее усердным образки и нам вручили аттестаты, красиво напечатанные на мелованной бумаге, начались бешеные гонки к лесу в первую же минуту настоящих каникул, ибо школу мы покинули еще накануне и теперь впереди не ждало нас ничего, кроме двух месяцев чудесной свободы. Мы мчались всей оравой, вопя и орудуя локтями. Ничто, казалось бы, не могло сдержать эту стихию – ничто, кроме холодного взгляда Вайзера, а он стоял, опершись о ствол лиственницы, словно ждал нас здесь специально. Может, несколько минут, а может, всегда. Этого мы не знали ни тогда, ни позже, в кабинете директора и прилегающей к нему канцелярии, в ожидании очередного допроса, и даже теперь, когда я пишу эти слова и когда Шимек живет совсем в другом городе, Петр погиб в семидесятом[1] на улице, а Элька уехала в Германию и не написала оттуда ни одного письма. Ведь Вайзер мог ждать нас с самого начала, и это, пожалуй, самое главное в истории, которую я рассказываю без прикрас.
Итак, он стоял и смотрел, да, только и всего, казалось бы – только и всего. И однако он сдержал набегающую волну потных тел и орущих глоток, приняв ее на себя, и оттолкнул на миг, на тот краткий миг, в который стихия отступает, чтобы ударить с удвоенной силой. «Вайзер Давидек не ходит в костел!» – послышалось где-то сзади, и впереди подхватили этот лозунг в несколько измененном виде: «Давидек-Давид, наш Вайзер – жид!» И только теперь, когда это было произнесено, мы почувствовали к нему обыкновенную неприязнь, перерастающую в ненависть, за то, что никогда он не был с нами, нашим, одним из нас, никогда не принадлежал нам, а также за взгляд темных, слегка навыкате глаз, который наводил на простую мысль, что это мы отличаемся от него, а не он от нас. Шимек выскочил вперед и стал перед ним лицом к лицу. «Ты, Вайзер, а чего ты в самом деле не ходишь с нами в костел?» – И вопрос повис в воздухе, требуя немедленного ответа. Он молчал, улыбаясь придурковато и нахально – как казалось нам тогда, – и сзади начали ворчать, что надо сделать ему «макарончики». «Макарончики» заключались в том, что поверженному на траву противнику разминали спину кулаками и коленями, и мы уже увидели его белую голую спину, уже его рубашка порхала в воздухе, перелетая из рук в руки, когда неожиданно в круг палачей ворвалась Элька – со сверкающими глазами, раздавая направо и налево тумаки, она кричала: «Оставьте его в покое, оставьте его в покое!» А когда это не подействовало, она впилась в одного из экзекуторов ногтями, обозначив на его лице длинные извилины быстро краснеющих бороздок. Мы отступили от Вайзера, кто-то даже подал ему смятую рубашку, и он, не произнося ни слова, надевал ее, словно ничего не произошло. Только через минуту мы поняли, что это не он, а мы вышли из потасовки униженными, он же остался самим собой, тем же неизменным Вайзером, и мог смотреть на нас, как в день Тела Господня, спокойно, холодно, бесстрастно и сохраняя дистанцию. Трудно выдержать подобный взгляд, поэтому, как только Вайзер отдалился, шагая вдоль заросшей ограды костела, Шимек бросил первый камень, громко выкрикивая: «Давидек-Давид, Вайзер – жид!» – и другие последовали его примеру, и кричали то же самое, и бросали камни. Но он не оглянулся и не ускорил шаг, унося таким образом свою гордость, а нам оставляя бессильный стыд. Элька побежала за ним, и мы перестали швырять камни. Это было первое близкое знакомство с Вайзером – его мертвенно-белая спина, мятая клетчатая рубашка и, как я уже говорил, невыносимый взгляд, который впервые мы почувствовали на себе в праздник Тела Господня, когда развеялось облако ладана, выпущенное из золотой кадильницы ксендзом Дудаком.
Было ли то простой случайностью? Или Вайзер оказался перед костелом по собственной воле, так же как в день Тела Господня на бугорке рядом с алтарем? Но какая же сила велела ему это сделать, зачем он решил предстать перед нами именно таким? Эти вопросы еще долго не давали мне спать, и по окончании следствия, и потом, много лет спустя, когда я стал уже совсем другим. И если есть какой-то ответ, то только тот, что именно из-за его отсутствия заполняю я линованный листок, ни в чем не будучи уверен. Письма, которые я посылаю из года в год в Мангейм в надежде выяснить еще какие-то подробности, связанные с теми событиями и личностью Вайзера, остаются без ответа. Сначала я думал, что Элька, с тех пор как стала немкой, не хочет никаких вестей отсюда, никаких воспоминаний, которые могли бы поколебать ее новое – немецкое – равновесие. Но теперь уже так не считаю, по крайней мере не так уж в этом уверен. Между ней и Вайзером было что-то, чего мы никогда не могли понять, что связывало их странным образом и что ни по каким меркам невозможно определить как детское «притяжение полов» или иными подобными терминами, которых у современного психолога нашелся бы полный карман. Ее упорное молчание – нечто большее, чем неприязнь к миру детства.
А в тот день, когда рубашка Вайзера перелетала в воздухе из рук в руки, мы поехали в разболтанном трамвае четвертого маршрута на пляж в Елитково. Рабочий день был в разгаре, но в обоих вагонах была порядочная давка, солнце еще здорово припекало, и внутри вагона стоял характерный запах разогретой жарой краски. Нам и в голову не приходило вспоминать о Вайзере и об утренней сцене на опушке. Как только трамвай с отвратительным скрежетом стал разворачиваться на кругу рядом с деревянным распятием, мы побежали, размахивая полотенцами, к пляжу, не оглядываясь на развешанные между домами рыбацкие сети и на пирамидки корзин, пахнущих рыбьим жиром и дегтем. Только здесь начинались настоящие каникулы и вместе с ними ныряние за горстью песка, гонки до красного буйка и пробежки аж до сопотского мола, где смельчаки лихо соревновались в прыжках с головокружительной высоты. Да, Елитково так же не могло существовать без нас, как город не мог существовать без пляжа и залива. Это были сообщающиеся сосуды, и, хотя нынче все уже совсем не такое, память о том времени убить невозможно. Во главе галдящей толпы бежал Петр, демонстрируя свой коронный пляжный номер: обычно он стаскивал рубашку и штаны еще на бегу и с ходу прыгал в воду, скрываясь в брызгах белой пены. Его босые ноги уже взметали в песке фонтанчики, как вдруг он задержался у воды и крикнул, словно наступил на что-то острое: «Колюшка! Сюда! Сколько их!»
То, что мы увидели, было выше понимания злодейских возможностей природы. Тысячи колюшек, плывущих вверх брюшками, покачивались в ленивом ритме волн, образуя широченную, в несколько метров, полосу мертвых тушек. Достаточно было сунуть руку в воду, и чешуя, прилипавшая к коже, блестела, словно кольчуга, но ощущение было не из приятных. Вместо ванны нам подсунули рыбный суп, в который хотелось только с отвращением плюнуть. Но то было – как оказалось – лишь начало. День ото дня «уха» густела, превращаясь в вонючее липкое месиво. В июньскую жару трупики гнили, лопались, как надутые рыбьи пузыри, и смрад разложения доносился даже до трамвайного круга. Пляжи опустели мгновенно, мертвая колюшка, казалось, прибывала, нашему отчаянию не было границ. Елитково отвергало нас. Над прибрежным месивом, которое постепенно меняло цвет от светло-зеленого до темно-коричневого, появились рои небывало огромных мух, питающихся падалью либо откладывающих там свои яйца. Море оказалось неприступным, несмотря на невероятную жару. Все без толку – безветренная погода, жара и голубое небо, обманывающее безупречной чистотой. Наконец городские власти постановили закрыть все пляжи от Стогов до самой Гдыни, что, собственно, явилось лишь формальным подтверждением реального положения дел.
Хуже с нами ничего не могло случиться, но, когда я думал об этом, ожидая очередного вызова на допрос и решая, что же я скажу М-скому на этот раз, я уже допускал, что то была не случайность. А если даже и случайность, то не такая уж простая. Если бы не этот «рыбный суп», нам бы никогда не пришло в голову выслеживать Вайзера, никогда не двинулись бы мы по его следам через Буковую горку и старое стрельбище и никогда бы он не впустил нас в свою жизнь. Но я опережаю события, тогда как история эта, как любой правдивый рассказ, должна развиваться последовательно.
Дверь кабинета приоткрылась, и я увидел Шимека, которого вытолкнула рука М-ского. Прежде чем прозвучала фамилия Петра и сторож поднялся, чтобы подвести его к двери, я увидел большое красное ухо Шимека, распухшее и неестественно вытянутое. Я почувствовал спазмы в желудке и сердце, но ни о чем не мог спросить, так как в дверях показался М-ский и, пропуская Петра внутрь, приказал сторожу проследить, чтобы мы не обменялись ни словом. Шимек сел на складной стул, опустил голову и уставился на свои колени. С минуту я размышлял, будут ли меня тоже таскать за ухо, но оставил догадки, поскольку арсенал средств у М-ского был неограничен.
Да, участие М-ского во всей этой истории и поныне мною до конца не осмыслено, но если я не сделал этого до сих пор, то тогда, там, ожидая очередного допроса, мог ли я полностью отдавать себе отчет, кем был М-ский на самом деле или кем он на самом деле не был. Слишком я его тогда боялся, последующие же события отвлекли меня от размышлений на эту тему. Когда же дверь кабинета, обитая стеганым дерматином, бесшумно закрылась за Петром, я вспомнил очень важный случай. Ежегодно наша школа, как все другие школы, выходила строем,· в белых рубашках и темных штанишках, на первомайскую демонстрацию. М-ский шел всегда во главе, нес транспарант и, улыбаясь начальству на трибуне, запевал, призывая нас подхватить, своим писклявым голосом: «Эту пес-ню за-пе-ва-ет моло-дежь, моло-дежь, моло-дежь…» И мы маршировали стройными рядами, улыбались, как все вокруг, и пели, как все вокруг, и знали: к тем, что не явились на праздник радости, молодости и всеобщего энтузиазма, именно к этим ученикам завтра же или, в крайнем случае, через два дня М-ский нанесет визит на дом и будет допрашивать их родителей, что случилось, серьезная ли это болезнь и чем он может помочь, чтобы через год в этот самый день ученик был здоров как бык. В прошлом году один-единственный ученик из нашей школы не пошел на первомайскую демонстрацию. Это был не кто иной, как Вайзер, но, что самое удивительное, М-ский так и не пожаловал к нему домой, чтобы расспросить деда, почему внук не пришел маршировать вместе с нами. Тогда мы не придали этому значения, но теперь, дожидаясь очередного допроса, я подумал, что это очень важно.
Но какая же связь могла быть между М-ским и Вайзером? И сегодня утверждаю: никакой. Почему же М-ский не нанес визит в их дом? Не любил портных? А может, забыл? Нет, наверняка не забыл: как учитель естествознания и систематик, он был законченным педантом, и все у него было записано в маленьком блокнотике, с которым он никогда не расставался. А если М-ский знал о Вайзере что-то, чего не знали мы и чего я уже никогда не узнаю? Если что-то такое существовало, то почему чудаковатый учитель не мог понять, куда исчез наш приятель? О да, М-ский был настоящий чудак, такие сейчас встречаются только в книгах, и то не во всяких. Летом, в каникулы, он, как и мы, не выезжал из города, и мы часто видели его на лугу у брентовского леса или над рекой в Долине Радости, когда он гонялся за бабочками с сачком и атласом насекомых. А когда не охотился за порхающими созданьицами, то шел сгорбившись, уткнув глаза в землю, и каждую минуту останавливался, срывал какую-нибудь травку и шептал:
Да, в то жаркое лето, когда Вайзер подпустил нас к своим тайнам или, вернее, впустил нас в свою жизнь – частично, конечно, и насколько хотел, – в то лето М-ский встречал нас не однажды в районе стрельбища, Буковой горки, брентовского кладбища или Долины Радости. Его выпученные рыбьи глаза, отрываясь от неба или земли, наблюдали за нами украдкой, и мы никогда не знали, не подцепит ли он и нас как необходимый образчик фауны для своего эпохального труда. Вне школы и первомайской демонстрации мы должны были быть для него, без сомнения, видом особо назойливых мух, о чем можно было догадаться по его холодному, пустому взгляду. Я боялся этого взгляда, именно его, а не «ощипывания гуся», «вытягивания хобота», «согревания лапки» или других, еще более болезненных и изощренных телесных наказаний, которые он применял на своих уроках. В какой-то момент, глядя на покрасневшее ухо Шимека, я даже подумал, что М-ский способен своим взглядом превратить кого захочет в муху, и уже представил себе, как обрастаю серо-зеленым хитиновым панцирем и как мои скрючившиеся пальцы расчленяются на огромное количество мохнатых лапок. Это было отвратительно, в сто раз ужаснее, чем страх перед болью, покрасневшее ухо Шимека и превратности следствия.
К первым числам июля густота «рыбного супа» в заливе, казалось, достигла апогея. На море надежд не осталось, и мы вынуждены были искать другой выход нашей застоявшейся энергии. И это первая глава книги о Вайзере, которую ни один из нас не написал и никогда не напишет: ведь то, что я делаю сейчас, ни в коем случае не сочинение повести, а лишь заполнение белого пятна, затыкание дыры строчками в знак полной капитуляции. Да, первая глава этой ненаписанной книги начинается с «рыбного супа» в заливе и с наших игр на брентовском кладбище, куда мы стали ходить вместо пляжа и где в гуще орешника, ольхи, в тиши покосившихся надгробий и надтреснутых плит с немецкими надписями разыгрывали наши войны. Шимек командовал отрядом СС, а его оттопыренные уши прикрывала найденная в овраге ржавая вермахтовская каска, Петр возглавлял партизанский отряд, который – даже окруженный и разгромленный наголову – всегда возрождался заново, чтобы готовить очередные засады. Когда Шимек со своими брал нас в плен мы так же, как в кино, поднимали вверх руки, так же, как в кино, маршировали с руками, сложенными на затылке, и так же точно, как в фильмах о настоящей войне, которые показывали в нашем кинотеатре «Трамвайщик», падали, расстрелянные автоматными очередями, в настоящий ров на краю кладбища, там, где начинался сосновый лес. И если я вспоминаю с некоторым удивлением, как натурально и с каким знанием дела падали мы в этот ров, с каким энтузиазмом ожидали момента, когда рука Шимека подаст знак к началу экзекуции, то понимаю, что всем этим мы были обязаны именно кинотеатру «Трамвайщик», который находился неподалеку от школы, рядом с депо, и в котором на специальных сеансах знакомили нас, юнцов, с отечественной историей.
Не помню уже, в какой из дней, после какой из стычек, битв и нашего пленения стояли мы с поднятыми вверх руками перед дулами эсэсовских автоматов, ожидая, когда из-под ржавой каски Шимека раздастся команда
Сегодня, так же как и в тот вечер, когда я сидел на складном стуле рядом с Шимеком, а потом с Петром, а потом опять с Шимеком, ожидая своей очереди на допрос, сегодня, так же как и тогда, много бы я дал, чтобы вспомнить слова Вайзера на кладбище, – потому что это были его первые слова, обращенные непосредственно к нам. Шимек, у которого я спросил об этом в письме, ничего не ответил: занятый своими делами в далеком городе, он явно избегает тем, связанных с воспоминаниями о Вайзере. Элька, которая должна помнить это лучше всех, превратилась в немку и не отвечает из Мангейма ни на один вопрос, а Петр в семидесятом вышел на улицу посмотреть, что там происходит, и угодил под самую настоящую пулю. Да, я уверен, что с тех слов должна бы начинаться ненаписанная книга о Вайзере…
Итак, он спрыгнул с сосны и, держа в руке ржавый обшарпанный «шмайсер», подошел к Шимеку со словами: «Оставь, я сделаю это лучше», или «Предоставь это мне», или еще короче: «Я это сделаю». Да только вот Вайзер ничего такого не говорил, не мог он ничего такого сказать, поскольку «шмайсер» перешел в руки Шимека, а сам он с Элькой ушел по тропинке вниз к разрушенным воротам кладбища, словно появился только для того, чтобы оставить нам автомат и удалиться к более важным делам. Казнь не состоялась. Мы окружили Шимека, и каждый хотел хоть с минуту подержать бесполезную железяку, которая, ничего не скажешь, все же производила впечатление. К тому моменту Вайзер еще не был для нас главным авторитетом, и мы спорили о том, чьей стороне должен принадлежать автомат. Я был в отряде Петра и, конечно, хотел, чтобы он был у нас, поскольку у противников была каска. В конце концов мы установили новый, более интересный порядок военной игры. С этого дня после каждого боя Петр менялся с Шимеком – автомат на каску, – и таким образом мы один раз были немцами и наш командир надевал каску, а в следующий раз превращались в партизан и носились между заросшими надгробиями с автоматом в руках.
Думаю, у Вайзера с самого начала был план – опутать нас своими замыслами, с самого начала он, должно быть, поджидал удобный момент, чтобы, как в праздник Тела Господня или как на брентовском кладбище, поразить нас окончательно. Потому что на первых порах, когда мы не знали ничего ни о подвале на старом кирпичном заводе, ни о взрывах в ложбине за стрельбищем, ни о его коллекции марок генерал-губернаторства,[3] в тот период, когда, ничего не зная, мы бегали между надгробиями брентовского кладбища, он появился и исчез, как исчезает тот, кто приснился нам случайно и кого мы после не можем забыть, хотя черты его лица, слова и манера поведения улетучились из нашей памяти. Он внедрил в нас память о себе совершенно незаметно, и в последующие дни, когда в пыли песчаной дороги возвращались мы домой через Буковую горку, чаще всего под вечер, в алых лучах заходящего солнца, именно тогда начали мы говорить о нем. Сначала вроде бы невзначай и без всякой связи с облаком кадильного дыма и ржавым автоматом, просто так, задавая вопросы громко и шутливо: а чем он, собственно, занимается, если не играет вместе с нами, или: зачем эта глупая Элька бегает за ним все время как собачка, а на нас смотрит свысока, как на банду сопляков, и зачем это он дал нам автомат, ведь никто из пацанов по своей воле ни за какие сокровища не расстался бы с такой находкой. Но это еще было совсем не то, что овладело нами позже, когда мысль о нем не давала нам заснуть и когда мы часами выслеживали его и Эльку. Тем временем «уха» в заливе воняла все сильнее, и кто-нибудь из нас через день ездил в Елитково, чтобы поглядеть, как там дела.
Я посмотрел на Шимека. Его оттопыренное ухо уже не было таким ужасно красным, оно даже как будто вернулось к своим нормальным размерам. Между нами сидел теперь сторож, а через открытое окно канцелярии слышались ленивые звуки сентябрьского вечера, шаги прохожих смешивались с криками детворы, а солнце освещало красную черепичную крышу дома на другой стороне улицы. Все дома в нашем районе были крыты красной черепицей, так что в такой вечер, как этот, на исходе лета, когда солнце приобретает особые свойства, на красные островерхие крыши, подумал я, наверно, интереснее всего глядеть с Буковой горки, откуда, кроме крыш, виден еще аэродром, расположенный за железной дорогой, и залив с белой полоской пляжа. Сколько раз стояли мы там, на горе, и наш город казался нам совершенно иным, чем тот, в котором мы привычно жили. Тогда я не знал – почему, но сегодня, когда уже нет ни Буковой горки, ни Вайзера, ни того Елиткова, сегодня я думаю, что сверху просто не было видно грязных, замусоренных дворов, переполненных помоек и прочих мерзостей предместья, символом которых мог бы служить серый, насквозь пропыленный магазин Цирсона, в котором мы покупали лимонад в бутылках, именуемых взрослыми
Вместо панорамы с Буковой горки теперь я видел крышу дома напротив, по которой лучи солнца скользили все более короткими зигзагами, и открытое окно чердака, в котором ветер ласково надувал занавески. Часы в канцелярии пробили пять, и через минуту я услышал хорошо знакомые звуки пианино – это учительница музыки аккомпанировала хору на вечерней репетиции. Сначала шло вступление, потом с первого этажа стали доноситься все более громкие фразы исторической массовой песни, или массовой исторической песни, или народной исторической песни – уж не помню, как тогда это называлось: «Хвала вам паны-ы и магна-аты за це-пи за на-шу не-во-лю хвала-а вам епи-ис-ко-пы ксендзы пре-ла-ты хвала вам за на-ашу кро-ва-авую до-лю!» Этот рефрен, многократно повторялся, так же как начало песни, столь же торжественное и патетическое: «Когда на-а-род с ору-жи-ем под-ня-лся в бой паны о при-бы-лях ра-де-е-ли». Никогда не мог понять, ни на школьных праздниках, ни на уроке пения, где мы разучивали эту песню, повторяя десятки раз до отвращения, что общего у цепей и неволи с епископами и о каких прибылях шла речь, когда народ поднялся в бой, то есть что общего у прибылей с боем. И вообще, за что тут было винить панов, если панов уже давно нет, а если и есть, то наверняка не в нашем городе и не в нашей стране. Да, сегодня, к счастью, я не должен об этом думать, но вот мелодия застряла в моей памяти почти полностью, и если она и возвращается ко мне какими-то неведомыми путями, то никак не в связи с прелатами, школьными праздниками или учительницей пения, а лишь вместе с сумеречным светом сентябрьского вечера, когда я сидел в канцелярии нашей школы, ожидая своей очереди на допрос, вместе с видом занавески, колеблемой легким дуновением ветра, вместе с Вайзером и пятью часами пополудни – как раз столько пробил в стенных часах нежный гонг, напоминающий звон колокольчика в руках ксендза Дудака во время внесения Святых Даров.
Когда ухо Шимека стало совсем нормальным, дверь директорского кабинета открылась, М-ский выпустил оттуда Петра – и наступила моя очередь. Школьный запах навощенных полов, который я помню поныне, тяжелый и маслянистый, как вечность, смешивался в директорском кабинете с табачным дымом и ароматом кофе, который пили трое допрашивающих нас мужчин. Только М-ский не курил, а лишь теребил рукав своей рубашки.
– Значит, ты, Хеллер (так меня тогда называли), настаиваешь, – обратился ко мне тот, что в форме, – ты настаиваешь, что Вайзера и Эльку вы видели последний раз двадцать восьмого августа в ложбине за старым стрельбищем, верно?
– В общем-то, верно.
– Что значит – «в общем-то»?!
– Потому что после мы уже не видели их вблизи.
– Значит ли это, что вы видели их еще и на следующий день как-то иначе? Что значит – «вблизи»?!!
– Нет, на следующий день мы уже не видели их вовсе.
М-ский заерзал в кресле:
– Ну так расскажи нам подробно и по порядку, что случилось в тот день, только не привирай, от нас все равно ничего не укроется!
Я говорил, стараясь не смотреть в глаза М-скому; говорил медленно и спокойно, уверенный, что не нападут они на настоящий след, так и будут топтаться на месте, пока, наконец, не оставят нас в покое: Вайзер приказал нам, как всегда, ждать возле лиственничной рощи и, когда убедился, что мы там, пересек ложбину, а затем помахал нам рукой, в знак, что уже пора ложиться, и сразу же земля вздрогнула от взрыва и на голову нам посыпались песок, гравий и щепки.
– А потом?
– Потом мы подняли головы, как всегда после взрыва, и ждали, когда он подаст следующий знак, то есть сигнал, что можно уже подойти к месту, где был заложен заряд, но такого сигнала на этот раз не было. Вдруг мы увидели, как они идут оба – совсем как взрослые, под руку, – Вайзер и Элька. Так вот, идут оба, но не к нам, а на другую сторону ложбины, туда, где растет старый дуб, и ни разу не обернулись, только взбираются все выше по крутому склону, поросшему буками, взбираются на самый верх и исчезают. А мы стоим теперь (мы успели уже подойти к месту взрыва) возле огромной воронки и видим: ничего себе, воронка огромная, как после авиабомбы. Стоим и восхищаемся его искусством, измеряем глубину ямы, радиус и, как всегда, вдыхаем запах сырой земли, полной ошалевших муравьев и разорванных червяков, и вдруг кто-то кричит, показывая на бугор: «Посмотрите туда!» – и мы видим Вайзера с Элькой. Мы видим их на вершине бугра и как они исчезают за деревьями, но не пытаемся их догнать, и вот именно так, – говорил я, – мы видели их последний раз: издалека, в ложбине за стрельбищем, а потом, на другой день, начались поиски, и в подвалах заброшенного кирпичного завода нашли склад Вайзера, о котором не знали даже мы, Вайзер ревниво оберегал такие тайны. Ничего не знали о банках с тротилом, разобранных снарядах, патронах, потому что никогда не спрашивали у него, откуда он берет материал для своих мин, да если бы даже спросили, разве такой, как он, сказал бы хоть слово? Нет, только Элька могла знать об этом складе, и если был какой-то еще, о чем мы, конечно, тоже понятия не имели, если был еще один склад, то единственной, кому Вайзер мог бы доверить эту тайну, была именно Элька, может, поэтому он и забрал ее с собой.
Меня слушали с притворным равнодушием. Директор освободил узел галстука, который теперь напоминал компресс, какие кладут на горло при ангине, мужчина в форме прихлебывал остатки кофе из стакана в жестяном подстаканнике, а М-ский барабанил пальцами по блестящей поверхности стола и смотрел вовсе, не на меня, а куда-то выше, на стену.
– Это всё мы уже знаем, – вдруг закричал М-ский, – без вашей помощи, но почему один из вас врет, или вы врете все и каждый в отдельности?
– Да, – перебил его директор, – один из твоих приятелей признался, что днем позже вы еще играли вместе с ними на Стриже, за взорванным мостом. Выходит, они провели всю ночь не дома и вы знали об этом и знали, где их искать!!!
– Тут не до шуток, парень, – вмешался тот, что в форме, – если их разорвал снаряд, вы будете отвечать за соучастие в преступлении, и в исправиловке вас научат уму-разуму!!!
– На Стриже мы играли днем раньше, а не днем позже, – сказал я, чувствуя, что первая липа, которую я подсовываю им в угоду, дается мне с легкостью. – Он, наверно, что-то напутал.
Теперь они кричали все вместе, угрожали, задавали вопросы, говорили, что мы не выйдем отсюда, пока все не выяснится, что нашим родителям уже сообщили о следствии, что нам не дадут ни пить, ни есть и мы будем здесь торчать, пока не откроем всю правду. Уверяли меня, что готовы сидеть с нами до утра или еще дольше, а если кто-нибудь наткнется на этот второй склад (от которого они ждали чего-то значительно худшего) и случится какое-нибудь несчастье, то мы будем и за это отвечать, так что лучше признаться сразу. Я был уверен, что они ничего не поймут, и поэтому повторил то же, что говорил минуту назад. М-ский встал с кресла, подошел ко мне строевым шагом, словно на первомайской демонстрации, схватил мой вздернутый нос двумя пальцами и спросил, видел ли я Вайзера в ложбине дей-стви-тель-но в последний раз. Я отвечал утвердительно, чувствуя, как мой нос постепенно сплющивается в его толстых пальцах. Но это не было обычным «вытягиванием хобота», которое М-ский применял на уроках естествознания. Сегодня, когда я вспоминаю этот момент, я бы назвал это «вытягиванием хобота с особым выкручиванием», потому что сначала мне пришлось слегка подняться на цыпочки, а потом все выше тянуться на самых кончиках пальцев, удивляясь, что еще не вишу в воздухе. Тем временем рука М-ского перемещала центр тяжести моего тела то вправо, то влево, так что на какую-то долю секунды я невольно опускался на пол всей стопой, чтобы успеть за его дланью, и тогда нос болел ужасно и становился таким вздернутым, каким не был никогда от самого рождения, а М-ский повторял свой вопрос медленно, по слогам: дей-стви-тель-но в по-след-ний раз? Наконец он отпустил меня, я отшатнулся к стене и вытер рукавом кровь, потому что нос у меня был нежный и не терпел насилия.
В кабинете устроили перерыв, так что мы снова сидели вместе, все трое, на складных стульях в канцелярии, и мне казалось, что я слышу хор, скандирующий стишок в адрес Вайзера, когда в день выдачи аттестатов по Закону Божьему, прежде чем взлетела его клетчатая рубашка и Элька выступила в его защиту, кто-то из задних рядов крикнул: «Вайзер Давидек не ходит в костел!» – а кто-то другой сразу же переиначил: «Давидка-Давид, наш Вайзер – жид!» И я тут же подумал, что если б не Элька, то никогда дело не дошло бы до нашего знакомства с Вайзером, потому что тогда же, там, рядом с костелом Воскресения, мы сделали бы ему «макарончики», и на том бы все и закончилось, обычно и банально. Вайзер избегал бы нашей компании, и никогда бы ему не пришло в голову подсматривать за нашими играми на брентовском кладбище и подарить нам старый ржавый автомат фирмы «Шмайсер» сорок третьего года, и то лето не отличалось бы от других каникул прежде или потом. Да, когда Элька набросилась на нас с когтями, чтобы защитить Вайзера, у нее наверняка было какое-то предчувствие, я убежден в этом до сих пор, ведь она никогда не вмешивалась в наши баталии и разборки, порой более жестокие, чем даже у взрослых. А в тот раз бросилась, будто Вайзер ее младший брат, и эффект от ее порыва был поразительный: мы отпустили их без сопротивления, и вовсе не из страха перед ее когтями.
Любила ли она его?! Да, любила – так я думал, сидя в канцелярии с распухшим носом, когда в кабинете директора готовился следующий раунд допроса, так я предполагал тогда, представляя себе ее рано округлившиеся груди, длинные льняные волосы и красное платьице, которое она носила в жаркие дни. Сегодня я знаю, что был не прав, и еще труднее мне определить их отношения с момента, когда они ушли вдоль костельной ограды, подгоняемые нашими камнями. Прежде Элька относилась с явным презрением к тем, кто не мог доплыть до красного буйка, прыгнуть с верхнего помоста мола вниз головой или точно подать мяч, когда мы гоняли в футбол на лужайке возле прусских казарм, – и вдруг увидела в худом и сутулом Вайзере кого-то очень важного и бросилась на нас с когтями. Не могла она измениться за долю секунды. Должно быть, она почувствовала то, что почувствовали мы через пару недель, глядя на Вайзера в подвале заброшенного кирпичного завода, отчего бегали по спине мурашки и электрический ток пронизывал все тело.
Однако все по порядку. Нет, я не пишу книгу ни о Вайзере, ни о нас тех, прежних, ни о нашем городе тридцатилетней давности, ни о школе и тем более не пишу книгу о М-ском или эпохе, когда он был самым главным после директора, – нет, это мне неинтересно, и если я решил все записать, вспомнить запах того лета, когда «рыбный суп» заполонил пляжи залива, то единственно в связи с Вайзером. Именно это вынудило меня отправиться в Германию, именно это велит сейчас записать все с самого начала, не пропуская ничего, ни малейшей детали – в таких случаях мелочь оказывается иногда ключом, открывающим ворота, и каждый, кто хоть раз встретился с чем-то необъяснимым, хорошо это знает. Итак…
Шли первые дни июля, в жаре и духоте город, лишенный залива, казалось, еле дышал, а «рыбный суп» густел и густел, прибавляя городским властям новых хлопот. Сначала надеялись, что эта странная эпидемия пройдет сама, и ничего не делали, затем предприняли кое-какие шаги: на пляже с утра суетились мужчины с деревянными граблями, как для сена, и сгребали рыбьи трупы в груды, которые затем вывозили машинами на городскую свалку, обливали бензином и сжигали. Действия эти, однако, имели эффект, обратный намерениям: дохлых колюшек, вздувающихся на жарком солнце, прибывало, а газеты сообщали о массовой гибели кошек и собак в районах, прилегающих к заливу. Вспоминали также: за два месяца, то есть с начала мая, не выпало ни капли дождя, что старые люди уверенно объясняли карой Божьей. А мы тем временем носились по брентовскому кладбищу с каской и автоматом, подаренным нам Вайзером, попеременно – то как немцы, то как партизаны – падали от пуль, совсем как в фильмах о войне, которые демонстрировались в «Трамвайщике». Только иногда нам приходило в голову спросить себя, почему Элька не играет с нами, а также – что она видит в тощем и хилом Вайзере, зачем шатается с ним целыми днями по городу. Кто-то видел их в Старом городе возле колодца Нептуна, другой давал руку на отсечение, что Вайзер и Элька чаще всего сидят на лугу за аэродромом, а то как-то раз Петр заметил их аж за Брентовом, они направлялись к взорванному мосту, где Стрижа протекает под железнодорожной насыпью, по которой со времен войны не прошел ни один поезд. Но на эти сведения мы не обращали особого внимания, каждое утро один из нас садился в трамвай и ехал в Елитково посмотреть, как выглядит «рыбный суп», не отступает ли, а потом искал нас на кладбище за Буковой горкой и докладывал, что вонь на пляже еще усилилась и рои огромных мух носятся над месивом, как саранча. В тени кладбищенских деревьев было приятней, чем во дворе и на улице.
Однажды рядом со склепом с готической надписью мы увидели мужчину в пижаме и больничном халате, сидевшего на плите и бормотавшего что-то под нос, будто читал молитву. Мы обступили его, но он не проявил беспокойства и жестом показал, откуда он здесь взялся – убежал из сумасшедшего дома, который красно-серой горой возвышался на холме по другую сторону шоссе, ведущего в город. Петр предложил пойти в больницу и рассказать, где находится беглец, которого наверняка разыскивали, но никто из нас не видел настоящего сумасшедшего, и мы хотели убедиться, правда ли то, что ксендз Дудак говорил в своих пламенных проповедях о безумцах, отринувших Бога. Потому что ксендз Дудак в нашем приходском костеле Воскресения, расположенном, как и брентовский кладбищенский, неподалеку от леса, ксендз Дудак, как и старые люди, говорил, что рыбное месиво в заливе и засуха – знамения, посланные Богом.
– Покайтесь, пока есть еще время, – кричал он с амвона в последнее воскресенье. – Не отрекайтесь от Бога, маловерные, не поклоняйтесь лжепророкам и идолам, ибо Он отвернется от вас. Не уподобляйтесь безумцам, которые, веря лишь в свои силы, мир хотят выстроить заново. А я спрашиваю вас, что же это за мир, в котором исчезнет вера, что же это за мир, в котором не воздается Ему, Творцу и Искупителю, наивысшая хвала, спрашиваю я вас и остерегаю, не верьте безумцам, опомнитесь, пока не поздно. Сами видите, что Бог подает вам знаки своего гнева. – И в таком пламенном стиле ксендз Дудак то угрожал, то взывал к своим прихожанам, и мы представляли себе, что есть безумцы, из-за которых мы не можем купаться этим летом в Елиткове, и хотели своими глазами увидеть, как выглядит такой безумец.
Коль скоро выпал такой случай, коль скоро случай послал на кладбище мужчину в больничном халате, мы заорали на Петра и не побежали в Сребжиско, чтобы донести на беглеца, а обступили его, с интересом разглядывая его сморщенное лицо и стоптанные шлепанцы, в которых он убежал из больницы на заброшенное кладбище. Но если это был безумец, то, верно, не из тех, о которых гремел с амвона ксендз Дудак. Он молчал, и Шимек, как самый храбрый, надел ему на голову ржавую каску. Тогда мужчина знаком показал, что хочет посмотреть наш ржавый автомат, а когда «шмайсер» оказался у него в руках, встал на надгробии и, подняв вверх дуло, заговорил, обращаясь к нам, красивым звучным голосом:
– Братья! Слово Господне живет в ушах моих, так слушайте же слово, которое вам направляю, дабы удостоверились! И вот Господь обнажит землю, и изменит лице ее, и рассеет обитателей ее. И голой станет земля и опустошенной, ибо Господь изрек слово свое. И плакать будет земля, и погибнет, захиреет, и низвергнется шар земной, изнемогут все народы земные. Ибо земля наша осквернена обитателями, преступлен закон, попраны обычаи, нарушен вечный завет!
Мы не очень-то понимали, о чем шла речь, однако слова эти были настолько захватывающи и возвышенны, что мы слушали мужчину в пижаме затаив дыхание, совершенно забыв, что это сумасшедший, сбежавший из психушки в Сребжиске. А он возносил руки вверх, потрясая нашим автоматом, подымался на цыпочках, будто хотел стать еще выше, и полы его грязного халата напоминали большие желтые крылья, на которых он мог бы взлететь над Буковой горкой или еще выше, если бы только захотел.
–. И премного угнетен будет человек, – вещал дальше Желтокрылый, – и благородный муж унижен будет, и глаза возвышенных оскорблены будут. И потому проклятие поглотит землю, и сгинут обитатели ее, и потому сожжены будут обитатели земли, и мало людей уцелеет. Пока не снизойдет на нас дух с высоты, и пока не обернется пустыня полем урожайным, а поле урожайное за лес почитаться не будет!
Вспоминая сегодня этот чистый, низкий голос, я нисколько не сомневаюсь, что единственный среди нас, который понял бы тогда слова Желтокрылого, – это Вайзер. Да только не было его тогда с нами, сидел, наверно, в тот момент с Элькой в подвале заброшенного завода или бродил где-нибудь по высохшим лугам, окружающим аэродром. Но где бы он ни был, мы слушали как завороженные, а тем временем крылья свернулись, мужчина спрыгнул с надгробия и, продолжая вещать, провел нас заросшей мохом тропинкой к прогнившей колокольне, которая, хоть и стояла на заброшенном кладбище, служила ксендзу брентовского костела по воскресеньям и праздникам.
– Стенайте, – голос мужчины гремел теперь с удвоенной силой, – ибо близится день Господень, и ниспошлет опустошение Всемогущий! Всеобщая погибель, говорю я, предназначенная Господом, Властелином сонмищ, свершится на всем пространстве земли этой. Что сделаете в день гнева и опустошения, которое издалека грядет? Тогда взглянем на землю, и вот мрак и угнетение, ибо и свет затмится при гибели!
Мы уже стояли у колокольни, а он положил автомат на поперечную балку и, отвязав веревку, потянул за нее. Вместе с первыми звуками меди услышали мы еще слова, намного прекраснее тех, что можно было услышать на проповедях ксендза Дудака: «И потому разверзла геенна зев свой и распахнула безмерно пасть свою». И теперь, под ошеломляющий звон брентовских колоколов, ибо в отличие от нашего прихода было здесь три колокола, а не один, под восхитительный звон этих колоколов мужчина в халате повторял, будто рефрен песни: «Горе тем, кто творит законы неправедные, горе тем, кто творит законы неправедные». А мы стояли рядом, и некоторые из нас даже качались в такт этой песни, ибо то была действительно песнь, только не церковная, ибо никогда мы не слышали ее в костеле, но и не массовая, ибо на уроках музыки мы пели только массовые песни, а этой среди них не было. Может, еще минута, и мы подхватили бы ее слова и пронзительную мелодию, и таким образом она стала бы, по крайней мере в каком-то смысле, массовой, но помешал такой метаморфозе хромой причетник, ковыляющий к нам. Он приближался пугающе быстро и грозил нам кулаком. «Безбожники! – кричал он. – Уже и святое место не уважаете, проваливайте отсюда, а не то я сейчас…» – и ускорял шаги, а его стихарь все выразительней белел на фоне зарослей орешника. Вместе с Желтокрылым мы бросились наутек к Буковой горке, но причетник погнал нас дальше, аж до границы кладбища, которую обозначал бетонный фундамент давно не существующих столбиков. «Хулиганы! – кричал он еще громче. – Вандалы! – и грозил кулаком. – Нечего вам тут делать, – и ковылял еще быстрее, – только покойников тревожите!»
И когда мы были уже вне пределов кладбища, неожиданно, как из-под земли, вырос среди сосен М-ский с портфелем в одной руке и с каким-то растением в другой. Оторвавшись от своего занятия, он уставился на нас рыбьими глазами.
– В чем дело, мальчики? Видите этот цветок? Красивый, правда? Скажи-ка, – обратился он ко мне, – какое это семейство? Не знаешь? – обрадовался, как на уроке. – Это семейство
Дальнейшие разглагольствования М-ского о необычайных открытиях прервал причетник, который, зная учителя естествознания, обрушился на него с резкими упреками.
– Что же это вы, пан дарвинист, вместе с молодежью нарушаете покой святых мест, – говорил он сопя, – так не годится, я в дирекцию школы письмо пошлю с вопросом, обязательно ли ради науки устраивать балаган на кладбище.
– Я тут… это… послушайте… – забормотал М-ский. – Я тут сам по себе, а мальчики эти не со мной.
– Не с вами? – разозлился причетник. – Как то есть не с вами, я сам видел, как вы вместе дергали колокола, и зачем такие дурацкие выходки? Разве ксендз приходит в школу звонить во время уроков? Нет! Так что попрошу держаться от костела подальше!
Это уж было слишком. М-ский побагровел и изверг из себя одним духом целый поток угроз и предостережений, в которых слова
Да, в тот день не было с нами Эльки и Вайзера, и я, собственно, мог бы ничего не записывать, не вспоминать сумасшедшего в пижаме и желтом халате, не упоминать о трех колоколах брентовского кладбища и не вызывать из памяти горную арнику с мохнатым стебельком и желтым растопыренным соцветием. Однако в этой истории, кажется, больше, чем в других, некоторые подробности и моменты только в отдаленной ретроспективе приобретают особое значение, осмысленно связываются между собой, и невозможно – если размышлять обо всем этом – трактовать их раздельно. Естественно, если бы не Желтокрылый, если бы не брентовские колокола и угрозы М-ского в наш адрес, если бы не арника горная, наше внимание не сосредоточилось бы на Вайзере настолько, что он пожелал это заметить, – я полагаю, все это время Вайзер ждал, как опытный охотник, момента, когда дичь теряет ориентацию, потому что ветер дует с тыла, а не в ноздри. Он просто изучал только ему известными способами нашу готовность.
Так или иначе, на следующий день мы не пошли через Буковую горку в Брентово. С самого утра перед лавкой Цирсона выстроилась длинная очередь жаждущих лимонада. Бутылки с лимонадом путешествовали из рук в руки, жена хозяина взвешивала яблоки и огурцы, а липучка, свисающая с магазинной лампы, напоминала мохнатую лапу паука. На дворе пани Короткова развешивала белье. Мы знали, что ее муж, работающий на верфи, вернется вечером пьяный в лоск, ибо сегодня день получки. Впрочем, как и наши отцы, большинство которых работали на верфи и в день получки тоже возвращались к своим женам пьяными, а наши матери так же, как пани Короткова, заламывали руки, устраивали скандалы и так же, как она, швыряли в лицо Господу Богу свои муки и несчастья. Солнечный жар, однако, убивал всякую охоту жить, пани Короткова с пустой корзиной пересекала двор, приговаривая, что такая погода ничего хорошего не сулит. Облезлый кот зализывал в тени каштана свои раны, и над всей округой разносился тошнотворный запах из колбасной фабрички, расположенной за лавкой Пирсона. Не чаще чем раз в час по булыжникам нашей улицы проезжала с грохотом какая-нибудь машина, поднимая облака медленно оседающей пыли. И вдруг мы увидели Вайзера с Элькой, выходящих из задней двери дома; они шли по рахитичному, выжженному солнцем палисаднику между рядами пожухлой фасоли, которая в то лето не доросла даже до середины жердей. Они шли, и Вайзер что-то говорил Эльке, а та смеялась. Мы толкнули Шимека в бок – пошли, мол, за ними, но Шимек удержал меня. «Подожди», – сказал он и побежал домой за французским биноклем, который его дед добыл под Верденом во время Первой войны. Не знаю, сохранился ли он у Шимека, но помню, что то был артиллерийский бинокль, с градуировкой в обоих окулярах, помню также, что был он для нас предметом вожделения и зависти, и, наверно, поэтому Шимек выносил его из дому крайне редко, только в исключительных случаях, как, например, год назад, когда с чердака нашего дома мы наблюдали пожар китайского сухогруза, завернувшего в Новый порт с партией хлопка.
Элька и Вайзер миновали трамвайные рельсы возле круга двенадцатого номера, направляясь улицей Пилотов к виадуку над железнодорожными путями, с которого попадали на платформу. На виадуке они остановились и некоторое время смотрели в сторону аэродрома. Пока нам не требовался бинокль, покоившийся в кожаном футляре, ибо те двое на виадуке были выше нас на два виража крутой в этом месте дороги. Мы стояли, скрытые забором бумажной фабрики, и видели, как Вайзер вынимает что-то из кармана и показывает Эльке, а она берет это в руки и внимательно разглядывает. Тень старых деревьев прятала нас надежно, и если что-нибудь в тот день было не так, как вылавливает это из прошлого моя память, то уж тень от больших кленов была совершенно точно. Клены, должно быть, росли в этом месте уже очень давно, и, когда сооружали деревянные склады фабрики, прилегающие к улице Пилотов, деревья не вырубили, а только оставили дыры в навесах. Итак, мы стояли в тени деревьев, вырастающих прямо из крыши, и Шимек начал проявлять нетерпение. «Что они там делают?» – спросил он и уже хотел достать бинокль, когда они двинулись в сторону аэродрома. Желто-голубая электричка пронеслась где-то под нами, а мы уже с виадука следили за Вайзером и Элькой, которые через дыру в заборе как раз пробирались на территорию аэродрома.
– Совсем не боятся охраны, – одобрительно сказал Шимек, вытаскивая из футляра бинокль. – А теперь посмотрим, чего они там ищут. – И он поднес к глазам темно-коричневые трубы.
Элька и Вайзер исчезли в густых зарослях дрока, кусты которого примыкали к взлетной полосе. Если я пишу «примыкали», то кто-нибудь может подумать, что этот дьявольски важный кустарник находился где-то на середине полосы или при одном из ее боковых ответвлений, предназначенных для выруливания. Так вот, это большая ошибка; от кустов дрока, в которых исчезли Элька и Вайзер, взлетная полоса только стартовала на южном конце аэродрома, убегая прямиком к морю в северном направлении.
– Куда они исчезли?! – нервничал Шимек. – Что за хреновина! Я вам говорю – они играют в доктора.
– Во что? – спросил я недоверчиво.
– В доктора, – повторил Шимек. – Он с нее снимает трусики и осматривает все, что нужно! Но где же они? – Опершись на чугунную балюстраду виадука, он крутил настройку бинокля, целясь в кусты дрока.
Справа от нас виден был как на ладони старый Вжещ в его темном, багрово-кирпичном колорите, с башнями костелов, слева, очень далеко, маячили очертания Оливы, а напротив тянулся аэродром с маленьким зданием аэропорта, ангарами и неподвижно висящим рукавом в цветную полоску. Дальше, там, где кончалась взлетная полоса, виднелась белая нитка пляжа, залив и суда, ожидающие на рейде.
– Куда они могли исчезнуть? – повторял Шимек. – Ведь они не выходили из кустов. – И передал мне, чуть помедлив, бинокль: расставался он с ним всегда неохотно и ненадолго. Когда черные риски делений запрыгали у меня в окулярах на фоне кустов дрока, я почувствовал себя французским офицером-артиллеристом, убитым под Верденом. И в тот момент, когда я подправил резкость, за нашей спиной со стороны холмов глухо зарокотал самолет. Заросли дрока, ближайшие к бетонной полосе, зашевелились, и только теперь я увидел их обоих, будто совсем рядом, – они держались за руки и нетерпеливо задирали головы, высматривая подлетающий «Ил». Но это не было игрой в доктора и пациента – они лежали навзничь с вытянутыми ногами, держась за руки, а свободной рукой каждый из них вцепился в корни дрока, которые в том месте были толстые и переплетенные. Самолет, снижаясь, миновал Буковую горку и приближался к виадуку и железнодорожным путям, а я нацелил бинокль на красное платье Эльки и ее голые колени, добившись наконец идеальной резкости: то, что я увидел через несколько секунд, когда огромный сверкающий фюзеляж самолета, казалось, вот-вот коснется брюхом зарослей дрока, я видел абсолютно четко. Машина уже в десяти, может, в пятнадцати метрах от земли; от зарослей дрока и от начала полосы ее отделяет расстояние брошенного камня. Элька приподнимает колени, и лицо ее искажает гримаса, кажется, будто она кричит от страха, рот у нее открыт. У Вайзера рот тоже открыт, но не искривлен, и он не поднимает колени. Кусты дрока, словно подкошенные, ложатся от воздушной волны, Элька, не отрываясь от земли, поднимает колени еще выше, а с ними и бедра, и видно, как ее красное платье, задранное воздушной волной, открывает черную точку между ногами. Но это вовсе не трусики, вовсе не белье, это черное, слегка приподнятое к небу, выглянувшее из-под красного платьица благодаря ревущему самолету нечто – удивительно мягкое, волнистое и трогательное; это нечто, совпадающее с нулевым делением артиллерийской шкалы в окуляре французского бинокля из-под Вердена, этот феномен, напоминающий треугольник, быстро исчезает в складках красного платьица, опадающего на бедра и колени Эльки, как только шасси огромного «Ила» касается бетонной полосы в десяти или пятнадцати метрах за ними. И на этом, собственно, все заканчивается, оба вскакивают и мчатся к ограде, чтобы успеть скрыться от часового с винтовкой. Шимек вырывает у меня бинокль и, приложив его к глазам, кричит: «Видишь, они все же играли в доктора, их самолет спугнул!» Но я знал уже тогда, что это было не то, чего хотелось бы Шимеку. Все время, пока самолет приближался, рука Вайзера оставалась на месте, это не она задрала красное платье Эльки. Да, уже тогда я знал, что Элька с помощью Вайзера позволяет самолетам вести странные и возбуждающие игры. И не знаю, что меня удивило больше: то, что серебристый «Ил-14» задирал красное платьице Эльки, или то, что между ног у нее было то черное треугольное нечто, такое же, как у моей матери или у старшей сестры Петра, о чем трудно не знать, когда в доме по одной ванной на этаж.
К вечеру жара немного спала, и через открытые окна квартир долетали отголоски домашних скандалов. Возвращались последние недопившие, на обратной дороге заглянувшие еще и в бар «Лилипут», расположенный напротив евангелистской часовни, в которой собирались открыть новое кино. Евангелистская община в нашем районе состояла из истинно верующих, но их количество таяло из года в год, и они не смогли сохранить свой храм. Преимущественно то были пожилые гданьчане, которых пришлый народ называл немцами, что не всегда соответствовало истине. Пани Короткова кричала на своего мужа: «Ты, паразит, дрянь, дерьмо», из радиоприемника неслись звуки задорного оберека,[4] а все мальчишки уже знали от Шимека, что Вайзер ходит с Элькой на аэродром, чтобы ее
– Дураки, – процедила она сквозь стиснутые зубы. – Глупые сопляки и вонючие засранцы, вот вы кто, только и умеете пинать мяч и выбивать друг другу зубы, и больше ничего!
– Ну и что! – прозвучало вызывающе.
– А вот то! – отрезала Элька. – Он может все, понятно вам, щенки недоразвитые? Все, что захочет, может сделать. Его даже звери слушаются!
– Хо-хо-хо! – заржал Шимек. – Так, может, он сумеет остановить машину на ходу или самолет в небе?
Последнее замечание задело Эльку больнее всего, она бросилась, выпустив когти, на Шимека, и началась бы новая драка, началась бы, если бы не голос со второго этажа. Через открытое окно всю сцену наблюдал Вайзер, и, когда ногти Эльки уже готовы были вонзиться в лицо Шимека, мы вдруг услышали: «Ладно, скажи им, пусть завтра в десять приходят к зоопарку, к главному входу». Вайзер обращался к ней, я хорошо это помню: «Скажи им», – хотя все мы были перед ним как на ладони и с таким же успехом он мог сказать прямо нам: «Будьте завтра у входа в зоопарк в десять». Но он предпочел обратиться к ней, и так было и после, когда он приглашал нас на свои представления в ложбину за стрельбищем.
– Слыхали? В десять у ворот зоопарка, – повторила Элька. – Тогда увидите.
Но она не сказала, что мы увидим, и пошла себе, а мы теперь слушали, как пан Коротек бьет свою жену ремнем, выдернутым из брюк, и как она взывает ко всем святым о помощи, по-видимому, неубедительно и без истинной веры, ибо через открытое окно то и дело доносились до нас смачные шлепки и отчаянные стоны. Вечером старики высыпали на лавки и посматривали на небо, отыскивая обещанную комету, а мы играли в футбол на высохшей траве возле прусских казарм. Петр, который в тот день наведался в Елитково, доложил, что «рыбный суп» приобрел цвет чернил и воняет хуже прежнего, а вход на пляж преграждают большие щиты с объявлениями, подписанными властями всех трех городов, примыкающих к заливу.
– Все, пора наконец с этим покончить. Почему эти мальчишки не были ни в лагере, ни в трудотряде, почему никто не позаботился занять их чем-нибудь, чтобы они не шлялись по гиблым местам, где постоянно находят неразорвавшиеся снаряды и патроны? Вы за это также несете ответственность. – Голос прокурора звучал теперь на высоких тонах, а директор больше не расслаблял галстук, так как тот был уже совсем развязан. – Почему ребята не уехали на каникулы, вы ведь знаете, – продолжал прокурор, – не хуже меня, что в этой среде (акцент он сделал на
Слова прокурора, а потом то, что говорили директор и М-ский, мы слушали затаив дыхание. Не все через приоткрытые двери кабинета, разумеется, было слышно в подробностях, но мы вполне могли сориентироваться, что они все еще идут по ложному следу. Потому что М-ский, директор, мужчина в форме и прокурор, который появился в канцелярии школы в семь часов, – все они полагали, что Вайзер и Элька взлетели прямо в небо сотнями или тысячами кусочков после взрыва в ложбине за стрельбищем. Они думали, что это разорвался снаряд. Одно только у них не сходилось – во время поисков не нашли ни клочка одежды или тела, и это их бесило, и они кричали на нас и угрожали, будто это была наша вина. Не верили, что там, в ложбине, мы видели Вайзера и Эльку, уходящих по дороге. Не подозревали, что наша последняя встреча состоялась действительно на следующий день на Стриже у взорванного моста, где речка протекала под железнодорожной насыпью в узком туннеле. Их сбивали с толку наши признания, и они считали, что со страху мы спрятали где-то останки тел, а сейчас врем, путаясь в объяснениях. Им даже не приходило в голову, что если бы все было именно так, то в конце концов мы бы рассказали, где закопаны обрывок рубахи Вайзера или лоскут красного платья Эльки.
– Немцы оставили после себя немало зарытых боеприпасов, – говорил прокурор, – и это самый трагический урожай войны, – (акцент на
Директор что-то путано объяснял, а потом М-ский рассказывал о растущей неприязни к массовым организациям, снижении боевого духа, ослаблении бдительности и так далее и завершил политикой Ватикана и непримиримой позицией духовенства, с которым у него самого часто – да, да – случаются конфликты. И рассказал прокурору о нашей встрече у брентовского кладбища – в доказательство, что говорит правду.
– Меня интересуют факты, – не дал себя сбить прокурор, – а не общие фразы. Мне нужно подробное описание ситуации в тот критический день. Вы, сержант, – (должно быть, он обратился к тому, в форме), – к рапорту приложите план местности – надеюсь, я не должен вас инструктировать, как это делается. Работайте как угодно, но к понедельнику рапорт должен быть готов, без всяких недомолвок и неясностей! Между прочим, – добавил он в заключение, – еще год назад эти мальчишки, – (это о нас), – сидели бы на Окоповой как диверсионная группа и даже Матерь Божия им бы не помогла! Да, да, – повторил он, выходя из кабинета, – времена и нравы меняются, – и прошел через канцелярию, оставив за собой резкий приторный запах одеколона.
– Вот загвоздка, – через минуту произнес М-ский (и, наверно, указал своим толстым пальцем на бумаги, которыми был завален стол директора). – В этих показаниях ничего не сходится, ни складу ни ладу!
– Они, – (это снова о нас), – бессовестно врут, – добавил сержант, – боятся, но врут.
– Врут, потому что боятся, – вы не поняли, сержант? – подхватил тему директор, и добрых несколько минут они перебрасывались словесными мячиками, а я тем временем размышлял, почему дед Вайзера, который был портным и очень редко выходил из дому, умер, когда начались поиски. К нему в дверь стучали, но никто не открывал, тогда ее высадили, и оказалось, что пан Вайзер умер от сердечного приступа. Кажется, его нашли сидящим на стуле, с головой, упершейся в старую швейную машинку марки «Зингер», над незавершенной работой. Была это, как я узнал намного позже, жилетка от костюма, заказанного вдовой капитана, почему именно вдовой, этого я не знаю. Пана Вайзера я вспоминал с некоторым страхом; его смерть, такая неожиданная, не могла быть случайной, сейчас я понимаю это ясно. Потому что всегда молчаливый дед Вайзера был единственным, кто мог бы рассказать, каким образом Элька и Вайзер ушли от нас в тот солнечный день и как случилось, что мы сами не могли понять это до конца.
Чтобы понять до конца, нужно было сделать приблизительно то, что я делаю сейчас, через двадцать с лишним лет. Нужно было припомнить все важные подробности, упорядочить их и рассмотреть все вместе, как рассматривают муху, застывшую миллион лет назад в кусочке золотистого янтаря. Но тогда никто не был к этому готов, ни Шимек, ни Петр, ни я сам. Никто из нас не связал бы тогда «рыбный суп» с облачком дыма, выпущенным ксендзом Дудаком в праздник Тела Господня, когда мы пели «Да благословен будь», никто не подумал бы даже, что засуха в тот год не была обычной засухой, и никто не допускал, что взрывы Вайзера в ложбине за стрельбищем имели какую-то связь с тем, что он вытворял в подвале бездействующего кирпичного завода, или со сверкающим корпусом «Ил-14», который вздымал красное платье Эльки и сотрясал все ее тело в кустах дрока. Наконец, даже если бы мы рассказали подробно о том, что видели в последний день над Стрижей за взорванным мостом, ни М-ский, ни директор, ни тот, в форме, и никто в мире не отнесся бы к этому всерьез. «Это невозможно, – сказали бы они, протирая очки, попивая кофе и одергивая манжеты рубашек. – Это невозможно, – сказали бы они, – вы опять лжете, зловредные дети». И снова допросы крутились бы, как прежде, вокруг последнего взрыва, на котором, по их мнению, все закончилось. Мы были вдобавок связаны обещанием, а точнее, клятвой, данной Вайзеру. Но я решил не забегать вперед, так что, пока еще я сидел в канцелярии между Шимеком и Петром, нога ныла у меня ужасно, а через открытое окно улетучивались остатки изысканного букета одеколона пана прокурора, который покинул школу ровно в половине восьмого.
– Войталь, – прозвучала в дверях кабинета фамилия Петра, – теперь ты. – И Петр вошел внутрь вместе с последним ударом стенных часов.
Почему прокурор употребил слово «Окоповая»? Сказал, что всего год назад мы сидели бы там все трое как диверсионная группа. Сегодня я знаю слишком хорошо, почему он так сказал, но в то время, когда Петр исчез за дверью кабинета и началась вторая, впрочем, даже третья серия допросов, слово, произнесенное прокурором, не давало мне покоя. Я вспоминал, как однажды днем, двумя годами раньше, у нашего дома остановилась грязно-зеленая машина и как из этой машины вышли двое в плащах, направились в квартиру пани Коротковой и вывели оттуда ее мужа, пана Коротека, пьяного в лоск, хотя это был вовсе не день получки. Взрослые говорили тогда – шепотом и по углам, – что пана Коротека взяли
На дворе все быстрее сгущались сумерки, когда директор вызвал сторожа в кабинет и тот ушел, оставив дверь полуоткрытой. Шепотом я обратился к Шимеку с предложением изменить показания: чем мы, в конце концов, навредим Вайзеру или Эльке, если расскажем, что случилось над Стрижей на следующий день после взрыва в ложбине? Где-нибудь поблизости все равно их не найдут, это уж точно, а если найдут где-то в другом месте – тем более мы им не навредим. Но Шимек не согласился. Всегда, всю школу он твердо стоял на своем, а на допросах решил держаться еще тверже. Стиснул зубы, я видел это четко, и отрицательно помотал головой. Так же он отвечал, когда я навестил его в далеком городе и выспрашивал о тех каникулах, когда в заливе образовался «рыбный суп» и Вайзер с Элькой вместе ходили на аэродром. Он не желал возвращаться к школьным годам и ничем не хотел мне помочь, не помнил или не хотел помнить серое облачко из золотой кадильницы ксендза Дудака, а по поводу Вайзера проронил несколько банальных, плоских фраз. То была его новая, взрослая твердость, против которой, впрочем, я ничего не имею, так как Шимек единственный из нас добился чего-то в жизни. Тем временем сторож вышел из кабинета с фаянсовым кофейником в руках и велел мне сбегать в туалет за водой. Я шел пустым коридором и думал, что нет ничего печальней опустевшего школьного коридора, ведущего неизвестно куда, меланхолически-пустого и словно совсем не того, в котором несколько часов назад галдели сотни мальцов и старшеклассников. Я жалел, что у меня нет яда молниеносного действия. Но я наплевал в кофейник, видя перед собой вылупленные глаза М-ского, и белую пену размешал пальцем, чтобы она растворилась. Когда я вернулся в канцелярию, Шимек был уже в кабинете, а Петр сидел на складном стуле, как и раньше, слева от меня. Сторож принес из сторожки кипятильник и начал греть воду тут же, чтобы не выпускать нас из виду. Вода лениво урчала, тихо тикали часы, сделалось сонно и тепло.
На следующий день у нас была договоренность с Вайзером встретиться у главных ворот оливского зоопарка. Было ли это запланировано или произошло из-за того, что рассвирепевшая Элька едва не вспахала физиономию Шимека ногтями? Ни в чем у меня нет уверенности. Впрочем – разве можно сказать: «договоренность»? Он попросту эту встречу нам назначил, как суверен вассалам, устами герольда. Тогда, ясное дело, я ничего такого не почувствовал, но уже в канцелярии на складном стуле, когда шумела, закипая, вода для кофе и тикали стенные часы, уже тогда у меня появилось смутное ощущение, что Вайзер стал с той минуты нашим сувереном, и ничто этого изменить не могло. Теперь я вижу, что первую часть ненаписанной книги о нем я должен бы начать со слов «Ладно, скажи им, пусть завтра в десять приходят к зоопарку, к главному входу», которые Вайзер произнес из окна на втором этаже, откуда долетало до нас знакомое стрекотание швейной машинки. Об этом, впрочем, я уже говорил, и если я повторяю кое-что и не вымарываю, как в школьном сочинении, то лишь потому, что сейчас я пишу вовсе не книгу. Быть может, вместе с Элькой, Шимеком и Петром мы могли бы написать такую книгу, но – впрочем, и об этом уже говорилось – Шимек предпочитает ничего не помнить, Элька не отвечает на письма даже после моей поездки в Германию, а Петр погиб на улице в декабре семидесятого года и лежит на пятой аллее кладбища в Сребжиске.
На уроках естествознания М-ский не раз подчеркивал, что такого зоологического сада, как в Оливе, не постыдился бы любой европейский город. Не знаю, что он имел в виду – что мы живем не в Европе или что кроме зоологического сада нам есть чего стыдиться. Но зоопарк действительно был прекрасно расположен, вдали от города, в глубокой долине Оливского потока, который бежал в этом месте меж семью холмами, заросшими смешанным сосново-буковым лесом. Косули резвились здесь на лесных полянах, освещенных солнцем, лоси обитали в темных, мрачных болотах, волки – в норах, вырытых в откосах, а кенгуру прыгали по целине, заросшей розовым клевером и щавелем. Только хищные звери, в частности привезенные из тропических стран, содержались в тесных вольерах намного хуже, на какой-нибудь полусотне квадратных метров за железными решетками. Тогда это ускользало от нашего внимания, но сегодня, когда я вообще не посещаю зоопарки, фраза М-ского о самом прекрасном зоопарке в Европе звучит очень смешно и глупо. Как если бы мы, бродя по чужому городу, вдруг услышали от гида: «Обратите внимание, господа, вот самая лучшая тюрьма, которая когда-либо была выстроена в нашем городе, а может быть, и во всей Европе».
Нынешние туристы или жители города отправляются в зоопарк на автобусе от трамвайного круга в Оливе. Но тогда автобусов было, кажется, поменьше, и путь от круга вдоль аббатства цистерцианцев приходилось проделать пешком. Мы миновали тенистые склоны Пахолека, где еще стоял тогда обелиск с немецкой надписью, прошли вдоль прудов старой усадьбы, теперь заросших и заболоченных, вдыхая горячую пыль, смешанную с запахом цветущих лип, которыми обсажена была дорога, и наконец, уже немного уставшие, увидели холмы, обрамляющие Долину Радости, – в их правое крыло упирался зоопарк. Наконец увидели прислонившегося к воротам Вайзера, который в тот день был одет в зеленые брюки и светло-голубую рубашку покроя русской косоворотки, что выглядело неестественно и смешно, словно одежка со старшего брата. Первой к Вайзеру подошла наша троица, потом Янек Липский, сын путейца из Лиды, родившийся в железнодорожном вагоне, потом Кшисек Барский, сын варшавского повстанца и гданьской лавочницы, за ним к воротам зоопарка подошел Лешек Жвирелло, который всегда носил чистые рубашки и, в отличие от нас, говорил «простите» и «благодарю», по-видимому, по причине шляхетского происхождения его отца, а хоровод замыкала в тот день тихая как мышка Бася Шевчик. Ее отец бросил после войны работу в шахте и приехал сюда искать счастья и мачеху для своей дочки. Мы окружили Вайзера.
– Ну так что? – спросил Шимек. – Что ты нам теперь покажешь?
Вайзер провел нас к потайной лазейке, через которую мы вошли без билетов, а потом провел вдоль вольеров, задерживаясь подольше там, где хотел. Останавливаясь, он опирался на ограду, и мы не знали, зачем он так долго разглядывает ленивую ламу или что он видит в тюленях, которые в такую жару почти не высовывались из воды. У клеток с птицами ждала Элька; помню, она уставилась на огромных аргентинских сипов. Их черные крылья в солнечных лучах отливали синеватым блеском, головы медленно покачивались, будто птицы дремали. Потом мы миновали террариум, но Вайзер туда не вошел, так что мы двинулись за ним к клеткам с павианами и шимпанзе. Тут столпилось много весело гомонящих людей. Обалдевший шимпанзе то и дело швырял в публику горсть песка, и та не оставалась в долгу – люди свистели, топали и бросали огрызки в сетку клетки. Шимпанзе время от времени задирал голову и скреб шерсть на макушке, точно как М-ский, когда забывал что-то важное. Но то была обезьянья хитрость – через минуту шимпанзе наклонял голову ниже пупка, сикал себе в пасть, и внезапно узкая струя прыскала сквозь сжатые губы, как из пожарного шланга, в стоящих поблизости людей. Каждый раз шимпанзе оказывался хитрее своих противников, и зрителям из первых рядов приходилось вытирать желтую вонючую пену с лица и с одежды. Забава нам очень понравилась, и мы совсем забыли о Вайзере, который, однако, не смеялся над этим состязанием. Наконец шимпанзе спрятался в глубине клетки, толпа разошлась, и мы выжидающе смотрели на Вайзера, ведь если он хотел нам показать только это – как предполагали некоторые, – то это просто липа и фигня. Но Вайзер, испытывая наше терпение, постоял там еще с минуту, а потом направился к хищникам. Их клетки даже сегодня, когда я это пишу, должно быть, источают особый, не такой, как у других животных, запах, отличающийся от запаха обезьян, слона, от запаха всех рогатых и безрогих, – таким он был тогда и таким я помню его поныне – сладковатый, тошнотворный, поднимающийся узкими струйками в вязком воздухе июля, отталкивающий запах заплесневелого логова африканских львов, бенгальского тигра и черной пантеры, которая возлежала на высохшем голом суку.
Вайзер остановился перед ней. Элька приложила палец к губам и жестом велела нам отступить назад, чтобы ему не мешать. Вайзер неподвижно стоял к нам спиной, стоял несколько долгих минут, пока от клетки не отошли другие люди, и тогда мы увидели, что до сих пор дремавшая пантера – видно, было время ее полуденной сиесты – медленно поднимает голову. Ее губы с длинными иглами усов слегка приоткрылись, пантера словно икнула, но то было только начало. Губы, подрагивая, раскрывались все больше, и из-под черного бархата теперь показались два ряда белых острых зубов. Мы услышали первый неясный звук, который сразу же перешел в глубокое глухое урчание. Пантера плавным, мягким движением соскользнула на пол и, ощетинившись, приблизилась к решетке, ее хвост незаметно дрогнул, после чего стал ритмично, как маятник часов, все сильнее хлестать по лоснящимся бокам. Теперь зверь, касаясь мордой железных прутьев, стоял напротив Вайзера, а то, что недавно было урчанием, превратилось вдруг в гортанное бульканье, в котором бой походного барабана смешивался с гулом бурного потока, а осенний ураган – с пасхальными колоколами. Пантера неистовствовала у решетки, била лапой в цементный пол, то опускала, то снова задирала морду и наконец поднялась на задние лапы, передними упершись в прутья, и мы увидели, как она выпускает толстые кривые когти. Но и это было еще не все. Вайзер перелез через барьерчик, отделяющий его от клетки, и стоял теперь так близко от железных прутьев, что мог бы, наклонившись чуть-чуть, коснуться лбом когтей кошки. Пантера застыла. И вдруг гортанное бульканье перешло в сдавленное рычание, и зверь, все еще с вздыбленной шерстью и бьющим по бокам хвостом, стал отступать назад, не отрывая глаз от Вайзера. Это было невероятно. Пантера отползала вглубь клетки, очень медленно, брюхом шаркая по бетонному полу, своими раскосыми прищуренными глазами, сверкающими, как неподвижные зеркальца, она вперилась в Вайзера. Когда ее хвост коснулся задней стены вольера, она села, съежившись, в угол и наконец опустила глаза, дрожа всем телом. Каждая мышца под натянувшейся шкурой дрожала, как от холода, и огромный зверь напоминал теперь собачонку-крысоловку пани Коротковой, которая забивалась в угол двора, стоило топнуть ногой. Мы стояли молча. Вайзер подошел к нам, Элька подала ему платок, и он стал вытирать капли пота со лба, как после тяжелой работы. Но на этом не кончился день, проведенный с Вайзером, так же как и не закончилась история того лета, когда в водах залива варилась «уха» и люди в костелах молились о дожде.
Вайзер показал нам другую дорогу домой, не ту, по которой мы пришли к оливскому зоопарку. Не было ни трамвайного круга, ни разболтанного трамвая номер два, который, курсируя тогда между Угольным базаром и Оливой, проезжал мимо депо, нашей школы и нашего дома. Зато была дорога в Долине Радости, в горку, мимо бездействующей кузницы цистерцианцев у речки, была высокая, выше колен, трава на холме, откуда, как с Буковой горки, видно было море, были глубокие овраги и расщелины в тени буковых листьев и была узкая песчаная дорога через старую сосновую посадку, которая местами смешивалась с березовыми рощицами и густым орешником. Сейчас это звучит как лирическое хныканье по утраченному раю, но, когда Вайзер показал нам место рядом с источником, где Фридрих Великий отдыхал во время охоты, или когда на пронизанной солнцем поляне затопотали вспугнутые косули, или когда мы собирали полными горстями сладкую малину, тогда это был для нас рай обретенный, далекий от города и заманчиво притягательный, как сумрачная прохлада собора в жаркий день. Вайзер шел впереди и обращался вроде бы к Эльке, но на самом деле к нам: вот сюда зимой приходят кабаны; или: о, вот дорога на Матемблево; либо: вон там самый большой муравейник красных муравьев з заячьими головами. С особым удовольствием показывал он места, где лес был иссечен окопами, остатками последней войны, и в таком же духе пояснял: это воронка от мины; или: это окоп для самоходки, – и мы слушали его затаив дыхание. Но наконец он вывел нас ложбиной за стрельбищем на край морены, откуда мы увидели башенку кирпичного костела в Брентове и хорошо знакомые очертания кладбища. И хотя этой самой дорогой я ходил позже туда и обратно, сам либо с приятелями, летом пешком или на велосипеде, зимой на лыжах, и, хотя называл эту дорогу, насчитывающую шесть с половиной километров, дорогой Вайзера, никогда, даже сейчас, когда она всего лишь синяя ниточка в заповедном парке, описанная в путеводителе, – никогда я не мог припомнить, показывал ли Вайзер, ведя нас обратно домой, все это нам просто рукой или держал в руке суковатую палку, на которую он мог опираться как на жезл. Ведь мы возвращались домой, и он нас вел, будто мы с того дня были его народом.
А вечером мы сидели на лавке под каштаном, и Петр рассуждал, что бы было, если бы черную пантеру не отделяла от Вайзера железная решетка. «Было бы как в цирке, – утверждал Шимек, – там дикие звери тоже слушаются человека и даже едят с руки». Но я говорил, что Вайзер не дрессировщик, у него нет ни высоких блестящих сапог, ни бича, ни белой рубашки с бабочкой, да и не дрессирует он черную пантеру каждый день. Нужно сказать, с этим мы согласились без споров и надумали еще раз испытать Вайзера, может, на другом звере и не обязательно в зоопарке. Не знали мы только, что в последующие дни Вайзер снова будет ходить своими дорожками, и сомнения наши для такого, как он, не имеют ни малейшего значения. Из подъезда вышла мать Эльки и задержалась на минуту. «Что сидите, мальчики, – сказала она с упреком. – Пошли бы лучше в костел, сегодня ксендз отправляет службу, а?» И сразу же направилась мощенной булыжником улицей к костелу Воскресения, успев еще сказать нам, что вчера над заливом видели огромную комету и ничего хорошего ожидать не приходится.
Тем временем сторож сварил кофе и понес кофейник в кабинет директора. Зазвонил телефон, и, когда я услышал усталый голос М-ского, который снял трубку, я застыл. «Да, пан Хеллер, – говорил М-ский, – ваш сын здесь, с нами, да, передаю трубку товарищу директору». И дальше уже говорил директор, собственно, не говорил, а только отвечал на вопросы моего отца. «Вовсе нет, – объяснял он вежливо, – ваш сын ни в чем не обвиняется, его только допрашивает наша комиссия, мы действуем по приказу прокурора, нет, нет, мы не обвиняем вашего сына в том, что случилось, следствие однозначно указывает на этого Вайзера, мы должны только выяснить все обстоятельства трагедии, поймите, все обстоятельства!» Но отец, очевидно, не сдавался, так как директор повысил голос: «Не нужно нервничать, я не вижу причин подавать жалобы. Это не беззаконное задержание. Лучше задумайтесь, пан Хеллер, почему он ходил туда без ведома старших, в конце концов вашему ребенку грозила большая опасность, а вы как отец ничего не сделали, чтобы…» – Тут директор надолго умолк, и я догадался, что причиной тому был один из бурных взрывов отца, который, обычно спокойный, если уж впадал в гнев, то не считался ни с чем и ни с кем. Я даже пожалел, что его нет с нами, так как увидел вдруг М-ского вылетающим в окно, директора – висящим на своем галстуке под потолком, а этого, в форме, – расплющенным на двери кабинета, и как-то удивительно хорошо стало у меня на душе, когда я обо всем этом подумал. А отец все еще продолжал говорить, поскольку директор только покашливал в трубку и, наверно, вертелся в своем кресле и свободной рукой поправлял, должно быть, узел своего галстука, пока наконец резко не прервал: «Нет, это исключено, школа заперта до завершения нашей работы» – и еще сказал (помню это хорошо): «До свидания, пан Хеллер». Совсем как в кино или в романе: «До свидания, пан Хеллер», и трубка плюхнулась на рычаг.
На улице было уже темно, горели фонари. Их свет проникал в канцелярию, и, пока сторож не повернул выключатель, мы сидели в бледно-желтом снопе света, как святоши в костеле после давно завершенной службы. А я размышлял, почему у Вайзера не было родителей и он жил только со своим дедом. Я так и не узнал, ни тогда, ни потом, кто были его отец и мать. Возможно, человек, который жил в одиннадцатой квартире и занимался шитьем, был только его названым дедом, даже не обязательно родственником. Да только никто не мог этого прояснить ни тогда, ни позднее, когда спустя много лет не без хитрости удалось мне заглянуть в школьные бумаги Вайзера и когда я добрался до соответствующих документов в городском архиве. Старые классные журналы были уже в то время ликвидированы, но остались ведомости с отметками, где выцветшими чернилами было записано: «фамилия – Вайзер», «имя – Давид», «род. – 10.09.45». Рубрика «место рождения», поделенная на две графы – воеводскую и районную, – была не заполнена, и только внизу кто-то написал чернильным карандашом: «Броды», а в скобках значилось еще: «СССР». В рубрике «отец, мать» та же рука сначала поставила чернилами горизонтальные черточки, а позже дописала копировальным карандашом: «сирота». И дальше тем же почерком внесена информация: «законный опекун – А. Вайзер, проживающий…» – и тут вписан был наш адрес, то есть адрес нашего дома с номером квартиры Вайзера. Сегодня, когда все это я вылавливаю из памяти, как крошки янтаря из мутной воды залива, родители Вайзера возникают в виде двух горизонтальных черточек, проведенных чернилами в ведомости. Отдел учета населения в городском управлении никакими другими сведениями об этом не располагал. В окошечко, напоминающее кассу захудалого вокзала, рука служащей протянула мне маленькую карточку, из которой я узнал следующее: «Авраам Вайзер, национальность – еврей, гражданство – польское, родился в Кривом Роге (СССР) в 1879 году, прибыл в Гданьск в 1946 году как репатриант». Нет никаких упоминаний о детях, которые прибыли бы с ним. Только в сорок восьмом, то есть через два года, Авраам Вайзер заявил, что под его опекой находится мальчик, по национальности поляк, гражданство – польское, родившийся в Бродах 10.09.45 года. Данные о родителях отсутствуют, нет также никаких копий свидетельства о рождении ребенка. Авраам Вайзер утверждал, что ребенок является его внуком, но в рубрике «родители» не записано ничего о матери или об отце мальчика. Почему так случилось – никто не в состоянии объяснить. Так же как не выяснены до сих пор причины исчезновения двенадцатилетнего Давида Вайзера, который, вероятно, погиб в брентовском лесу в августе 1957 года от взрыва старого снаряда. Что касается смерти Авраама Вайзера, тут нет никаких сомнений – о ней свидетельствует акт, составленный врачом воеводской больницы, который тогда дежурил. «Желаете получить номер этого акта?» – спросила служащая, наблюдая, как я продолжаю стоять у окошка и как мимо меня по темному мрачному коридору снуют молчаливые люди, но у меня уже не было вопросов, по крайней мере ни к ней, ни к кому-то из этих людей, носивших взад-вперед карточки, формуляры, прошения, резолюции, выписки, копии, приказы, повестки, свидетельства и прочую макулатуру, которой обрастает жизнь, даже после смерти. Не было у меня уже никаких вопросов, а точнее, оставался все тот же вопрос: кем же, в конце концов, был Вайзер, если не внуком Авраама Вайзера, и если не был он его внуком, то почему носил ту же фамилию и была ли то его настоящая фамилия, а также почему Авраам Вайзер, заявляя в анкете учета населения о мальчике и выдавая его за своего внука, не указал, кем были его родители? Ведь если то был его настоящий внук, кровь от крови, плоть от плоти, то отец Давида был сыном Авраама Вайзера либо его зятем, мать Давида была дочерью Авраама Вайзера либо его невесткой, так что он должен был знать имена дочки и зятя либо сына и невестки, и, даже если их прикрыл слой песка или они умерли от мороза или от тифа, он должен был это знать, но не хотел заявить либо хотел заявить, но не знал ничего или мало. Но тогда Давид Вайзер вовсе не был бы Давидом, не был бы его внуком, не был бы евреем и не родился бы в Бродах и даже не обязательно в сорок пятом году. Да, тогда, после войны, когда тысячи людей устремлялись с востока на запад, с юга на север и с запада на восток, тогда пропадали бумаги и можно было заявить разное, так как не все удавалось проверить. Исчезновения и чудесные воскресения были, похоже, тогда хлебом насущным для чиновников отдела учета населения, и Авраам Вайзер мог с успехом утверждать, что мальчик – его внук, что зовут его Давид и он носит ту самую фамилию, что и дед, и даже то, что он поляк по национальности, но это, может быть, лишь потому, что тот народ перестал существовать вовсе. Попросту, когда Авраам Вайзер заполнял формуляр, его народ исчез из Европы, и поэтому он записал или велел записать мальчика поляком, ведь гражданство – вещь второстепенная в такую эпоху, которую он пережил где-то на юго-востоке среди украинцев, немцев, русских, поляков, евреев, армян и бог весть кого там еще, думал я, выходя из темного здания управления, и увидел еще раз две горизонтальные черточки в учебной ведомости Вайзера, две линии, прочерченные бледнеющими год от года чернилами. И теперь, когда я это пишу, я их тоже вижу, хотя чернила, может быть, выцвели совершенно и рубрика «отец, мать» выглядит так, будто там никогда ничего не было написано.
Все, вместо того чтобы проясниться, еще больше усложнилось, но тогда, в канцелярии, после звонка моего отца, пришедшего в ярость и обругавшего директора и все школы на свете, я допускал, что неожиданная смерть пана Вайзера, этот внезапный сердечный приступ – все это сотворил сам Вайзер. Если он мог укротить дикого зверя, если делал на заброшенном кирпичном заводе нечто такое, от чего волосы у нас вставали дыбом, о чем ниже я еще напишу, – если Вайзер мог творить такое, то почему не мог бы он замедлить вдруг ритм сердца своего деда? – думал я. Почему не мог бы освободить его от швейной машинки, иголок, мела, лекал, подкладки и пуговиц, над которыми тот корпел, сгорбившись, целыми днями, – почему бы он не мог это сделать, чтобы уж никто ни о чем у старика не спрашивал? Вайзер убрал свидетеля, и сегодня я должен признать, что, когда Петр погиб в семидесятом на улице, а Элька уехала в Германию, я думал так же – что Вайзер просто убирает их отсюда разными способами, поскольку отъезд Шимека в далёкий город тоже был своего рода устранением его за пределы чего-то, чего я понять не мог, но что для Вайзера было определенно важно. А тогда, в канцелярии, я сильно испугался, что все следствие – это испытание, которому подверг нас Вайзер, и если что-то пойдет не так, то он попридержит ритм наших сердец так же, как проделал это с сердцем своего деда. Тем временем в кабинете подозрительно долго задерживали Шимека, а я вспоминал день, в который не пошел играть в футбол на стадион у прусских казарм, благодаря чему Вайзер и Элька взяли меня на прогулку, и оказалась она весьма необычной. Но все по порядку.
На следующий день после зоопарка утром мать послала меня в магазин Пирсона за зеленью. Я любил туда ходить, в прохладном помещении пахло овощами, ящики ломились от яблок, а к стеклянной витрине приковывали взор штабеля леденцов и разноцветные мышки из крахмала по двадцать пять грошей за штуку. Жена хозяина, обслуживающая покупателей за деревянным прилавком, обладательница огромных, как глиняные горшки, грудей и очень веселого нрава, живо передвигалась, подавая товар, груди ее летали под ситцевым платьем и грязным фартуком, как пружинистые половинки арбуза. И если от покупок оставался злотый лишку, можно было на него купить горсть леденцов или четыре крахмальные мышки разного цвета либо выпить лимонаду из бутылки с фаянсовой крышечкой на пружинке из толстой проволоки. Это и были те самые
Итак, я стоял у бетонного пристенка перед магазином Пирсона и, глядя в темно-зеленое стекло бутылки, пытался угадать, какой это окажется лимонад – желтый или красный, – когда в пыли улицы увидел ребят, направляющихся в сторону прусских казарм. Во главе маршировал Петр с настоящим мячом под мышкой, и я вспомнил, что сегодня мы как раз должны были опробовать этот мяч, который вчера Петр получил от богатого дядюшки. Кожаный мяч – это уже не пустяк, до сих пор мы играли резиновым, который не выдерживал больше месяца, а теперь, благодаря дядюшке Петра, мы могли почувствовать себя настоящими профессионалами. Они подошли, я уже издалека слышал их крики: красный! – желтый! – красный! – желтый! – говорю тебе, красный! – да нет, желтый! – и когда я поддел пальцем пружинку и подскочила фаянсовая крышка с резиновой прокладкой, все заорали: красный, красный! – и мы пили красный лимонад, каждый по глотку, как всегда, когда кому-то из нас удавалось продать бутылки или осталась сдача от денег на покупки. Ребята пошли на стадион, а я должен был занести матери зелень, и, когда, скатившись вниз по лестнице, уже выбегал из подъезда, я увидел Вайзера и Эльку, идущих по тротуару в сторону Оливы. Что-то стукнуло меня, как тогда, в тот день, когда с Шимеком и французским биноклем мы следили за ними с виадука вблизи аэродрома, и, хотя рядом не было ни Шимека, ни его бинокля, я решил пойти за ними. Наша улица, как и теперь, бежала длинной дугой параллельно трамвайной линии на расстоянии каких-то двухсот метров от нее и только возле стены депо круто сворачивала влево, рядом с одним из взорванных мостов несуществующей железной дороги. Мысленно я подавал мяч на левый край Шимеку, и он мчался как ураган, обходя защитников слева и справа, что не мешало мне следить за Вайзером и Элькой. Они свернули за разрушенный бык как раз в момент удара по воротам. Я ускорил шаг, чтобы поспеть к возможному добавочному пасу и чтобы не потерять из виду тех двоих, но вместо гола был угловой, а Вайзер с Элькой ждали меня сразу за той мостовой опорой. «Тебе вовсе не обязательно шпионить за нами, – сказала Элька, поглядывая то на меня, то на Вайзера. – Если хочешь, пойдем с нами, он согласен», – и снова повернула голову в его сторону. Я принял предложение, хотя Шимек в этот момент наверняка всаживал очередной гол, однако я вообразил Вайзера один на один с диким ягуаром безо всякой клетки или всю нашу троицу под сверкающим корпусом «Ила» на краю взлетной полосы – и от одной мысли об этом меня пробрала дрожь.
Но Вайзер никогда не повторялся, по крайней мере если его мог увидеть кто-нибудь из нас. Возможно, с Элькой было иначе, даже наверняка, но ведь с Элькой Вайзер был все время, а с нами – когда хотел. И в тот день захотел, не знаю, конечно, почему, чтобы я пошел вместе с ним и Элькой, хотя не было ни диких зверей, ни ревущего самолета. Было обычное посещение разных мест, поначалу даже скучноватое, потому что не все, что тогда Вайзер говорил, а обращался он, собственно, только к Эльке, не все было мне до конца ясно и понятно. На улице Полянки он остановился перед одним из тех старых домов, о которых говорили, что тут жили богатые немцы. И такой состоялся между ним и Элькой разговор:
– Вот видишь, тут жил когда-то Шопенгауэр и под этими каштанами осенью прогуливался.
– А кто такой Шопенгауэр? – спрашивает Элька.
– Это был великий немецкий философ, очень знаменитый.
– Ой как интересно, но чем же философ занимается, что такой знаменитый?
– Не всякий философ так знаменит, как он, – отвечает Вайзер.
– Но что такой философ делает? – теряет терпение Элька. – Знаменитый или нет, но должен он чем-то заниматься, верно?
– Философ все знает о жизни, понимаешь? И знает, какая она, жизнь, то есть хорошая или плохая. Он также знает, почему звезды не падают на Землю, а реки текут вниз. И если хочет, пишет об этом в книгах, и люди могут это читать.
– И всё? – спрашивает недоверчиво Элька.
– Всё, – отвечает Вайзер. – О смерти тоже философ знает очень много.
– О смерти?
– Ну, как умирают, – заключает Вайзер, – философ обязан об этом думать, даже когда гуляет под каштанами.
И когда мы были уже возле следующего дома, похожего на усадьбу и задвинутого от улицы метров на тридцать вглубь, в сторону леса, и когда поравнялись с поваленными воротами перед ведущей к нему липовой аллеей, Элька еще спросила:
– А ты – философ, да?
– Нет, – ответил Вайзер, – с чего бы?
– Так откуда же ты все это знаешь? – добавила она быстро.
– Знаю от дедушки, – так же быстро объяснил Вайзер. – Мой дедушка – величайший в мире философ, но не пишет книг.
Так, помнится, завершил ту беседу Вайзер, кажется, я ничего не упустил, ничего, что сегодня мне бы казалось существенным, но когда я вспоминаю его ответы, то чувствую, как мурашки бегут по спине, так же как в тот день, когда «Ил» задирал красное платье Эльки в кустах дрока, или когда Вайзер укротил черную пантеру, или когда в подвале заброшенного кирпичного завода сделал то, от чего волосы у нас встали дыбом. Я не знал, занимался ли дед Вайзера, кроме шитья на машинке, еще чем-нибудь, и в частности философией. Так что же было дальше?
В оливском соборе Вайзер показал нам готические своды и большой орган, объяснил, для чего служат ангелам медные трубы, немного смахивающие на сабли, такие же кривые и длинные. А когда мы остановились на мостике в парке, чтобы посмотреть, как отражаются в уходящей из-под наших ног воде башни собора, Элька спросила у него, может ли окунь, шныряющий между водорослями, что-нибудь сказать. Вопрос был глупый, как раз в стиле Эльки: с чего это окунь вдруг заговорит, ведь почти на каждом уроке естествознания М-ский твердил, что мы должны сидеть тихо, как рыбы, а если даже так, то с кем бы этому окуню, поблескивающему на солнце, разговаривать – с нами или со своими рыбьими родичами? – так я тогда подумал, но Вайзер отвечал вполне серьезно. Скорее рассказывал, а не отвечал, и снова речь пошла о дедушке, величайшем философе, который до войны вовсе не был портным, а ездил по деревням как бродячий стекольщик, а когда зарабатывал достаточно денег, уходил в горы и разговаривал там со всем, что сотворил Бог, – с птицей, с камнем, с водой, с рыбой, облаком, деревом и цветком. Так оно было по словам Вайзера, а я стоял, опершись о сучковатые перила моста, раззявив, как говорится, рот, стоял и смотрел то на него, то снова на виднеющиеся за башнями собора склоны Пахолека; никогда раньше я не был в настоящих горах, и когда Вайзер говорил, что его дед не раз проводил в горах по полгода, то мне казалось, что я вижу пана Вайзера среди буковых деревьев именно на склоне Пахолека, с ухом, приложенным к земле или к ручью, без проволочных очков и сантиметра, висящего на шее. Да. Сегодня я ни в чем не уверен, может быть, Вайзер придумал эту историю с дедом от начала до конца, но даже если он врал с известной только ему целью, то образ этот, образ пана Вайзера с ухом, прижатым к земле на горе Пахолек за собором, – один из прекраснейших, дарованных мне жизнью.
А позже на «двойке» Вайзер повез нас во Вжещ, специально чтобы показать Эльке еще один дом, на этот раз не философа, а Шихау, который до войны, когда этот район города назывался Лангфур, был владельцем верфи и, наверно, был очень богат, потому что дом действительно огромный, с несколькими входами и круглыми башенками, которые Эльке понравились больше всего. «Совсем как в сказке, – со смехом сказала она Вайзеру, показывая пальцем на башенку с окном. – Я бы хотела там жить и чтоб меня охранял дракон, а ты бы пришел и освободил меня из рук злого чернокнижника, или нет, лучше бы ты был Мерлином и мучил меня ужасно, превращал в лягушку, или жабу, или паука, а я бы страшно плакала и никто бы меня не освободил», – и Элька продолжала свои тары-бары, Вайзер ничего не говорил, а я размышлял: зачем этот Шихау и ему подобные богачи строили такие странные дома? Зачем им эти непрактичные башенки, эти выкрутасы, завитушки, эти остроконечные крыши, балкончики и балюстрады? И я подумал тогда, что это, верно, от скуки, потому что, когда М-ский на уроках естествознания рассказывал нам об эксплуатации и классовой борьбе, то именно так он выражался о богачах: мол, от скуки они делали самые ужасные вещи, стреляли в рабочих, отбирали у них жен и дочерей и вообще были дегенеративными и аморальными, потому что им нечего было делать. К счастью, мне не нужно сегодня вспоминать, что М-ский считал хорошим и моральным, но тогда я представлял себе Шихау, как он сидит в своем кабинете, толстый, жирный, обливаясь потом, курит сигару, а за окном по Ясековой долине – именно так невинно эта улица домов с башенками называется, – так вот, за окном маршируют наши отцы и поют «Когда народ поднялся в бой», и господин Шихау снимает пальцами, толстыми, как сардельки, трубку золотого телефона и вызывает полицию: он, господин Шихау, уже сыт по горло криками за окном его виллы, и пора уже навести тут порядок. Наши отцы, правда, никогда не маршировали перед домом господина Шихау по Ясековой долине и не пели «Когда народ поднялся в бой», но в семидесятом люди шли мимо комитета партии и пели «Вставай, проклятьем заклейменвый, весь мир голодных и рабов». И Петр вышел на улицу посмотреть, что происходит, и получил пулю в голову. Но то другая история, никак уже с Вайзером не связанная.
От дома Шихау мы вернулись на трамвайную остановку, и Вайзер повез нас в Гданьск. Поныне не знаю, был ли у них запланирован этот маршрут, или они что-то изменили в связи с моим присутствием? А может, вообще не было никакого маршрута, никакого плана и Вайзер в тот день таскал за собой Эльку просто так, чтобы что-то показать ей, чтоб провести время? Не очень я в это верю, но и разумного ответа у меня нет. Не знаю я также, откуда Вайзер черпал свои познания, которые тогда казались мне чрезвычайно глубокими. Когда он показывал нам здание Польской почты, я невольно восхищался и изумлялся – откуда он все это знает? «Вот здесь стоял немецкий броневик, – показывал он рукой. – А отсюда солдаты поливали из огнеметов, а там подальше стояли „цекаэмы" – станковые пулеметы, – а там, вон в том месте, с крыши свалился немецкий солдат, один с почты попал ему прямо в голову, а отсюда их выводили», – и говорил он все это очень свободно, будто сам был там и видел своими глазами броневик, огнеметы и «цекаэмы». А когда мы были на Длинном базаре, он рассказал нам, в каком месте стоял партайгеноссе гауляйтер Форстер, когда объявлял о присоединении нашего города к Тысячелетнему рейху. Этого ведь он не мог узнать ни от деда, ни из учебника истории: историки, даже самые скрупулезные, не занимаются такими мелочами. И ни один из них и словом не вспоминает, в каком месте Фридрих Великий, охотясь в оливских лесах, остановился на отдых. Уже тогда, сидя в школьной канцелярии, я знал, что Вайзер с особым пристрастием разыскивал немецкие следы, но по какой причине, не мог постичь ни тогда, ни теперь, когда вспоминаю его коллекцию марок или склад боеприпасов на заброшенном кирпичном заводе и взрывы в ложбине за стрельбищем. Ржавый «шмайсер», который он подарил нам на брентовском кладбище, когда Шимек собирался начать экзекуцию, и о потере которого мы долго горевали после бегства сумасшедшего в желтом халате, – тот «шмайсер» был всего лишь жалким отбросом его коллекции, как оказалось позже, когда мы выследили Вайзера и Эльку в их тайнике.
Но пока что с Длинного базара мы вернулись к трамваю, и, когда тряский вагон уносил нас к Вжещу, я опять думал о новом мяче Петра, о пасах Шимека и о том, что еще в тот же день мы будем играть после обеда на лужайке у прусских казарм. И действительно – мы играли в тот же день, только то был не обычный матч: если бы он был обычный, такой, как все, и если бы не был связан с Вайзером, я не вспоминал бы о нем. Но все по порядку. Пока я шатался с Элькой и Вайзером, ребята играли на траве у прусских казарм, наслаждаясь ударами по настоящему кожаному мячу. Именно с него начались несчастья того дня, еще раз повторю, чтобы не было сомнений: несчастья того дня, а не несчастья вообще. На стадион где-то через час игры пришли армейские. Конечно, не солдаты в мундирах, а всего лишь мальчишки, жившие в новых корпусах за казармами – их отцы были военными. Они были чуть старше нас и лучше одеты и вечно строили из себя важных персон. Наверно, потому, что у их матерей были стиральные машины и собственные ванные, не то что у нас – у нас, как я уже упоминал, была одна ванная на этаж, а стиральная машина – только у отца Лешека Жвирелло. Так что те страшно важничали, но такого мяча, как у нас, у них не было, и глаза у них жадно заблестели. Сначала они стояли сбоку и смотрели, как мы гоняем мяч, и каждую минуту мешали, бросали камешки или громко смеялись, зачем, мол, нам такой мяч, раз мы не умеем играть, покрикивали, что лучше дадут нам обыкновенный тряпичный, хорошего для нас жалко. Это разозлило Шимека, он подошел к их главарю и сказал, чтобы они сыграли с нами, тогда и посмотрим. Те были хитрые. «Идет, – сказали они, – но, если проиграете – мяч наш». Наши согласились, и Петр тоже согласился, речь тут шла не о мяче, а о чести, как на войне.
Разбились на команды по шестеро плюс вратарь и решили, что матч будет настоящим, то есть в двух таймах, один с утра, а другой после обеда, когда чуть-чуть посвежеет. И хотя Шимек двоился и троился, Петр превзошел самого себя, а Стась Остапюк пасовал Кшисеку точно, как никогда, армейские выиграли первый тайм четыре – один. И как раз когда я, возвращаясь домой, проходил мимо бетонной тумбы, на которой месяцами болтались обрывки одних и тех же афиш, я увидел, как они плелись, унылые, не надеясь победить во втором тайме. Шимек рассказал мне, в чем дело. И после обеда мы вернулись на лужайку, где паслась корова, поедая пучки высохшей травы. Противники пришли чуть позже, уверенные, что мяч у них в кармане. Начали играть. Петр послал длинный пас на левый край Лешеку, тот обвел двух армейских и приблизился к их штрафной площадке, но тут защитник отобрал у него мяч и сильным ударом отправил на нашу половину, где у нас остались только Кшисек, наш вратарь – и четверо ихних. Те обвели Кшисека и погнали к нашим воротам, – и уже через секунду счет стал пять – один. Шимек ничего не говорил, а у Петра слезы блестели в глазах: помимо чести, он терял все, вернее, свой мяч, который получил от богатого дяди. И тогда произошло нечто неожиданное – то, что, собственно говоря, произойти не могло никак. С маленького холма к нам спустился Вайзер, которого мы увидели только теперь, и сказал, что мы выиграем этот мяч, если возьмем его в команду и если будем без споров выполнять его приказы. Шимек был капитаном и заколебался, но времени на размышления не было, армейские уже поторапливали.
Тут началось великолепное зрелище, и хотя у нас не было ни ста тысяч болельщиков, ни даже одинаковых футболок, а Кшисек и я играли босиком, но любой тренер пришел бы в абсолютный восторг. Ибо то не была обычная игра, обычные удары, подачи, пасы, обводки, то была настоящая поэма с пятью актерами в главных ролях и всеведущим автором, которым оказался Вайзер. Прежде всего, он толково расставил нас, и мы не бегали уже за мячом гурьбой. Левый край – Шимек, правый – я, в центре Вайзер и в нескольких метрах позади – Петр. В защите на нашей половине остались Кшисек Барский и Лешек Жвирелло, а на воротах, как всегда, стоял Янек Липский, в длинноватой отцовской майке. С края поля кисло наблюдал за этими переменами Стась Остапюк, ему пришлось уступить место Вайзеру, но дулся он недолго, до первой штуки, которую заделал армейским Шимек, когда я с правого края послал мяч Вайзеру. Тот обвел двоих ихних и, вместо того чтобы идти сразу на вратаря, обхитрил его, подав пяткой мяч назад для удара, что Шимек тотчас же понял и отлично выполнил. Счет стал пять – два. Но это было только начало. Вайзер, к нашему удивлению, играл прекрасно, а еще лучше руководил нами на поле и ничего не упускал из виду. Входя на половину армейских, он сначала медлил и затягивал игру, дожидаясь, пока его окружат обманутые его мнимой растерянностью противники. И тогда, как бы забавляясь с ними, зафутболивал мяч вверх, свечой, а потом головой отправлял на левый или на правый край и кричал Шимеку или мне: сразу! сразу! – а мы только и ждали этой возможности, чтобы тут же врезать армейским очередной гол. Третью штуку влепил я, именно с такой подачи, а четвертую – четвертую закатал Петр, когда Вайзер сначала подал Шимеку, тот обратно ему, а Вайзер так же, как перед вторым голом, мчась к воротам, перекинул мяч для удара назад, на этот раз Петру, который уж не упустил случая. Пятая, сравнявшая счет штука влетела со свободного удара, и тут Вайзер показал, что он умеет: мяч поднялся буквально на сантиметр над головами стенки армейских и влетел между деревянными колышками ворот на глазах беспомощного вратаря. Элька бешено вопила и размахивала руками, а Стась Остапюк дергался рядом с ней в диком танце болельщика и показывал нам задранный вверх большой палец. До конца матча оставалось еще пять минут, но Вайзер успокоил нас движением руки. Он явно ждал момента, чтобы продемонстрировать свой коронный номер, и, хотя играл с нами один-единственный раз, мы долго еще потом говорили об этом номере. В чем его суть? Петр, который неожиданно очутился на левом фланге рядом с Шимеком, выбил мяч из-под ног армейского и дал свечу, только чуть-чуть переборщил, и Вайзер никаким спринтом не поспел бы к мячу – ему не хватало целых полметра. Но он согнулся в пружину и на бегу сделал сальто, и, когда оказался в вертикальном положении – руки его почти касались травы, а ноги торчали вверх, как жерди для фасоли, – он ударил изо всей силы одной жердью по мячу и мягко спланировал на траву, и то был наш шестой, победный, гол. Элька выла со своего места, а армейские до конца матча боялись нашего мяча.
А когда вышло время и ничто уже не могло их спасти, к нам подошел их верзила-главарь и сказал: «Все равно вы говнюки, слышите, все равно вы банда вонючих засранцев». А мы искали Вайзера, чтобы пронести его вокруг поля. Но он, не обращая на нас внимания, будто и в самом деле никогда не интересовался футболом, надел штаны и пошел с Элькой в сторону дома. Вожак армейских тем временем схватил сокровище Петра и отскочил с ним к кусту, где у них была сложена одежда. Мгновенно достал из рюкзака нож, продырявил наш мяч и бросил нам, крикнув: «Вот ваше говно!» И его дружки ржали, просто рычали от смеха и повторяли «говно» и «говнюки», словно уже ничего другого не могли придумать. Мы стояли растерянные, ведь их с болельщиками было вдвое больше, да и невооруженным глазом было видно, что ели они посытнее нашего. Я смотрел туда, где должен был быть Вайзер, и все тоже повернули головы в ту сторону, так как мы вдруг поняли, что единственный, кто мог бы чем-нибудь нам помочь, был только он, тощий, сутулый Вайзер, который никогда не играл с нами в футбол и не плавал в Елиткове. Но он исчез за казармами – что ему наши счеты? Он завершил выступление и, как настоящий артист, пренебрег аплодисментами толпы. Ушел со сцены, оставив нам горькие крохи своей славы. Таким я его вижу сегодня: играл он вовсе не из-за мяча Петра и тем более вовсе не для того, чтобы спасти нашу честь, он играл, чтобы показать нам, что может делать это лучше и что во всем он лучше нас. И было это не простое бахвальство, а нечто вроде вызова: ну что, вы говорили, я не умею играть в футбол, потому что никогда не гонял с вами по стадиону, – вот вы и посмотрели. А если бы кто-нибудь из нас спросил, будет ли он играть с нами еще, наверняка он ответил бы: это меня совершенно не интересует. Я подозреваю, что в таком заявлении, которое ему приписываю, кроется суть его натуры.
Сидя на складном стуле в школьной канцелярии, когда Шимека задерживали в кабинете подозрительно долго, я размышлял, почему Вайзер все эти годы предпочитал выглядеть в наших глазах недотепой, не сыграв хотя бы разок в футбол или не доплыв с нами до красного буйка в Елиткове. И уже когда мы возвращались со стадиона у прусских казарм с продырявленным мячом Петра, но ужасно счастливые, – уже тогда охватило нас что-то вроде беспокойства. Ведь если Вайзер скрывал от нас свои способности, если никогда не показывал, как он может обвести сразу трех игроков или поднять мяч с земли носком ботинка, взять его на подъем, потом поддать коленом вверх и отправить головой на правый или левый край, если он никогда не показывал нам этого и часто сидел на краю поля, глядя, как мы делаем это намного хуже, чем он, у него были для этого какие-то причины, которых мы не знали. Ну и почему Вайзер решил сыграть с нами, открыться именно в этот раз? Шимек повторил фразу Эльки, что Вайзер все может, и теперь уже никто над этим не смеялся, мы помнили вчерашний зоопарк и черную пантеру, а я еще и знал, что Вайзер с Элькой не играли в доктора и пациента на краю взлетной полосы, хотя и не очень-то понимал, в чем там было дело. Только когда стенные часы пробили девять, меня осенила очень простая мысль: Вайзер задирал Элькино красное платье с помощью сверкающего корпуса самолета, потому что не хотел делать это сам; видимо, это было для него слишком просто, а может, слишком вульгарно. И когда двери кабинета открылись и появился наконец Шимек, я еще раз увидел серебристую тушу «Ила» над кустами дрока, поднятые колени Эльки, ее поднимающиеся и опускающиеся бедра, между которыми маячила треугольная мягкая чернота, и вспомнил ее лицо с открытым ртом, словно она старалась перекричать страшный рев приземляющейся машины. Я не говорил, кажется, до сих пор, что Элька потом нашлась и долго жила среди нас, пока не уехала навсегда в Германию. Но ни тогда, ни позже, когда я писал ей письма, ни даже когда поехал в Германию только затем, чтобы с ней увидеться, так вот – никогда она ничего не говорила о Вайзере и о том, что случилось в последний день над Стрижей. Она молчала, а врачи объясняли ее упорство психическим шоком, частичной амнезией и так далее, и только я знал и знаю, что это неправда. Потому что одна Элька знает, кем был или продолжает быть Вайзер. Ее молчание и сейчас, когда я снова пишу письма в Мангейм, позабыв, что произошло между нами во время моего визита, ее упорное молчание свидетельствует о том вполне определенно. Да, когда я вспоминаю Вайзера в подвале заброшенного кирпичного завода, даже сегодня волосы у меня поднимаются дыбом. Мы были там только однажды, Элька же наверняка ассистировала ему много раз. И все взрывы в ложбине за стрельбищем устраивались, похоже, исключительно для нее. Но я не пишу книгу о Вайзере, которая могла бы начинаться со сцены на заброшенном заводе. Я не делаю этого. Я только выясняю факты и обстоятельства, и поэтому Шимек сидит сейчас на складном стуле рядом со мной, и я слышу свою фамилию: «Хеллер, теперь ты», – и медленно встаю, припадая на затекшую ногу, иду к двери, обитой стеганым дерматином, иду и боюсь М-ского, точнее, истязаний, которые он применит на этой стадии допроса.
Мужчина в форме расстегнул две пуговицы синей гимнастерки, и я увидел, что под ней у него сетчатая майка, сквозь мелкие ячейки которой пробиваются густые черные волосы. Мне сразу вспомнился шимпанзе из оливского зоопарка, у которого на груди были такие же лохмы, и я подумал, что забавно было бы увидеть на его месте сержанта милиции, увидеть, как он швыряет песком в публику, злобно верещит и время от времени мочится в первые ряды веселящейся публики. И я улыбнулся ему, а он принял это за чистую монету и ответил мне тоже улыбкой и, указав рукой на стул, сказал: «Можешь сесть». М-ский подозрительно косился в мою сторону, директор же манипулировал своим галстуком, который теперь не напоминал ни якобинскую кокарду, ни шарфик, а только мокрую тряпку, порядочно выжатую и выкрученную.
– Мы хотим все знать о взрывах за стрельбищем, – начал М-ский. – Сколько их было и в какие дни? Где ваш дружок взял взрывчатку? Что это было – тротил? Порох? Откуда он это доставал – из гильз? Из неразорвавшихся снарядов? И мы хотим, чтобы ты еще раз рассказал нам о последнем взрыве, когда Вайзер и ваша подружка погибли. Ничего не бойся, расскажи правду. Может, вы нашли на том месте кусок рубашки или тела? Может, на каком-нибудь дереве?
Все эти вопросы М-ский задавал быстро, и звучали они как темы в увертюре – сразу, один за другим. И в самом деле, допрос только начинался.
– Да, – вздохнул мужчина в форме. – Ну так скажи нам, когда был первый взрыв, когда это было?
– Где-то в начале августа, – с готовностью ответил я.
– А точней? – вмешался директор.
– Точней не помню, но наверняка в начале августа, когда ксендз начинал богослужения.
– При чем тут богослужения?! – подскочил как ошпаренный М-ский. – При чем тут богослужения? Вы слышите, товарищ директор? Они продолжают свое. – И снова повернулся ко мне: – Что за богослужения?
– Молитвы о благополучии крестьян и рыбаков, пан учитель, – отвечал я вежливо. – А именно о дожде, чтобы он очистил залив и оросил поля, ведь была жуткая засуха, и ксендз Дудак говорил, что это Божья кара за грехи.
– Чьи грехи? – вставил тот, что в форме.
– Ну, за людские грехи. – Я не очень знал, что ответить. – Ксендз говорил, что люди отступаются от Бога и от святой католической веры, так вот Бог наслал эту засуху как знамение, чтобы люди исправились, а если нет…
– Ну-ну, – подхватил директор, все больше перекручивая галстук. – Если нет – тогда что?
– Если не исправятся, то Бог сделает с нами то же самое, что в Содоме и Гоморре, сожжет города и людей и…
– Хватит! – рявкнул М-ский. – Достаточно. Вы слышите, сержант? Это же настоящее Средневековье, они не щадят даже детей, – и мы должны в таких условиях работать, да? Жаль, что этого не слышал прокурор, это, пожалуй, подпадает под какую-нибудь статью!
Мужчина в форме остановил его жестом:
– Мы должны работать спокойно, товарищ М-ский, эмоции – наихудший советчик в таких делах. – Он снова повернулся ко мне. – Так ты говоришь, приятель, что это было в начале августа, да?
– Да, это было в начале августа, – подтвердил я.
– Хорошо, а откуда вы узнали, что Вайзер будет что-то такое делать?
– Он сам нам сказал.
– Как это было?
– Мы играли в Брентове, а он пришел и сказал, если мы хотим увидеть кое-что классное, то можем пойти с ним, и привел нас в ту ложбину за стрельбищем.
– А Вишневская, – вспомнил он фамилию Эльки. – Была тогда с ним Вишневская?
– Да, была, она с ним всюду была.
– Всюду, значит, где еще?
– Ну так, вообще, ходила с ним повсюду, я не знаю, куда еще, но они ходили всегда вместе.
Я увидел, что сержант расстегивает очередную пуговицу своей гимнастерки и волосы еще больше полезли сквозь его сетчатую майку.
– Хорошо, – сказал он, – значит, вы просто пошли с ним, точнее, с ними, так как Вишневская была с Вайзером, и что же было дальше?
– Мы пришли, и Вайзер сказал, что будет взрыв и чтобы мы его во всем слушались, иначе может произойти какое-нибудь несчастье. Он приказал нам залечь в окопе, а потом стал что-то делать с проводами от… от…
– От генератора, – вставил тот, что в форме.
– Да, от генератора, а потом сказал: «Внимание» – и покрутил ручку, и вдруг грохнуло, и нам на голову посыпались песок и трава.
– И это все?
– Да. Вайзер спрятал куда-то генератор и сказал, что мы уже можем идти домой.
– Погоди, из того, что ты говоришь, следует, что, когда вы шли на место взрыва, у Вайзера не было с собой заряда? Так?
– Да. Каждый раз, когда мы ходили смотреть взрыв, эта мина уже была закопана в землю, а при нас он только подсоединял провода к генератору, – значит, все было приготовлено заранее.
– То есть он закладывал заряд и провода без вас, понимаю. Скажи мне теперь, как долго лежала мина от закапывания до взрыва – час, два, целый день?
– Не знаю, – ответил я. – Этого не знал никто, Вайзер ничего не объяснял и на взрыв приводил нас всегда в последнюю минуту.
Человек в форме почесал в затылке и посмотрел на директора, потом на М-ского.
– Ну хорошо, а не подмывало вас пойти туда без него и посмотреть, не приготовлен ли очередной заряд?
Я учуял, как изо рта сержанта, который с последними словами наклонился ко мне слишком близко, выплывает тоненькой струйкой запах чеснока, такой же, как от соленых огурчиков, хотя в то лето было их мало, как и укропа и чеснока в огороде возле нашего дома.
– Нет, Вайзер запретил нам ходить туда без него и сказал, что вся ложбина заминирована.
– И вы ему поверили?
– Он никогда не врал, да и взрывы происходили в разных местах ложбины, и мы боялись на такую мину наступить…
Директор резким движением, вместо того чтобы ослабить галстук, затянул его крепче.
– Узнаешь это? – Сержант показал мне фотографию черного ящика с рукояткой и рычажком, напоминавшим держалку от штопора.
– Да, узнаю, это тот генератор, который Вайзер всегда куда-то прятал после взрыва.
– А где он его взял? – быстро спросил М-ский.
– Не знаю, может, нашел вместе со всем остальным на кирпичном заводе.
– Кстати, а что у него было там, на заводе, что он вам показывал, когда вы туда ходили?
– Мы туда не ходили, на заводе мы встретились с Вайзером только один раз.
– А как это было? – подхватил сержант.
– Где-то после второго или третьего взрыва Элька пришла к нам и сказала, если мы хотим заиметь настоящий автомат, то есть настоящий автомат для игры, то можем пойти с ней. Она не сказала куда и повела нас на старый кирпичный завод, где ждал Вайзер, и он дал нам ржавый автомат и немецкую каску – мы тогда все время играли в партизан, и Вайзер сказал, что это для нас. И ничего больше нам не показывал.
– Так-так, это в какой же части завода вы тогда были?
– Возле печей, там, где вагонетки и рельсы.
– И вы не видели ни подвала, ни боеприпасов, которые он там хранил?
– Нет, только когда начались поиски и милиция нашла этот заваленный подвал, только тогда мы узнали, что там Вайзер хранил.
– А раньше ни о чем не догадывались? Откуда, например, он – взял генератор и порох для зарядов? Не спрашивали у него? Ни разу?
– Спрашивали, но Вайзер сказал, что каска и автомат – награда за то, что мы умеем держать язык за зубами, и когда он проникнется к нам доверием – именно так он и сказал: проникнется к нам доверием, – то мы получим что-то классное, но не раньше. Мы и не спрашивали.
– Ну хорошо. – Сержант был явно разочарован. – А Вайзер в партизан с вами не играл?
– Нет, когда нельзя было купаться, мы ходили на кладбище в Брентово, и он приходил иногда, но в войну никогда с нами не играл.
– Войну он сам себе устраивал, но в другом месте, – вставил М-ский, и директор кивнул, но ничего не сказал.
– А вам не приходило в голову, что обо всем этом надо было рассказать кому-нибудь из взрослых? – продолжал сержант. – Что это может для всех вас плохо кончиться?
Я молчал: что я мог ему, человеку в гимнастерке и сетчатой майке, волосатому, как Тарзан, на такой вопрос ответить? И наконец выдавил из себя то, чего он ждал:
– Да, сейчас я думаю, что мы должны были это сделать.
– Вот именно, только сейчас, – вмешался М-ский, но сержант прервал его:
– Как вам пришло в голову этот старый автомат и каску дать в руки сбежавшему из больницы пациенту? Разве вы не знали, что он психически болен? Бегал по округе и пугал людей – ну, кто до этого додумался?
– Это было не так. Каску и автомат после игры, когда уже возвращались домой, мы всегда прятали в пустом склепе, в самом углу кладбища. А один раз пришли – нет ни каски, ни автомата. И только потом кто-то нам сказал, что этот псих носится по Брентову в нашей каске и с нашим автоматом, но его самого мы не видели.
– Если бы только это, – вздохнул директор, расслабляя галстук, который теперь напоминал цветастую косынку пани Коротковой. – Если бы только это, мальчики!.. Господи, что мне с вами делать… – но он не договорил, так как М-ский посмотрел на него грозно, и директор замолчал, как по мановению волшебной палочки, а сержант продолжал спрашивать:
– А теперь скажи, сколько было всего взрывов и чем они отличались один от другого?
– Сейчас, – подсчитывал я в уме, – взрывов было шесть, каждый раз по одному. Все были похожи, и только последний, о котором я уже рассказывал в прошлый раз, только тот, последний, был очень сильный, то есть сильнее всех остальных.
– Та-а-а-ак, – протянул сержант. – Ну хорошо, а теперь, приятель, еще раз опиши подробно, что произошло в ложбине в этот последний раз.
Я говорил то же, что прежде, когда М-ский сделал мне «хобот», говорил медленно, чтоб не ошибиться, и все слушали внимательно, будто слова, вылетающие из моего рта, были червячками и каждого из них они разглядывали под лупой со всех сторон. А когда я закончил на том, как Элька и Вайзер исчезли за холмом, М-ский не выдержал и рявкнул:
– Как вы могли их видеть, ведь они тогда уже погибли. Или ты хочешь нас убедить, что вы видели две души, улетающие на небо, а?
И он наклонился ко мне угрожающе близко, но сержант придержал его и велел мне подойти к столу, где он разложил военную карту, на которой ложбина была обозначена черными горизонтальными линиями.
– Вы стояли здесь, возле ямы, да?
– Да, совершенно верно, – подтвердил я.
– А гора, о которой ты говоришь, это склон ложбины, да?
– Да, – кивнул я.
– Но вас отделяло от подножья ровно сто метров, как же ты можешь утверждать со всей уверенностью, что это были Вайзер и Вишневская? Может, вам только казалось, что вы их видите, а? Может, вы боялись подумать, что они взлетели на воздух, и кто-то, возможно Королевский, сказал: «О, вон они идут там, в гору», – и со страху вы увидели их, так как очень хотели увидеть, верно? Ну признайся же, наконец.
Я молчал, сбитый с толку картой и дотошностью сержанта. Это выглядело так, будто я признавал его правоту, и он сразу же завершил:
– Из того, что ты говорил, следует, что ты не знаешь точно, где находились Вайзер и ваша подружка в момент взрыва. Ты сказал: «Вайзер велел нам ждать у лиственниц, а когда увидел, что мы там, пересек ложбину и помахал нам рукой, чтобы мы легли, и сразу после этого земля задрожала от взрыва и на голову нам посыпался песок» – так ты говорил, да?
Я кивнул. Запах чеснока усилился, и мне захотелось соленого огурчика.
– Ну-ка, посмотри сюда. – Сержант ткнул карандашом в карту. – Посмотри внимательно. Вы стоите у лиственниц, вот здесь. Вайзер видит вас, он в каких-нибудь двадцати метрах от вас, вот здесь. Потом направляется к мине – «пересек ложбину», как ты сказал, – значит, отдаляется от вас в сторону заряда. Вишневскую в это время вы не видите, так как она идет вот здесь, за кустами орешника. А теперь смотри внимательно, это самое важное. Вайзер вот отсюда подает вам знак, и вы лежите, не поднимая головы, стало быть, не можете видеть, что в эту самую минуту к нему подходит ваша подружка. И что происходит? Сразу же после знака происходит взрыв. А откуда Вайзер махал рукой? Да, этот красный кружок обозначает место взрыва – там, где яма. Вайзер махал вам именно оттуда, с того места, где
Я стоял у стола и удивлялся, что все в его рассказе так складно сходится. Слишком складно, чтобы быть правдой. Но я не говорил ничего, ведь человек в форме не знал, что на следующий день над Стрижей мы встретились опять, теперь уж действительно в последний раз. Не знал ничего он и о черной пантере, о нашем матче с армейскими на лужайке у прусских казарм, не видел Вайзера в подвале старого завода, и волосы не поднимались у него на голове дыбом, во всяком случае, не от того. Он вздохнул, и я снова почувствовал струйку чесночного запаха, а М-ский сказал:
– Все сходится, и ты даже не знаешь, кто подтвердил, что над Стрижей вас видели днем раньше, а? – Я молчал, и М-ский закончил: – Видел вас причетник брентовского костела. – Впервые в этот день М-ский торжествующе улыбнулся, а вздохнул на этот раз я, так как улика была серьезная. Видно, когда у причетника спрашивали, он перепутал числа. Тем лучше, подумал я, если у них все начинает как-то складываться. Но до конца допроса было еще далеко. Сержант снова сел в кресло, а М-ский подошел ко мне.
– Еще одно мы должны выяснить – где вы спрятали останки Вайзера и Вишневской? Говори!
Я молчал.
– Это уголовное дело, – добавил директор. – Вы не заявили ни о том, что случилось, ни об этом кошмарном подвале. – Голос его набухал угрозой. – Как вы могли так поступить? Это отвратительно! Это… это хуже каннибализма, – выпалил он наконец. – Совести у вас, нет, что ли, чему вас, в конце концов, учат на уроках Закона Божьего?
– Говори сейчас же, что с этими… этими… останками, – вмешался сержант. – Должны же вы были найти кусок тела или одежды, а?
Я стоял, опустив голову, и представлял себе, как держу на ладони глаз Вайзера, а у Шимека в руке – лоскут от платья, и мы складываем все в нашу ямку, а Петр тянет: «Господи, упокой их душу…» – потом мы засыпаем ямку, утаптываем ее каблуками, но глаз Вайзера подмигивает нам из-под земли, и будет мигать до конца света и усмирять нас, как черную пантеру за решеткой оливского зоопарка. Это было страшно. Я дрожал всем телом. М-ский схватил меня за волосы у самого уха, в том месте, где сейчас начинается щетина, и слегка потянул вверх, но короткие волоски выскользнули у него из пальцев, он схватил еще раз, чуть повыше, и началось «ощипывание гуся».
– Где-вы-это-за-ко-па-ли! – скандировал он и при каждом слоге тянул вверх, и я поднимался все выше, пока наконец не встал на самые кончики пальцев, качаясь, как пингвин, а М-ский тянул еще сильнее, собственно, уже выдергивал мои волосы. – Где-вы-это-за-ко-па-ли! Ска-жи на-ко-нец! или! оторвать! тебе! голову! что ли?!
И я бы наверняка в этот момент закричал благим матом и, может, выкричал бы, как было на самом деле, если бы не зазвонил телефон на столе директора. М-ский отпустил мои бачки и посмотрел в ту сторону, а директор, сняв трубку, сказал сержанту:
– Это вас.
На минуту повисло молчание, все плыло у меня в глазах – от «ощипывания гусей» болела голова, и щека, и лоб, и виски, а сержант кивал и произносил только: «Да-да, хорошо, да-да, разумеется, да, хорошо, конечно, ну конечно, хорошо, хорошо». Хотя я до сих пор не знаю, кто тогда разговаривал с человеком в форме в девять часов вечера, но испытываю к этому неизвестному огромную благодарность. Ведь это благодаря ему М-ский перестал меня мучить. И когда сержант положил трубку, оказалось, что им надо посоветоваться, и меня отослали обратно в канцелярию на складной стул, рейки которого ужасно впивались в зад. И мы снова сидели втроем под присмотром сторожа, и я смотрел на часы, и мне казалось, что медный кружок на конце маятника такого же цвета, как кадило ксендза Дудака, из которого он выпускал клубы седого дыма, когда мы пели «Да благословен будь святой хлеб вечной жизни».
Такие же часы с медным диском маятника я видел в Мангейме в квартире Эльки, когда много лет спустя поехал в Германию, чтобы встретиться с ней. Разумеется, я ей не сказал, какова цель моего путешествия. Услышав мой голос в телефонной трубке, вернее услышав мою фамилию, она ответила не сразу. Возможно, у нее перед глазами встали все письма, которые я посылал в Мангейм и которые она бросала в корзину. Этого я не знаю, но молчала она добрую минуту, после чего я услышал совершенно трезвый вопрос:
– А откуда ты звонишь?
– С вокзала, – закричал я в трубку. – С вокзала, и хотел бы с тобой увидеться!
Она снова помолчала с минуту.
– Ну хорошо, я весь день дома, – ответила так, будто мы виделись только вчера. – Знаешь, как доехать?
Конечно я знал, как доехать, все к этой встрече у меня было приготовлено, все спланировано и предусмотрено до мелочей: вопросы, темы разговора, фотография могилы Петра, – и все это коварно было направлено, вернее, должно было быть направлено на особу Вайзера. Такси, в котором я ехал по городу, вел усатый турок. Он лез с разговорами, почуяв, что я не немец, но мыслями я был уже с Элькой и вспоминал сентябрьское утро семьдесят пятого года, когда я провожал ее на морской вокзал в Гдыню, откуда она отплывала в Гамбург.
– Элька, – спросил я в последний раз, – так ты правда не помнишь, что тогда произошло? Правда не знаешь, как это все было? Ведь Вайзер вел тебя за руку. Ты что-то скрываешь, все время скрывала. Скажи хотя бы сейчас, я тебя очень прошу, скажи, раз уж ты уезжаешь навсегда, что именно случилось в тот день над Стрижей? – И мой голос поднимался до крика, пока Элька подходила все ближе к таможенному барьеру, и наконец она сказала:
– Не кричи, люди смотрят.
Это были ее последние слова, никаких «до свиданья», «держитесь» – только: «не кричи, люди смотрят»! А потом не отвечала на мои письма, так же как не желала разговаривать о Вайзере перед отъездом. Так что теперь, когда я ехал на такси через центр Мангейма, я думал, что второй раз не сделаю такой ошибки, и, когда машина остановилась у светофора, я уже знал, что начну совершенно иначе и долго буду кружить, долго ждать подходящего момента, чтобы наконец припереть ее к стенке, вынуждая к признаниям.
Эльке первые полтора года жилось здесь нелегко. Работала она прислугой у тетки, дальней родственницы, отвратительно злобной старухи. Та называла Эльку коммунисткой и попрекала на каждом шагу, но Элька стискивала зубы, так как тетка была богата и должна была оставить ей немного денег. Когда распечатали завещание, Эльке пришлось еще хуже – тетка не оставила ей ни копейки. Она надрывалась в две смены, по утрам прибирала частные квартиры, а вечерами мыла полы в ресторане, владельцем которого был теткин знакомый. И там она познакомилась с Хорстом – он потерял жену в автомобильной катастрофе где-то в Гессене и теперь, вместо того чтобы заниматься делами своей фирмы, пил до самого закрытия ресторана, до поздней ночи. Она вышла за него без всяких колебаний, он не был ни старым, ни уродливым, а главное – торговал лошадьми, владел собственной фирмой, и Элька уже могла не мыть полы в ресторане и в частных квартирах. Хорст часто уезжает, и Элька тогда сидит целыми днями одна: у Хорста, кроме нее, нет никаких родных, и сама она не любит наносить визиты и принимать гостей. Иногда они едут вместе, когда Хорст там не слишком занят, отпуск проводят на юге в горах. Но обо всем этом я узнал несколькими минутами позже, когда такси выехало уже из центра, когда мы с усатым турком миновали несколько перекрестков и когда я сидел напротив Эльки, прихлебывая кофе, а она показывала мне фотографии Хорста из последнего отпуска, который они провели в Баварии. На стенах просторной комнаты висели акварели, изображающие всадников и лошадей, в центре же – часы, точно такие, как в канцелярии нашей школы, с медным диском на конце длинного маятника. Этого Элька, естественно, не могла помнить. Я показал ей фотографию надгробия Петра. Элька была на могиле несколько раз, но плиты, конечно, не видела, и я рассказал, какие с ней были проблемы – ни один каменщик не соглашался выдолбить надпись «убитый», и в конце концов написали «трагически погиб». Все знакомые сбросились на эту плиту, и то был, собственно, наш общий памятник Петру, хотя Петр не участвовал в демонстрации и стычках, просто вышел на улицу посмотреть, что происходит. Но об этом мы вспоминали уже за гренками, которые Элька делала прекрасно – с кетчупом, листьями салата, перьями лука, кружочками помидоров, тмином, со сладким и острым перцем и уж не знаю, с чем еще, – горячими, прямо из духовки. Гренки, правда, смешали мои планы, но я поныне помню их вкус. И вдруг Элька сказала неожиданно:
– Я не отвечала на твои письма, как и на все другие. Понимаешь, если ты здесь, – объяснила она, – то невозможно быть одновременно и там. Я не умею быть и тут, и там.
Я уже хотел что-то вставить, вроде бы безразлично, чтобы она продолжала, но она быстро сменила тему, да так ловко, что я вынужден был рассказывать о себе, точнее, о своей нынешней жизни, в которой не было ничего интересного и прекрасного. Так что рассказ мой оказался серым и нудным, однако Элька не показывала, что она об этом думает, даже прерывала иногда, спрашивая о какой-нибудь детали, или о человеке, или случае. Я чувствовал, что делает она это из вежливости. Поинтересовалась в конце, чем я занимаюсь в Германии, и спросила, должен ли я уже сегодня возвращаться в Мюнхен, откуда приехал, чтобы ее навестить. Да, действительно, две недели я провел в Мюнхене и собирался побыть там еще несколько дней, у родственника, который из лагеря военнопленных в Польшу не вернулся, так как, по его мнению, это была не Польша, а бутафория, да еще из плохого театра. Я не объяснял Эльке этих сложностей, только сказал, что не должен – и я действительно не должен был, но главное, что наш разговор о Вайзере не вошел даже в стадию предварительного обсуждения погоды.
– Вот и прекрасно. – На этот раз она обрадовалась искренне. – Если захочешь остаться на несколько дней – нет проблем, и Хорст будет рад, когда вернется, – сказала она. – Сейчас он в отъезде.
И хотя я не очень понимал, чему должен радоваться ее муж, согласился остаться до следующего дня. К счастью, у меня были деньги, и, когда мы поехали в город, я мог не считать каждую марку. Но пока Элька выводила машину из гаража, я осмотрел их дом – как все дома в этом районе, прямоугольный, с маленьким садиком, тремя комнатами наверху, столовой и кухней на первом этаже. И я подумал, что после двух лет мытья полов это очень много, но для всей жизни, пожалуй, маловато, хотя газон перед входом был пушистый, как ковер, а мебель, обои и панели, как мне показалось, хорошего вкуса и качества.
Так вот – когда же, собственно, началась игра между мной и Элькой, игра вокруг Вайзера, в которой мы оба подходили друг к другу на цыпочках, затаив дыхание, всегда против ветра, никогда по ветру, когда началась наша игра, которая в известном смысле продолжается по сей день? Сейчас я знаю, что Элька играла с самого начала, с момента, когда я позвонил с вокзала, – она уже тогда поняла, что мне надо, и уже тогда наверняка составила план или его общие контуры. Но тогда, в Мангейме, я позволил провести себя, не задумался даже, зачем она хочет меня задержать, не сориентировался сразу, что Элька видит меня насквозь, и, хотя я думал, что поймаю ее в сеть ассоциаций, вопросов, вроде бы ничего не значащих утверждений, на самом деле это она коварно поймала меня в более искусно расставленную ловушку. Таким образом, мы играли с самого начала. Потому что Элька, когда я уже завершил осмотр дома и сада, сказала: «Подожди, для такого случая нужно надеть что-нибудь особенное», – и через минуту я увидел ее в красном платье, разумеется, не в ситцевом, как то, а в хорошо скроенном и из дорогой ткани, и все же не мог отделаться от впечатления, что это то же самое платье, в котором я видел ее тогда над Стрижей, где она течет в узком туннеле под насыпью не существующей со времен войны узкоколейки.
Да, садясь в машину, Элька знала, что я чувствовал, а когда уже за городом мы миновали фабричные склады «Даймлер-Бенц Верке», спросила, не хочу ли я проехаться вдоль Рейна, она хотела бы посмотреть на течение. Мы стояли потом на одном из бетонных выступов дамбы, и Элька бросала вниз прутики, а у меня в голове вертелось: была ли эта «амнезия», о которой говорили врачи, от начала и до конца замыслом Вайзера или Элька додумалась сама. Обедать она повезла меня в ресторан, из окон которого мы видели стены Фридрихсбурга, и до десерта успела рассказать историю города, вычитанную когда-то из путеводителя, чего не скрывала. За мороженым разговор перешел неизвестно почему на животных.
– Вот чего я терпеть не могу, – сказала она, облизывая ложечку. – В местных зоопарках существует отвратительный обычай – так называемое кормление львов. В каждом городе, где только есть зоопарк, люди сбегаются в определенный час и глазеют, как сторожа швыряют зверям истекающие кровью куски мяса, и самая большая радость – когда львы вырывают эти объедки друг у друга. – И сразу же добавила: – У вас это не практикуется, верно?
– У нас это не практикуется, – сказал я. – А помнишь наш поход в зоопарк в Оливе?
Элька кивнула:
– Да, кажется, зоопарк стоит в лесу, и мы возвращались тогда, вроде, лесом.
– А помнишь клетку с пантерой? – не отступался я.
– Да, – ответила она быстро, – пантера разозлилась, это я помню, сторож подошел тогда к нам и сказал, чтобы мы отошли от клетки.
– Нет, было не так, не было вообще никакого сторожа, – я отложил свою ложечку, – было не так, ведь Вайзер, тот Вайзер, из-за которого было столько шуму…
Она прервала меня:
– Все время ты о нем спрашиваешь, ох как это мучительно, и в конце концов не будем спорить о мелочах, правда?
– Это не мелочь! – запротестовал я. – Ведь ты нашлась, не знаю как, но нашлась, – а он?
Элька меланхолично улыбнулась:
– Я упала с насыпи и разбила голову. Раз ты так хорошо все помнишь, то должен знать, что два месяца я пролежала в больнице, верно?
– Да, да, знаю, но ты ведь не падала с насыпи, – запальчиво возразил я.
На что Элька, подзывая официанта, пояснила – собственно, не пояснила, а только запутала все еще больше:
– Ну да, ты, кажется, из тех людей, которые все знают лучше, но чем же я могу помочь?
И так было до вечера, одно и то же: когда я заговаривал об аэродроме – конечно, она запускала там змея, может, и с Вайзером, если я так утверждаю, но и с другими мальчишками тоже, это точно; когда же я вспомнил о матче с армейскими – так ведь в футбол мы играли беспрерывно, как все мальчишки на свете, может ли она помнить именно этот матч? И только при напоминании о старом кирпичном заводе она не сказала ничего, а по поводу взрывов согласилась, что это было потрясающе. По мнению Эльки, Вайзер, должно быть, взлетел на воздух, а она свалилась на другой день с насыпи, когда мы играли над Стрижей. Но это она сказала уже позже, не в ресторане, а дома, когда мы вместе приготовили ужин и, опустошив бутылку красного, принялись за белый вермут, и я почувствовал, что во мне поднимается гнев и агрессия, ведь я понимал, что она водит меня за нос и мой приезд в Мангейм был бессмысленным, как и письма, которые я посылал до последнего дня с упорством, достойным лучшего применения. Я пошел наверх, где Элька приготовила мне постель, улегся на голубое белье и услышал, как она кричит мне что-то снизу, извиняясь, что, кажется, о чем-то забыла. И только когда я подошел к лестнице и глянул вниз, я удивился и испугался одновременно. Элька сыграла со мной злую шутку. Диван, стоявший в столовой у окна, теперь был передвинут в центр комнаты и выглядел как продолжение лестницы. А сама она лежала на диване – одна подушка под головой, другая на уровне поясницы, – слегка раздвинув ноги, и красное платье колыхалось на них в ритме всего тела. Никакая сила не могла меня удержать от шага вперед, то есть от шага вниз, ведь я стоял на верхней ступеньке лестницы. И на этом был основан сатанинский замысел Эльки. Ибо с каждым шагом мои ноги оказывали все меньшее сопротивление, как бы отрывались от земли, и где-то на середине пути я понял наконец, что мое тело плывет вниз и это уже не мое тело, а сверкающий в лучах солнца корпус самолета, а мои руки уже вовсе не руки, а каждая из них – серебристое крыло, и я не видел уже дивана, а только начало взлетной полосы, миновал холмы на южной окраине города, пролетел низко над красными крышами домов, скользнул над шоссе у виадука и теперь видел уже только раздвинутые бедра Эльки, ее вздымающееся платье и в волнующемся дыхании воздуха обнаженную черноту и мягкость, к которой я приближался с гулом и дрожью. Но серебристый корпус приземлился в этот раз не на бетонные плиты полосы – он входил в кущи с мощным напором массы и желания, со свистом рассекая воздух, входил в непорочную мягкость, и она принимала его холод пружинистым встречным движением и криком, который тонул в грохоте машины. Да, Элька спровоцировала авиакатастрофу и, одержимая безумством разрушения, заставляла меня, когда я уже возвращался наверх, снова и снова превращать тело в сверкающий фюзеляж и повторять приземление, и не один раз, но в конце концов конструкция стальной птицы не выдержала череды длительных взлетов и падений между небом и землей и свалилась, разбитая, со сломанными крыльями, в кущи дрока, который пах миндалем. Элька вцепилась пальцами в мои волосы, а мне казалось, что я слышу вопли Желтокрылого о гибели мира и его обитателей, и сразу вслед за этим почувствовал кислое дыхание ксендза Дудака из-за решетки исповедальни, когда он не отпускал мне грехи. Но страх и фантазии заглушали друг друга, а единственным голосом был голос Эльки, шепчущей не мое имя, и единственным запахом был запах ее тела, в котором смешались ветер, соль и миндальный крем. Игра вокруг Вайзера была закончена, и я не вышел из нее ни чистым, ни победившим.
На следующий день я поехал в Мюнхен, где тоже провел игру, на этот раз со своим дядюшкой, и была та игра сугубо политической. Дядя, когда я уже помыл его машину и постриг газон перед его домом, сел напротив меня и сказал: «Как вы можете там жить?» А я отвечал: «Дядя, ущипни меня за ухо», – и он ущипнул, развеселившись. А я говорил: «Вот видишь, вроде ты и прав, однако вовсе не прав». «Это как же, почему?» – спрашивал он с любопытством, а я в ответ – что, мол, если я действительно существую, в чем он мог убедиться, ущипнув меня минуту назад, то не могу быть каким-то там муляжом или бутафорией. А коль скоро я являюсь частью целого, то и всё там тоже не муляж, Польша – не муляж, и вообще, хотя мир больше напоминает бордель, нежели театр, дядя не прав. Да, дорогой дядюшка, сейчас ты уже покоишься в земле и не знаешь, что я тогда приезжал в Германию и к тебе вовсе не на заработки, как тысячи турок, югославов, поляков, не заработать на машину и прочие прелести, а единственной моей целью было встретиться с Элькой и выпытать у нее о Вайзере, а если при случае – в определенном смысле обманывая тебя – я и заработал немного марок, ты, наверно, простишь это своему племяннику.
Что было дальше? М-ский вышел из кабинета, держа в руках большие листы канцелярской бумаги. Дал нам по двойному листу и сказал, что теперь мы должны записать все, что рассказывали, простыми словами и подробно. Должны описать все взрывы Вайзера, включая последний, ничего не пропуская, без всяких выдумок и прикрас. Сторож включил дополнительный свет, и нас рассадили подальше друг от друга, будто мы писали контрольную. Я только жалел, что с нашим творчеством не познакомится пани Регина, единственная учительница в школе, которую мы любили бескорыстно. Пани Регина учила нас польскому языку, никогда не говорила об эксплуатации, не кричала на нас и читала стихи так прекрасно, что мы слушали затаив дыхание, как Ордон взрывал редут вместе с собой и штурмующими москалями или как генерал Совинский погибал, защищаясь шпагой от врагов Отчизны. Да, пани Регина, похоже, не слишком заботилась об учебной программе, и сейчас я ей за это благодарен. Но то другая история. Тогда, в школьной канцелярии, я не очень-то знал, как и что писать. Несколько раз начинал предложение и зачеркивал, сознавая полное свое бессилие и отсутствие изобретательности. Каждому, кто хоть раз в жизни находился под следствием, знакомо такое состояние духа. Потому что одно дело – давать показания устно и совсем другое – писать собственной рукой то, что они хотят узнать. Как написать, чтобы ничего не сказать? Или – как писать, чтобы сказать только то, что можно? Нужно взвешивать каждое слово, каждую запятую и точку, ведь они возьмут это под лупу и будут читать каждое предложение два или три раза.
Отвечая на вопрос М-ского и сказав: «Я видел Вайзера», – я мог сразу же добавить: «Но смутно». А когда тот нахмурил брови, тут же можно было поправиться: «Нет, это в другой раз я видел его смутно, а тогда, в тот день, о котором вы спрашиваете, я видел его как вас, очень ясно». Но лист бумаги в клеточку – нечто совершенно иное. В чем я могу признаться в такой ситуации, а что должен утаить? Не много я мог рассказать. Не много – мог ли я описать им изысканность взрывов, каждый из которых был не похож на предыдущие? Мог ли я рассказать, каким образом Вайзер увлек нас своими идеями? И даже если мог, то заслуживали ли они этого?
Я тронул распухший нос и место на щеке, где сейчас начинается щетина. И там и там было довольно больно. Я подумал, что хотя ни за что не расскажу, что случилось над Стрижей в последний день, но все же что-то сказать, что-то написать на огромном листе должен, чтобы не вызвать у них гнев и злобу. Помню первое предложение: «Давид не играл с нами в войну, потому что его дед не разрешал ему такие игры». Разве не с такой именно фразы должна начинаться книга о Вайзере? Ведь его первый взрыв, который мы наблюдали в ложбине за стрельбищем, не был игрой в войну. Не знаю до сих пор, зачем Вайзер устраивал эти взрывы, зачем они ему были нужны, но, когда я увидел брызнувший в небо голубой фонтан пыли, уже тогда почувствовал, что никакая война здесь ни при чем. Вайзер к каждому заряду добавлял красящее вещество, и, когда детонация содрогала землю, в воздух летел цветной поток. В первый раз взрыв был голубой. Когда на землю уже попадали последние комья глины и сучья, мы увидели, что синеватая дымка еще висит в воздухе; голубое облачко кружило над нашими головами, постепенно поднимаясь все выше и меняя очертания, пока совсем не исчезло из поля зрения. Мы были в абсолютном восторге, и только Вайзер качал головой, словно у него что-то не получилось. Я допускаю, что он все время экспериментировал на наших глазах, а мы были кучкой профанов, допущенных в полную реторт, тиглей и пылающих горелок мастерскую алхимика. Я не утверждаю, что Вайзер интересовался алхимией, этого я не знаю, но именно так все выглядело, и, прежде чем мы оправились от первого впечатления, он приказал нам ждать на том же месте, заложил новый заряд, соединил его проводами с черным ящиком, и снова воздух тряхнуло от гулкого взрыва.
Эффект был еще поразительней: облако, которое повисло в воздухе после взрыва, было отчетливо двухцветным – его нижняя часть переливалась на солнце всеми оттенками фиолетового, а венец вертящегося столба представлял собой красный помпон. На этот раз Вайзер, кажется, остался доволен. Облако неторопливо плавало над ложбиной и только минуты через две или три расплылось в ничто, превратившись перед тем в болотно-зеленый шар. Зрелище было более захватывающим, чем серые облака дыма, которые выпускал ксендз Дудак из золотой кадильницы, мы это отчетливо ощутили, но на этом Вайзер завершил работу, спрятал куда-то черный ящик генератора и сказал, что мы можем идти домой. Сегодня я знаю, что в таких штучках ничего сложного нет, даже татары в свое время выпускали на христианских рыцарей цветные облака, от чего бесились кони, а люди цепенели от страха, но тогда мы считали Вайзера чудотворцем. После того как мы побывали на бездействующем кирпичном заводе, на который наткнулись, выслеживая Эльку, ничто не могло поколебать нашей уверенности в том, что Вайзер, если б только захотел, мог сделать все. Но о том, что мы видели в сыром подвале, я еще расскажу. К этому я должен подготовиться лучше, чем к пасхальной исповеди, когда в страхе перед гневом Божьим и самим ксендзом Дудаком я записывал грехи и заучивал их наизусть, как артист перед генеральной репетицией.
Следующий взрыв, вернее, следующее выступление Вайзера состоялось примерно через неделю и совершенно отличалось от первого. В воздух взлетел столб сверкающих чешуек, которые опускались на землю очень медленно. Самым красивым на этот раз было падение – облако не уплывало вверх, как в прошлый раз, а медленно планировало вниз, оседая на траву и на папоротник, которым ложбина заросла очень густо. На его листья осела серая пыль, и я не мог понять, почему вверху все выглядело так красиво, а тут, внизу, сверкающие минуту назад крупинки напоминали обыкновенную июльскую пыль, которая в то лето покрывала все липким, грязным слоем.
Вайзера не устраивали составы простые и незамысловатые, с каждым разом он стремился ко все более утонченным эффектам, и, хотя я понял это только теперь, через столько лет, так оно, безусловно, и было. В следующий раз, когда земля вздрогнула от взрыва, мы увидели картину, которая превзошла самые смелые ожидания. Что это было? Если я скажу, что французский флаг, я не совру, но не скажу и правду. Если напишу, что напоминало это три вращающихся вокруг своей оси столба разных цветов, это тоже не будет слишком точно и не передаст до конца суть дела. Да можно ли вообще передать суть чего-либо? Боюсь, что нельзя, и потому не пишу книгу, хотя думаю, что ее следовало бы написать давно. Так же, как книгу о Петре и о том декабре, когда над городом летали вертолеты, или о наших отцах, которые чуть ли не поголовно напивались в день зарплаты и, как пан Коротек, поносили Господа Бога за то, что тот все это безобразие допускает. А тогда, в ложбине, Шимек ткнул меня в бок и сказал: «Господи, как красиво! – и сразу добавил: – Как он это делает, жиденок чертов?» Но теперь это не звучало оскорбительно, а было чем-то вроде грубоватого комплимента, с таким же успехом Шимек мог сказать «прохвост чертов», и это было бы то же самое, так я чувствовал тогда, уставясь в небо, на фоне которого вертелись три столба дыма или, вернее, три вытянутых вертикально облака. Одно белое, как полотно, второе синее, а третье алое, как плащ матадора, которым тот заманивает ошалелого быка прямо на смертельный выпад шпаги. Цветные плоскости на этот раз не смешивались между собой, а только поднимались выше и выше, пока не исчезли за вершинами сосен.
В тот день, когда мы возвращались глубоким оврагом, ведущим к Брентову, и Шимек спорил с Петром, что это было: ленты от шляпы или французский флаг, мы встретили М-ского. Сначала в конце глинистого ущелья замаячил знакомый сачок для бабочек, а потом мы увидели самого учителя – он бегом преодолевал крутизну в этом месте откоса, цепляясь руками за плаун. Бабочка, за которой гнался М-ский, спланировала на траву, так что учитель вытянул шею как мог вперед и чуть ли не уткнулся носом в плаун. Когда М-ский был уже на середине склона, бабочка изменила намерения и, сделав над его головой вибрирующее сальто, упорхнула вниз, мельтеша цветными крылышками. М-ский бросился за ней, однако, сбегая по крутизне, не смог притормозить и свалился почти нам под ноги, и мы услышали треск палки, к которой был прикреплен сачок. Но М-ский не заметил ни нас, ни сломанной палки, так как в сетке трепыхалась огромная бабочка.
– Тихо, тихо, малышка, – шептал М-ский и, продолжая лежать, вынул из рюкзака склянку, после чего ловким движением поместил в нее бабочку. – Наконец-то ты моя, – говорил он ей ласково. – Получишь самую красивую булавочку, прелесть моя, – а когда, поднимаясь с колен, увидел нас, вовсе не смутился, а, наоборот, торжествующе улыбнулся. – Ну как, мальчики, – сказал он, – знаете, что это такое? Нет, к сожалению, это не
Мы стояли разинув рты и глядя на склянку, которая напоминала маленький цилиндр, и видели, как бабочка пытается махать крыльями, но у нее слишком мало места в стеклянной ловушке, и она бьется совершенно как рыба в аквариуме, не понимая, в какую беду попала. Разумеется, М-ский, который пошел своей дорогой, не имел ничего общего с трехцветным взрывом Вайзера. Но, выводя очередную фразу моего сочинения на канцелярской бумаге в клеточку, выводя не спеша, обдумывая каждое слово, я думал о том, что Вайзер иногда напоминал такую бабочку, например когда у него что-то не получалось и он нервничал, прикрывая растерянность излишней жестикуляцией. Да, четвертый взрыв получился неудачным, это было ясно, потому что, когда мы услышали взрыв, нашим глазам явилась обыкновенная серая туча пыли, которая быстро осела, и это было все. Вайзер побежал к месту, где был заложен заряд, и, размахивая руками, как
Я не утверждаю, что у него было что-то общее с бабочками, но сравнение это, когда часы в приемной пробили десять, а я дописывал только первую страницу, – сравнение это показалось мне намного удачнее, чем сегодня, когда воображение мое уже совсем не то, каким было много лет назад. Но бабочку и трехцветное облако я тогда сохранил для себя, так же как Шимек и Петр. Я не написал ни слова ни об экспериментах Вайзера, ни о том, как действительно выглядел последний взрыв. Я писал просто, чего и требовали те трое, укрывшиеся за дверью, обитой стеганым дерматином. Писал, что каждый раз Вайзер шел к генератору на другую сторону ложбины, что во время взрывов мы прижимали головы к самой земле и что взрывы, собственно, ничем не отличались один от другого, за исключением силы детонации. А когда сторож вышел на минуту, Шимек поднял голову от своего листка и шепнул: «Я это напишу, – и мы с Петром уже знали что, прежде чем Шимек добавил еще тише: – Напишу, что мы нашли обрывок красного платья Эльки и выбросили его в помойку, и все… или нет, – поправился он тут же, – мы сожгли его на костре». Я знал, так же как Шимек и Петр, что это их устроит, поскольку у них была своя картина случившегося и от нас они добивались единственно ее подтверждения. Сторож вернулся из уборной, а я думал, как описать последний взрыв, за день до того, что случилось над Стрижей, взрыв, который для Вайзера должен был иметь особое значение, в чем я убежден и сегодня. В тот раз речь шла не о цветовом эффекте, а о чем-то более замысловатом. Как обычно в таких случаях, мне не хватает шкалы сравнений. На что это было похоже? Если бы я попытался определить это тогда, я сказал бы, что на воронку, через которую моя мать вливала в бутылку малиновый сок, – туча пыли, поднявшаяся после взрыва, была совершенно черная, узкая внизу, расширяясь кверху, она вращалась вокруг своей оси. Хотя это была вовсе не воронка, а уж скорее мощный смерч из черных крупиц. Он предстал перед нашими глазами сразу после взрыва и носился кругами над ложбиной добрую минуту, прежде чем исчез, расплывшись в воздухе. Только спустя годы пришло мне на ум сравнение Вайзеровой воронки с Архангелом, борющимся со змием. Я не сомневался, что фантастические складки одеяния святого, его распростертые крылья и весь сонм небесных воителей – все это вмещалось в черную вертящуюся тучу, хотя Вайзер, возможно, никогда подобной гравюры и не видел, да и мы тогда понятия не имели ни о каком искусстве. «Такой смерч все может засосать, – уверенно сказал Шимек, – хоть целого человека». А Элька, как обычно склонная к преувеличениям, добавила: «Ты что, не только человека, он может засосать целый дом и перенести его далеко-далеко». И когда я закончил эту последнюю фразу в моих письменных показаниях, я подумал, что Вайзер ведь мог бы наслать такой смерч, чтобы он сорвал с места нашу школу и перенес ее куда-нибудь за Буковую горку, в район старого кладбища или еще лучше – в ложбину за стрельбищем, и только тогда М-ский, директор и сержант поняли бы, что тут произошло нечто другое, а не просто несчастный случай со снарядом. Но Вайзер из своего, только ему известного места не торопился с помощью, так что я поставил точку и ждал, что будет дальше. Сторож собрал наши сочинения. А я снова подумал о пани Регине, которая учила нас польскому языку и прекрасно читала стихи. Особенно стихотворение о преступной женщине, которая убила своего мужа, застряло в моей памяти: едва пани Регина дошла до схватки двух братьев, когда в костеле появляется дух в доспехах и взывает голосом как из подземелья и когда костел с грохотом проваливается, в классе стало тихо, как никогда, никто не разговаривал, никто не проливал чернила, и было еще праздничней, чем во время причащения, когда ксендз Дудак поднимал вверх круглую, как солнце, облатку и пел на латыни. Если бы пани Регина приказала нам написать сочинение о Вайзере, оно было бы совершенно не таким, как то, которое я отдал сторожу. Может быть, я не написал бы всего, но наверняка рядом с черной пантерой оказался бы замечательный матч, а над рыбным месивом в заливе завертелся бы смерч, засасывая всю эту мерзость в мощную воронку, и на другой день мы могли бы купаться, как каждый год.
Тем временем мы продолжали сидеть на складных стульях, рейки которых впивались в зад, а сторож, не прикрыв за собой дверь, исчез в бездне кабинета. «Теперь вы должны подождать, – объявил он нам, вернувшись через минуту. – Если все будет в порядке, подпишете показания и пойдете по домам. Но разговаривать еще нельзя», – добавил он, грозно поглядев на Петра, который наклонился ко мне. Так что мы и не разговаривали, как и все то время, которое прошло с момента, когда нас привели сюда, и я слышал, что в желудке у Шимека, так же как у меня и у Петра, бурчит все сильнее, поскольку они, конечно, ничего не дали нам поесть. Сторож включил радио, и из деревянного ящичка зажурчала народная музыка. «Сейчас будут новости», – сказал он сам себе и принялся уплетать очередной бутерброд. Действительно, музыка прекратилась, и диктор объявил, что сейчас будут фрагменты из выступления Владислава Гомулки, лысина которого засияла в последнее время на портретах во всех классах. Смешной, немного писклявый голос говорил что-то о порядке в нашем общем доме, а я удивлялся, почему взрослые произносят имя этого человека с таким благоговением, если он говорит скучно, скучнее даже ксендза Дудака на воскресной обедне. Кто, однако, постигнет тайны политических меандров? Сегодня, когда я уже знаю, почему люди восхищались Владиславом Гомулкой (по крайней мере, могу это понять), я вспоминаю тех самых взрослых, которые восторгались словами его преемника, в частности тем, что он говорил на верфи, когда еще свежа была земля на могиле Петра, – он тоже говорил о порядке и общем доме. Да, сегодня я считаюсь взрослым и, хотя не интересуюсь политикой, никогда не впадаю в энтузиазм по отношению к вождю, который начинает с общего дома и порядка. Но хватит об этом, ведь не о том я хотел рассказать. Речь идет о Вайзере. Только о кем. И пока еще очень далеко до ясности. Игра не закончена. Игра? Не могу назвать это иначе. Допускаю, что так же, как тогда, когда мы сидели втроем, ожидая завершения следствия, так же точно теперь Вайзер играет со мной и наблюдает за моими действиями черными глазами. Но об этом рассказ впереди.
Что было после памятного матча с армейскими? Самым важным была погода. Солнце яростно жгло город и залив, листья на деревьях пожухли, как в начале осени, а птицы вообще уже почти не пели, замученные жаром, льющимся с неба. Как-то раз мы поехали в Елитково проверить состояние «рыбного супа», и то, что мы увидели, превосходило самые мрачные ожидания. Кроме колюшки, в стоящей без движения воде залегали сотни полудохлых камбал, угрей, сельдей и другой рыбы, названия которой не знаю до сих пор. Все это, полусгнившее и страшно вонючее, шевелилось в конвульсиях. Угри, самые сильные из рыб, умирали дольше всех, их извивающиеся тела сохранились в моей памяти как символ того лета. Рыбаки вылезали из своих хибар и целые дни просиживали перед ними на лавках, дымя сигаретами и проклиная свою судьбу. Один из них окликнул нас, когда мы шли между пустыми ящиками.
– Зачем вы сюда ходите, пацаны, – проговорил он меланхолично, – нечего вам тут делать. – И сразу же, никем не спрошенный, разговорился: – Это иприт, все из-за этого проклятого иприта, говорю вам, пацаны, чертово прусское свинство. – А когда понял, что мы не очень-то смекаем, о чем речь, объяснил: – Вы что, не слышали про иприт с немецкой подлодки? Она затонула в последние дни войны недалеко от Хеля и вся была начинена ипритом, как бочка сельдью, ну и вот, получили теперь, помойка, а не залив!
– Ну-ну, Игнац, не морочь ребятишкам голову, все знают, никакая тут не подлодка, а русские проводили маневры на святого Иоанна, ну и напустили в воду дряни какой-то, от нее и подохнем все, как рыба!
Рыбак разозлился не на шутку:
– Не мели ерунду, старуха, – рявкнул он на жену и, обращаясь к нам, повторил: – Подлодка, вот и все, проржавела, и из банок потекло это свинство, проклятые гитлерюги, мало нам бед натворили, так еще и это теперь!
Мы сразу разделились на два лагеря, и, пока в ожидании трамвая возле круга кипел громкий спор между сторонниками подлодки и советских маневров, я смотрел в небо, раскаленное добела, смотрел на шар солнца и знал, что не подлодка и не советские маневры в заливе всему этому причина. Если бы, однако, кто-нибудь спросил меня тогда или теперь, что было причиной «рыбного супа», я не смог бы и не смогу дать ясный ответ. Наверно, не грехи человеческие и не гнев Божий, как считал ксендз Дудак, а за ним многие жильцы нашего дома. Они собирались по вечерам во дворе и разговаривали, понизив голос, будто боялись накликать более страшные беды. И странные вещи можно было от них услышать: и что над водами залива видели рыбаки из Хеля оранжевый шар, похожий на шаровую молнию, и что Матерь Божия из Матемблева явилась одной женщине, когда та шла лесом в Брентово, и что моряки видели собственными глазами парусник без матросов, плывущий ночью между пароходами на рейде. Были и такие, что видели комету в форме лошадиной головы, как она кружила над городом, и те, кто ее видел, клялись, что комета вернется, облетев Землю, и обрушится на нас со страшной силой.
Тем временем каждый следующий день казался жарче предыдущего, и мы не играли даже в футбол у прусских казарм из-за жары и облаков едкой пыли, которые вздымались от сгоревшей травы. Что было делать? Несмотря на угрозы М-ского, мы ходили на брентовское кладбище. В тени старых буков было прохладней. Только у нас уже не было каски и ржавого «шмайсера», а Желтокрылого и след простыл. Мы предполагали, что его поймали где-то поблизости и наше оружие было конфисковано. Игра в немцев и партизан без этих атрибутов казалась нам скучной, и тоска все прочнее поселялась в наших сердцах. Если бы Вайзер захотел прийти сюда как тогда, думали мы, может, принес бы с собой что-то интересное, что-нибудь, что позволило бы нам возобновить свои войны с еще большим запалом. Но Вайзер и не думал приходить. Его выступление в матче было последним знаком, который он нам дал, и теперь ждал, что мы придем к нему. Постепенно мы дозревали до этой мысли, но не слишком быстро. Как-то раз Петр, лежа в тени орешника, сказал: «Пляж закрыт, стадион на хрен годится, чего нам тут делать?» Неизвестно, что он имел в виду – кладбище или вообще город, задыхающийся под раскаленным шаром солнца, но именно с этой фразы, которая не была адресована ни одному из нас и которая повисла в воздухе, – с этой именно фразы началось наше приключение с Вайзером. С минуту помолчав, как обычно, Шимек выплюнул пережеванную травинку и сказал: «Вайзер бы что-нибудь придумал». И все мы поддакнули: о да, Вайзер наверняка что-нибудь придумал бы, Вайзер – это не кто-нибудь, в этом были мы уже уверены, вот только как бы к нему подкатиться, чтобы не показаться дурачками, которые сами уже ничего не способны придумать. С другой стороны, Вайзер придумщик и мог бы с нами чем-нибудь поделиться, ясно, что не игрой в чижика или лапту, то были вещи обычные и будничные, а жара усилила нашу естественную неприязнь к вещам обычным и будничным. Да, мы жаждали перемен, и кто знает, не было ли то подсознательным стремлением бросить вызов судьбе, которое часто возникает у мальчишек, разглядывающих карту или читающих «Графа Монте-Кристо». Тяга к переменам жгла наши души, удрученные смертельной скукой. Вдруг мы поняли, что перемены может принести нам только Вайзер. «Нужно пару раз пойти за ними», – предложил Шимек. А Петр сообщил, что Элька с Вайзером ходят теперь не на аэродром, а куда-то за Брентово и там исчезают, часто на полдня. В общем, порешили на том, что завтра мы с самого утра затаимся за углом нашего дома и выследим, чем они занимаются, куда ходят, а также почему избегают нашей компании.
Но оказалось это не так просто, как мы думали. Уже с самого начала трудности множились, точно грибы после дождя. Во-первых, Шимек забыл свой французский бинокль и вынужден был вернуться за ним в тот момент, когда Вайзер уже выходил с Элькой из подъезда. Во-вторых, они словно специально изменили в тот день свои планы и вместо того, чтобы пойти – как мы думали – по улице прямо в направлении Буковой горки, свернули на дорожку между изгородями и пошли в сторону аэродрома. В-третьих, следить сразу большой группой неудобно, а в тот день нас было пятеро или шестеро. Каждую минуту приходилось останавливаться и кого-то утихомиривать, и тогда мы теряли их из виду. Около трамвайного круга нас догнал Шимек. «Я говорил! Они идут на аэродром!» И никто почему-то не сказал ему, что ведь ничего такого он не говорил. С минуту я дрожал в надежде увидеть еще раз игру с самолетом, но только с минуту, потому что Элька с Вайзером спустились по лестнице вниз, на станцию электрички, которая тогда называлась Гданьск-Аэродром. И прежде чем мы успели сориентироваться, уехали в желто-голубом вагоне в сторону Сопота, и в тот день это было, собственно, все. «Одурачили нас как маленьких, – подытожил Петр, – можно идти домой». Мы стояли на мосту, поджидая, чтоб нас осенила какая-нибудь идея, но идеи не было. Вместо нее мы увидели в небе биплан, который поднимался ввысь с натужным хрипом мотора.
– О, биплан, – сказал Петр.
– Какой там биплан, просто кукурузник, – поправил Шимек и вытащил из футляра свой французский бинокль. – Посмотрим чуть-чуть!
Мы выстроились в очередь к биноклю вдоль железных перил моста, самолет тем временем удалялся от нас в направлении залива. Шимек, хотя и неохотно, пустил бинокль по кругу. Кукурузник, набрав соответствующую высоту, развернулся к городу. Он летел с выключенным двигателем и постреливал свободным пропеллером: тррах – трах-трах – трах-трррах. Вдруг, когда грязно-зеленый корпус миновал кладбище на Заспе, с моста казавшееся просто купой деревьев, из самолета выпорхнул грибок парашюта. Один, и через несколько секунд еще один, и еще один, а за ними еще два – всего пять парашютистов спускались теперь вниз, прямо на траву аэродрома. Самолет пролетел над нашими головами, повернул, выровнял курс и приземлился рядом с ангарами. В этом не было ничего необычайного, каждую весну и лето раз или два раза в неделю здесь тренировались парашютисты, и рокот бипланов над нашим районом я помню с тех времен как неизменный киношный рефрен. Но тогда выбора у нас не было, и парашютисты нам очень понравились, мы стояли на мосту, биплан взлетал и приземлялся, белые купола расцветали в небе, а за спиной у нас каждые шесть минут грохотала желто-голубая электричка, вагоны которой наш город унаследовал от берлинского метро. Я написал «унаследовал» – разве это плохо? Не написал бы так, если бы все это складывалось в книгу о Вайзере, а если в книгу, то, значит, для издательства, там сразу подчеркивают такие выражения и спрашивают: «Как это – унаследовал?! Ханс Юрген Хупка, Гоншорек, Чайя, они ждут таких формулировок и потирают руки. «Это наше, – говорят они, – это все наше, немецкое!» – и ответственный редактор немедленно вычеркивает это слово, зачем лить воду на мельницу реваншистов? И я уже вижу, как на моем манускрипте рука редактора пишет: «Заменить другой формулировкой». А за нашей спиной каждые шесть минут грохотали желто-голубые вагоны электрички, которые попали в наш прекрасный древний город благодаря братству по оружию героической польской и непобедимой советской армий, в совместном штурме разгромивших берлинского гада. Ну, может, я немного переборщил, сегодня ни один редактор так бы не написал, и вместо зачеркнутого «унаследовал» я бы обнаружил «получил как военную репарацию». Но я не сочиняю книгу о Вайзере. «Живу для того, чтобы писать, и считаю, что, невзирая на обстоятельства, нужно посвятить жизнь исследованию хаоса, равно как и порядка». Не помню уже, кто это сказал. И хотя первая часть этой фразы грешит безвкусицей и я вовсе не живу, чтобы писать, но вторая часть кажется важной сейчас, когда я исписываю страницу за страницей в надежде, что наконец пойму то, чего понять не могу, что наконец увижу то, чего раньше не замечал. Что отделю порядок от хаоса или в хаосе проявится какой-то иной, совершенно незнакомый лад. Да, именно об этом речь. Поэтому тут столько запутанных нитей. Поэтому также я не заменю уже написанное слово никаким другим, даже лучше звучащим.
Итак, мы стояли на мосту и наблюдали за прыжками парашютистов. Имело ли это какое-нибудь отношение к Вайзеру? И да и нет. Если я вспоминаю ту минуту жаркого лета, то прежде всего потому, что вернулся однажды к ней в разговоре с Петром. Каждый год я прихожу к нему на кладбище, и, когда уже уйдут оттуда все люди, все взрослые люди, которые верят в Бога, но не верят в духов, когда они оставят на могилах цветы, венки, черные ленты и зажженные свечи, я сажусь на каменную плиту и разговариваю с Петром, иногда мы даже ссоримся из-за мелочей, словно все еще ходим в ту самую школу в Верхнем Вжеще. Однажды я присел на краешек плиты, смахнул засохшие листья, и Петр спросил у меня сразу:
– Ну, что новенького в городе?
И я ответил ему, что, собственно, ничего особенного, только вот с сообщением сложности.
– Какие сложности?
– Ну да, ты ведь отсюда никуда не ездишь, – говорю я примирительно. – Электричку обновляют.
– Как это обновляют?
– Ну, меняют вагоны, – отвечаю, – старые, те, из берлинского метро, на лом пойдут, а вместо них будут курсировать новые, такие же, как во всей Польше, под Варшавой, Лодзью или Краковом, это тоже электричка, но на три тысячи вольт, а та была на девятьсот.
– Девятьсот? – говорит недоверчиво Петр. – Та электричка была не на девятьсот, а на восемьсот вольт.
– Нет, – говорю я Петру, – ты забыл, точно не восемьсот, а девятьсот!
«Восемьсот» – Петр, «Девятьсот» – я, «Точно восемьсот» – снова Петр, «Нет, точно девятьсот, – снова я, – ведь заменяют всю тягу, чтобы соединить этот участок непосредственно с Быдгощем», на что Петр: «Это не аргумент, тягу так или иначе должны переделать, но я тебе говорю, та, старая, была на восемьсот!» И так мы спорим, как два хороших друга, а последние старые составы еще курсируют между Гданьском и Вейхеровом с нерегулярными интервалами, так как работы не прекращаются даже в праздничные дни. А когда я уже спускался по крутой аллейке кладбища вниз, теперь уже в целом море ярких огней, в ароматном облаке тысячи свечей, я вспоминал тот день, когда мы стояли, опершись о железные перила моста и наблюдая за тренировкой парашютистов, когда мы уже почти забыли о Вайзере и за спиной у нас проносились желто-голубые вагоны электрички из берлинского метро. Память у Петра оказалась лучше: у той электрички тяга действительно была восемьсот вольт.
Тем временем кукурузник приземлился на траву в последний раз, парашютисты исчезли в глубинах ангара, и бинокль из-под Вердена нырнул из рук Петра прямо в кожаный футляр. Шимек смачно сплюнул вниз. «Нечего нам тут делать, – сказал он решительно, – пошли домой!» И снова разговор вернулся к Вайзеру. Только о чем и что мы говорили? Уже не помню. Но точно о нем, уже только о нем, страстно и горячо вели мы споры, как к нему подкатиться, чем его убедить, как заставить чем-нибудь заняться с нами.
Прошло еще два дня, страшно скучные и бесплодные. Вайзер каждый раз ускользал от нашего бдительного ока, однажды исчез где-то рядом с костелом Воскресения, а в другой раз мы потеряли его из виду на вершине Буковой горки. Тогда мы решили подстеречь его у старой насыпи, так как если он действительно ходит с Элькой аж за Брентово, то должен изрядный кусок дороги проходить именно там. С утра мы сидели на кладбище, в том месте, где одним из своих углов оно примыкает к старой железнодорожной линии.
Сегодня, когда я силюсь восстановить течение того дня, остается много белых пятен, однако с картографической точностью выплывает из тумана та железнодорожная линия, которой, собственно, и не было. Ее трасса изгибалась дугой в юго-западном направлении. Отходя на уровне станции Гданьск-Аэродром от главной артерии города, она опорами взорванных мостов пересекала улицы Грюнвальдскую, Вита Ствоша, Полянки, затем бежала вдоль леса мимо костела Воскресения, проходя через туннель в овраге, дальше, миновав брентовское кладбище, снова перепрыгивала по взорванным опорам виадука шоссе, ведущее в Рембехов, и через каких-нибудь полкилометра, на уровне дурдома, ныряла в более глубокий овраг сразу за тем местом, где Стрижа текла под насыпью в узком туннеле. Оттуда она убегала в незнакомые нам дали, мы только знали, что и там взорванные мосты сопровождают ее неизменно с непостижимым упорством. Трудно было понять, почему среди стольких взорванных мостов уцелели лишь те, которые сегодня совершенно бесполезны, как тот, например, что между костелом ксендза Дудака и брентовским кладбищем, фантастически высокий, связывающий берега откосов, заросших травой, дроком и дикой малиной.
Но тогда не это было самой важной проблемой. Мы поджидали Вайзера в пустом склепе, скрытом в зарослях крапивы и папоротника и служившем отличным тайником. Шимек не отрывал глаз от бинокля, а мы лежали на животе, жевали травинки и время от времени лениво обменивались словом-другим среди жужжания ос и шмелей. Жара потихоньку проникала и сюда, внутрь склепа, так что запах прелой гнили и холодного цемента все больше смешивался с удушливым ароматом цветов. Солнце поднималось все выше, и где-то около полудня Шимек, отложив бинокль, сказал, что мы лежим тут неизвестно зачем, потому что если Вайзер не появился до сих пор, то наверняка уже не придет. А может, он вообще пошел другой дорогой? Может, он обошел это место через каменоломню и гору, которую мы называли вулканом за ее куполообразную форму и вогнутую вершину? А может, он сидит сейчас в кустах дрока на аэродроме и ждет с Элькой приземляющийся самолет? Все было возможно. Ничего невероятного не было. Наверно, поэтому я подумал тогда, что через минуту мы услышим из-за бугра стук стальных колес, протяжный гудок, и в клубах пара с шипеньем и грохотом появится перед нами паровоз, который ведет Вайзер в железнодорожной фуражке. Он остановит машину, спрыгнет с крутых ступенек железной лесенки, помашет нам рукой, чтобы мы садились, и сейчас же поедет дальше. Поршни загрохочут в ускоренном ритме, пар зашипит в клапанах, и мы двинемся вперед, аж за Стрижу и за последний взорванный мост из красного кирпича, туда, где появятся наконец настоящие рельсы и стрелки. Я верил тогда, что насыпь ведет к такому месту, и представлял себе, как мы едем с Вайзером, проскакивая заброшенные полустанки, ржавые семафоры и заросшие бурьяном будки стрелочников, и Вайзер, как капитан корабля, назначает меня дозорным, чтобы я следил за коварными и незаметными в буйной траве разъездами, от которых предательски ответвляются тупиковые пути. Все это я рассказывал вслух, сам не знаю почему, но никто не смеялся и не считал, что это глупо. В конце концов – что такое взорванные мосты и отсутствие рельсов по сравнению с возможностями Вайзера? Его локомотив мог бы с успехом появиться здесь в клубах пара и умчать нас в неизвестность. Но Вайзер не приходил, и время тянулось ужасно медленно.
Не помню, кого мы послали за лимонадом в магазин Цирсона, а кого – принести булки или утащить что-нибудь поесть из дому. Не могу также вспомнить, сколько было бутылок лимонада и из всех ли выходил маленькими пузырьками газ. Моя придумка с Вайзером или, точнее, с паровозом Вайзера, очень понравилась, меня заставили еще раз повторить все с начала, и каждый из слушателей добавлял что-то от себя, и так родилась наша легенда о необычном паровозе мертвой железнодорожной линии. Пока последние капли лимонада высыхали на 'зеленых бутылках, а крошки от булок на наших глазах растаскивали красные муравьи, мы придумывали дополнительные детали этой истории, прекрасные, как нам казалось, и исключительно возвышенные. Так, паровоз с удивительным машинистом появлялся всегда при полной луне. С зажженными огнями, выбрасывая снопы искр, он медленно двигался со стороны Вжеща, проскакивая взорванные мосты легко и свободно. На маленьком мостике возле костела Воскресения он на минуту останавливался, и тогда можно было увидеть, как из ризницы выбегает крадучись человечек в куцем фраке. Человечек подходил к сопящей машине и передавал машинисту кошелек со звонкими монетами. Паровоз трогался, попрощавшись с человечком коротким свистком, а тот убегал рысцой в темный еловый лес на другой стороне насыпи. За что уплачено машинисту? Все имеет свои причины – паровоз, въезжая теперь в глубокий овраг, сильно разгонялся, быстро проносился под сводом каменного моста и скрежетал, тормозя у края кладбища, где мы теперь сидели, все это придумывая. Вайзер тянул за рычаг и пронзительно свистел три раза. И вдруг при бледном свете луны открывались заросшие склепы, отодвигались потрескавшиеся плиты, и мертвецы, постукивая костями, вылезали из могил и роем спешили к паровозу. Когда уже все были готовы в путь, машинист впускал их на платформу и отправлялся дальше, пролетая следующие взорванные мосты и невидимые стрелки. Так бывало каждый месяц, в каждое полнолуние, независимо от времени года. Машинист возвращался под утро, усталые путешественники расходились по склепам, а паровоз исчезал где-то в районе станции Аэродром, где старая насыпь подходила к настоящим рельсам. Некоторые жители отдаленных предместий видели все это и, трясясь от страха, рассказывали надежным людям. Нашлось несколько смельчаков, пожелавших проникнуть в тайну, но за любопытство приходится дорого платить. Однажды брат причетника вскочил на платформу и вместе с мертвецами поехал к Стриже. И никому уже не рассказал о том, что видел, ибо, когда паровоз вернулся обратно и приостановился возле кладбища, скелеты подхватили его под руки и увели с собой, в один из склепов. Оттуда слышно в безветренные ночи, как наполовину живой, наполовину мертвый брат причетника взывает: «Выпустите меня отсюда! Выпустите меня!» – но неизвестно, где спрятали его мертвецы, да и крик такой страшный, что никто не отважился бы искать пропавшего.
Может быть, не все детали этой истории я повторяю в точности, но сейчас, так же как в школьной канцелярии, когда мы ожидали результатов наших письменных показаний, я думаю, что это, в общем-то, повесть не хуже той, которую читала нам пани Регина на уроке польского. В конце концов, там тоже все происходит ночью, и мертвец встает из могилы и обращается к живым. И хотя мы не слишком боялись кладбища и был полдень, но, когда все уже было придумано и рассказано хором перебивающих друг друга голосов, когда вся эта история прозвучала в тишине заброшенного склепа, нам стало не по себе. Как будто в самом деле то, что было рассказано, могло стать реальностью, вопреки здравому смыслу и мудрым рассуждениям.
Но Вайзер все не появлялся в поле нашего зрения. В ложбине напротив кладбища, по другую сторону насыпи брентовский крестьянин косил траву. Распряженная лошадь щипала клевер, а ее хозяин время от времени прерывал свое занятие, распрямлял плечи, доставал из кармана оселок и точил косу. Металлический звон лениво расплывался в разогретом воздухе, а нас становилось все меньше, так как многие усомнились, стоит ли ждать, и каждую минуту кто-нибудь отправлялся домой по дороге через Буковую горку, покидая склеп и надежду.
– Взыскуйте и обрящете, – поучительно сказал Шимек, подражая голосу ксендза Дудака.
– Как это, – удивился Петр, – разве Господь Бог занимается такими делами?
– Какими делами? – спросил я.
– Ну, разве он сделает так, чтобы Вайзер появился здесь, если мы очень попросим? – пояснил Петр, но Шимек быстро развеял его сомнения:
– Думаешь, у Господа Бога нет более важных занятий? И вообще, чего тут говорить, Вайзер – еврей, и это совсем другой коленкор!
– Иисус Христос тоже был евреем, – не сдавался Петр, – а так как он был сыном Господа Бога, значит, Господь Бог тоже еврей, правильно? Если твой отец поляк, – повернулся он к Шимеку, – то и ты родишься поляком, а если бы он был немцем, то и ты родился бы немцем, верно?
– Если бы да кабы да во рту росли грибы, – буркнул Шимек неохотно и больше не говорил на эту тему.
Где-то далеко за холмами Медвежатника загудел самолет. Мы, уже оставшись втроем, долго молчали, никому не хотелось без толку молоть языком. Я так же, как они, думал, что Вайзер сегодня не придет, и мы спокойно можем идти домой, а если поспешим, то мы еще успеем сдать бутылки из-под лимонада до закрытия магазина Цирсона. Солнце стояло уже низко, и длинные тени сосен пересекали насыпь, как балки, переброшенные через ручей. Освещенные стволы выглядели неестественно красными, как на картине ярмарочного художника. За насыпью мужик закончил сгребать скошенную траву в маленькие копенки, после чего запряг лошадь и поехал в сторону построек. Мы почувствовали запах сена, смешанный с запахом конского пота, воздух застыл в неподвижности, незыблемой с тех пор, как «рыбный суп» заполнил залив. «А может, придем сюда ночью?*· – прервал молчание Петр. «Это еще зачем?» – спросил Шимек. И тогда Петр сказал, что стоило бы проверить, действительно ли в двенадцать ночи мертвецы встают из могил или, по меньшей мере, разговаривают между собой. Люди так говорят, и неизвестно, сколько в этом правды. Может, говорят, потому, что знают, а может, потому, что попросту боятся и сами никогда не проверяли. Так мы могли бы проверить. «Ну хорошо, – согласился Шимек. – Но кто пойдет? На кладбище ночью нужно идти одному, покойники чуют, когда ты не один, совсем как животные, – говорил он, – и тогда все впустую». Решили тянуть жребий – пойдем мы, конечно, втроем, но перед кладбищем тот, на кого выпадет, перекрестится и дальше пойдет один. И будет не меньше пятнадцати минут ждать в самом центре кладбища возле каменных ангелов с обломанными крыльями. Но жребий не бросили.
– Смотрите, – зашептал Шимек, выползая из склепа, – идут, вон там!
Действительно, по насыпи шел Вайзер, а на полшага сзади с каким-то свертком в руках следовала Элька, подпрыгивая, как маленькая девочка. Мы быстро вышли из склепа, прячась за густыми кустами боярышника, который рос не больше чем в пяти метрах от насыпи. Они прошли мимо нас и свернули на проселочную дорогу, направляясь к стрельбищу. Когда они исчезли в устье глинистого оврага, мы двинулись за ними. Это был тот самый овраг, в котором мы потом встретили М-ского с сачком для бабочек, когда он ловил своего аполлона. Мы были как псы, спущенные после долгого ожидания с поводка, псы, учуявшие зверя и рвущиеся вперед, чтобы не потерять след. Там, где кончается овраг, дорога слегка поднимается вверх. Мы притаились у этого подъема, наблюдая, как Вайзер с Элькой взбираются теперь краем морены на плато. Мы подкрадывались к ним с соблюдением всех правил военного искусства, и это была непростая задача – у них было преимущество высоты. Лежа за разросшимися кустами дрока, мы следили за каждым их шагом и жестом. Но они держались необычайно спокойно. Усевшись в наивысшей точке плато лицом к морю, разговаривали о чем-то, похоже, не слишком серьезном, судя по выражению Элькиного лица. Тогда мы думали, что Элька с Вайзером ждут какого-то знака, чего-то важного, что вырвет их и нас из напряженного ожидания, но сегодня я знаю, что они просто ждали заката. Ибо то, что случилось чуть позже, могло произойти только после захода солнца. Оранжевый шар исчез наконец за лесом, на небе запылало зарево, на фоне которого мелькали с ошеломительной скоростью черные точечки насекомых, и тогда Вайзер встал, подал Эльке руку, и они пошли дальше, к стрельбищу. Мы крались за ними, как духи, – быстро и бесшумно. Шли старой посадкой, дальше вдоль ложбины за стрельбищем, откуда по узкой тропке взобрались в гору среди мрачных буков и орешника, потом путь нам пересекло рембеховское шоссе, и дальше дорога уже без перерыва вела нас лесом в неизвестном направлении, удаляясь от построек Брентова. В разогретом воздухе слышался запах смолы и сухой коры, который не развеивал никакой, даже самый слабый, порыв ветра. В темную безлунную ночь, когда только звезды смотрели на нас молча, здание бездействующего кирпичного завода, неожиданно выросшего перед нами, показалось огромным – с высоченной башней трубы, черными провалами окон и покатой крышей, страшные обнаженные стропила которой напоминали ребра громадного зверя.
Мы робко стояли на краю леса, и только гулкий голос Вайзера вернул нас к действительности. Он говорил что-то Эльке, и она отвечала ему отрывисто. Слова доносились откуда-то из глубины, усиленные эхом, гулявшим в пустых стенах. Было ясно, что они где-то внизу, похоже в подвале. На цыпочках мы прошли мимо чугунных вагонеток и устья печи для обжига кирпича. В той части помещения, откуда слышались голоса, пол был деревянным и вдобавок трухлявым. Взяв ботинки в руки, бесшумно крадучись, подошли мы к открытому люку, откуда вниз спускалась лестница. Вдруг под нами засветилось пламя спички, а потом свечи, которую Элька поставила у стены. Мы прильнули к доскам; щели, к счастью, были настолько широки, что мы видели все как на ладони. Элька уселась по-турецки у стены рядом со свечой. Посреди подвала, тоже на полу, сидел Вайзер, как-то съежившись, будто молился. Они молчали, а я глотал слюну и чувствовал, что сейчас случится что-то страшное. Я слышал, как кровь Ниагарой шумела в каждой моей жилке.
Элька развернула сверток. В мерцающем свете свечи я увидел у нее в руках странный музыкальный инструмент – несколько соединенных между собой свистулек разной длины, – который она приложила к губам, ожидая от Вайзера какого-то сигнала. Наконец, когда он поднял голову, мы услышали первые звуки, странно далекие, как будто кто-то играл на вершине горы медленную и полную тоски мелодию. Тембр инструмента был мягкий и обволакивающий. Вайзер встал. Поднял руки, с минуту постоял в такой позе. Мелодия становилась все живее, фразы то и дело обрывались, возвращаясь, однако, к главной теме. А Вайзер, тот самый Вайзер, которого мы увидели в праздник Тела Господня в облаке кадильного дыма, тот самый Вайзер с аэродрома и из зоопарка в Оливе, Вайзер, который выиграл матч с армейскими, танцевал теперь при свече под мелодию, лившуюся из смешных дудок. Танцевал в подвале разрушенного завода, поднимая облака пыли, выбрасывая руки вверх и в стороны, наклоняя голову то туда, то сюда. Танцевал все быстрее и резче, словно мелодия, неимоверно ускоряющаяся с каждым тактом, повелевала им. Танцевал, будто им овладели демоны выкрутасов и скачков, танцевал с полузакрытыми глазами, будто изрядно подвыпивший свадебный гость, танцевал, как одержимый, как безумец, не знающий меры и предела усталости, он танцевал, а наши зрачки расширялись все больше и больше, потому что мы увидели вдруг совершенно нового Вайзера. Это был уже не тот Вайзер, наш школьный приятель из одиннадцатой квартиры на втором этаже, внук Авраама Вайзера, портного. Это был скорее кто-то пугающе незнакомый, тревожаще чужой, кто-то, лишь по случайному стечению обстоятельств принявший человеческий облик, который явно ограничивал его движения, стремящийся к освобождению от невидимых пут тела.
Неожиданно музыка стихла. Это было еще страшнее, чем если бы, заглушая звуки пищалок, вдруг загудел орган или охотничий рог. Вайзер упал на пол. Красноватое облако взметнулось вокруг него, и при свете свечи я увидел вращающиеся полосы пыли того же цвета. Не успел я подумать, что это тишина звучит так ужасно и зловеще, как Вайзер открыл рот, будто хотел перевести дыхание, и мы услышали низкий голос мужчины, произносящий на непонятном языке какие-то обрывки фраз. Казалось, чья-то рука касается моей спины, – конечно, эта иллюзия возникла из-за страха, так как голос, совершенно чужой и суровый, исходил из горла Вайзера, будто он говорил, сам не зная о том. Глаза у него были закрыты. Его стиснутые кулаки сжимались и разжимались при каждом слове. Он был похож на измученного человека, который проталкивает звуки через опухшее горло с неимоверными усилиями и против воли. Только когда он умолк – и вид у него теперь был как у мертвеца, – я посмотрел на Эльку. Она неподвижно сидела у стены и была уже не Элька, а деревянная кукла. Ее глаза, вперенные в Вайзера, напоминали стеклянные бусинки марионеток из детского театра. Мы не пошевелились и даже не вздрогнули, когда Вайзер наконец поднялся на колени и переставил свечу ближе к центру подвала. И тогда это произошло. Вайзер поднялся на ноги, распростер руки как для полета и стоял так, глядя в пламя свечи, очень долго. Не знаю, в какой момент, но спустя некоторое время я заметил, что его ноги уже не касаются глиняного пола. Сначала я воспринял это как мираж, но стопы Вайзера все заметней поднимались над полом. Да, все тело его висело теперь в воздухе сначала в тридцати, может быть, сорока сантиметрах от земли и медленно поднималось еще выше, покачиваемое невидимой рукой. «Господи Иисусе, – услышал я шепот Шимека, – Господи Иисусе, что он делает?» Вайзер парил в воздухе над грязным полом, и его тело уже не было напряжено. Пальцы Петра стиснули мое плечо.
Итак, что же это было на самом деле? Могло ли то, что мы видели в подвале кирпичного завода, быть только миражом? Могло ли нам только казаться, что Вайзер поднимается над полом, или он действительно левитировал при свете мерцающей свечи? Через двадцать три года тот же вопрос я задавал Шимеку, когда мы сидели друг против друга в его солнечной квартире, в совершенно другом городе и – что необходимо подчеркнуть – в совершенно иной эпохе. Под нашими окнами шла демонстрация. На транспарантах виднелись новые или почти новые лозунги. «Требуем регистрации» – прочитал я на одном из них. «Пресса лжет» – значилось на другом. «Да здравствует Гданьск»[5] – заметил я также где-то в толпе, рядом с большим портретом Папы, который несла молодая девушка. Шимек, ясное дело, уже не был тем Шимеком с французским биноклем из-под Вердена, но все же я не ожидал такой перемены, большей, чем дистанция в двадцать три года и разделяющие наши города километры. Он интересовался текущими событиями и настойчиво выпытывал у меня подробности о Гданьске. Я долго объяснял ему, как это все выглядело у нас, и еще дольше мне пришлось рассказывать, как выглядели в те дни ворота верфи и деревянный крест, к которому люди прикрепляли изображения Черной Мадонны и приносили цветы.
– На этот раз не стреляли, – радостно констатировал он, – но что будет дальше?
Я не знал, что будет дальше, никто, в конце концов, не мог этого предвидеть – от Татр до пляжа в Елиткове, – и только злился, что мои вопросы о Вайзере остаются без ответа, как и проблемы большой политики, над которыми ломали себе головы корреспонденты всех газет мира.
– В конце концов, разве теперь это так уж важно, – говорил Шимек, – после стольких лет и именно сейчас, когда такое творится?
Я никак не мог его убедить, что, конечно, для меня это самое важное.
– Так как же все-таки было на самом деле, – не сдавался я, – Вайзер левитировал или мы поддались массовому психозу?
Шимек открывал бутылки пива, которое на юге вкуснее, и с сомнением качал головой. Говорил он, как всегда, спокойно.
– Если ты читаешь в книге, что ее автору явился Бог в образе огненного столпа и в шуме крыльев, ты ведь не знаешь, было так на самом деле или автору только казалось, что так было. Разумеется, – добавил он, опустошив стакан, – мы должны исключить явную мистификацию.
– А там, в подвале, – спрашивал я, – там Вайзер поднимался в воздух или только казалось, что поднимается?
Шимек закурил сигарету.
– Не знаю, – произнес он через минуту. – Может, он действительно левитировал, а может, мы только поддались массовому психозу, это, в конце концов, случается чаще, чем порхание над землей, ты не считаешь?
И так было на протяжении всего визита к нему, единственного, впрочем, за все эти годы. У Шимека не было определенного мнения насчет Вайзера, и все вопросы, поставленные мной, он решал в том же духе: «Могло быть так, а могло быть и иначе», – отвечал он каждый раз. Столько лет прошло, а наша память ведь так ненадежна. А когда он узнал, что три года назад я был в Мюнхене у Эльки, то спросил, какая у нее машина и как у нее дела. Нет-нет, он не догадался, зачем я к ней ездил, и не интересовался, сказала ли мне Элька что-нибудь насчет Вайзера. Шимек одно помнил очень хорошо – инструмент, на котором она аккомпанировала Вайзеру, когда он танцевал в подвале старого завода. «Флейта Пана – это действительно необычный звук, удивительная музыка, – сказал он мне оживленно, – откуда она раздобыла этот инструмент?»
Я, конечно, знал откуда, поскольку исследовал дело очень подробно в тот самый год, когда просматривал школьные бумаги Вайзера, и разговаривал даже с наглой неутомимой учительницей музыки. Она подтвердила, что из коллекции народных инструментов пропала в тот год флейта Пана, и она так и не смогла себе объяснить, как это случилось – почему из школьной витрины, гордости ее кабинета, где рядом с ксилофоном можно было увидеть укулеле, балалайку, скандинавскую скрипку и кучу других экспонатов, пропала именно флейта Пана. «Кому это понадобилось? – пожимала она плечами, уже чуть сгорбленными от постоянного дирижирования на репетициях хора. – Кто на ней сумел бы сыграть?» Но обо всем этом я не говорил Шимеку. А когда мы допивали последнюю бутылку пива и через открытое окно доносился уже обычный уличный шум и пение птиц и когда жена Шимека внесла огромное, как поднос, блюдо тартинок, я спросил наконец, что он думает о том дне над Стрижей, когда Вайзер последний раз разговаривал с нами, и почему Элька обнаружилась через несколько дней, а Вайзер – нет. И что могла означать ее амнезия, которая давала о себе знать лишь тогда, когда речь заходила о Вайзере?
Прежде чем ответить, Шимек заменил стаканы, и вместо пива на столе появилось домашнее вино. Да, он тоже задумывался над этим уже много лет спустя, никому в этом не признаваясь. Все указывало на то, что Вайзер обладал какими-то скрытыми гипнотическими способностями, о которых мы можем иметь лишь туманное представление. Подтверждение тому – его номер с пантерой, наверняка он мог это использовать и по отношению к людям. Зачем ему нужна была Элька? Это ясно – он использовал ее для экспериментов, поскольку сам тогда только начинал открывать свои не до конца осознанные возможности. Там, в заводском подвале, он проводил над ней разные опыты, и даже мы подчинились необычайной силе внушения. Так что, скорее всего, он не левитировал. Делал вид, что левитирует, а Эльку и нас заставил поверить, что поднимается в воздух. Психологии известны такие случаи, и она объясняет их довольно простыми механизмами внушения. Взрывы? Да, это трудно объяснить, впрочем, у Вайзера, который рос практически один под присмотром чудаковатого старика, могли быть странности и похуже, чем мания преследования. Вайзер был пи-роман, тут нет сомнений. Визуальные эффекты? Прочел пару книжек – вот тебе и весь секрет его познаний. Зачем они ложились с Элькой у посадочной полосы аэродрома? Он приучал ее преодолевать страх – тот, кто полежит несколько раз под брюхом приземляющегося самолета, не будет испытывать страха перед гипнозом и погружением в состояние транса. Над Стрижей в последний день каникул Эльку просто унесла вода, что, должно быть, ускользнуло от нашего внимания. Когда Вайзер понял, что случилось, он спрятался где-то рядом и ждал, пока мы уйдем, а потом начал поиски самостоятельно. Только он переоценил свои возможности и, когда искал ее тело в ближайшем пруде, через который протекает Стрижа, утонул самым обычным образом, а его труп вода унесла в подземный канал, в котором река течет дальше под городской застройкой. Другого варианта нет. Но Элька чудом не утонула, течение прибило ее к прибрежным камышам, и она пролежала там без сознания, пока ее не нашли милиционеры с собаками. Вайзер заплатил за свою опрометчивость. Ведь он не умел плавать, никогда не купался с нами в Елиткове. Каким образом Элька выжила, три дня пролежав в камышах? Это поистине загадка, но скорее из области биологии. Во всяком случае, это вполне правдоподобно, о таких происшествиях писали неоднократно. Да, если бы не опека этого чудаковатого портного, вернее, полное отсутствие опеки, Вайзер стал бы кем-то вроде артиста эстрады, может, даже выступал бы в цирке, где его талант был бы награжден овациями и признанием. Так или иначе, он в каком-то смысле – жертва войны, сиротство, должно быть, спровоцировало серьезные изменения в его психике. Думал ли он когда-нибудь о своих родителях? Без сомнения, но что он мог думать? Кто знает, что рассказывал ему старый Вайзер. Он был похож на угрюмого чудака, который взглядом обвиняет всех людей только за то, что они живы. Такой взгляд не сулит ничего хорошего. Давида явно зациклило на всем немецком, и тот арсенал, который он нашел, а потом спрятал в развалинах завода, – лучшее тому доказательство. Он жаждал убивать немцев, и все, что он проделывал с оружием, было, по-видимому, только подготовкой. В конце концов, в кого или, скорее, во что он целился, когда мы приходили на кирпичный завод? Макеты не оставляют ни малейших сомнений. Буйная фантазия, небывалая смекалка, детская наивность в сочетании с гипнотическими способностями, которых он, впрочем, должен был опасаться больше, чем Элька, – из всего этого складывалась личность Вайзера.
На третьем стаканчике вина Шимек прервал свой монолог. Мне хотелось выспросить у него кое-какие подробности. Например, откуда у него такая уверенность, что Вайзер не умел плавать? Может, тут было то же, что с игрой в футбол? И откуда уверенность, что Эльку унесла вода и что это ускользнуло от нашего внимания? Ведь оба они исчезли одновременно, и то, что утверждал Шимек, не складывалось в целое. Кроме того, тело Вайзера, даже если бы он утонул, не могло попасть в подземный канал, поскольку вход в него в конце пруда был забран железной решеткой… Но Шимек с женой выспрашивали у меня гданьские новости. Памятник, который должны были поставить у ворот верфи, в том самом месте, где прогремели выстрелы, – этот памятник интересовал их больше всего. Они спрашивали, будет ли на нем имя Петра. Я не мог ответить. После того, что пережили его родители, после ночных похорон с бригадой вооруженных могильщиков, которые тело Петра в пластиковом мешке бросили в земляную яму, – после всего этого я сомневался, что грандиозный, красивый монумент хоть как-то вознаградит их за ту зиму. «Да не о том ведь речь», – нетерпеливо перебил меня Шимек. «Да, конечно, не о том», – ответил я машинально и вспомнил, что Петр, по свидетельству его матери, не мог вынести вида вертолетов, круживших в тот день над городом, и пошел пешком в Гданьск (трамваи уже не ходили), чтобы посмотреть, что там происходит. «Его убили с вертолета», – упорно повторяла мать; а когда очевидцы рассказывали ей, что Петр оказался случайно между толпой и отрядом солдат и пуля попала ему прямо в голову, слева, навылет, она махала рукой и говорила, что это неправда, что наверняка стреляли с вертолета, и злилась, когда говорили о солдатах. Для нее это были переодетые милиционеры. Итак, я говорил о памятнике, а Шимек и его жена внимательно меня слушали.
А Вайзер? Вайзер улетучился из нашей беседы, будто его никогда и не было, и, когда я уже сидел в вагоне, равномерно покачивающемся на шпалах и стрелках, мне казалось, что я еду по несуществующей железнодорожной линии через десять взорванных мостов и миную брентовское кладбище с маленьким кирпичным костелом, скрытым в тиши деревьев, а паровоз ведет Вайзер в путейской фуражке, окутанный облаком кадильного дыма, пахнущего, как вечность.
Тем временем в кабинет директора вызвали сторожа. «Так не может продолжаться, – услышал я голос М-ского, – недопустимо, чтобы эти сопляки водили нас за нос! Я говорил вам, товарищ директор, здесь нужны жесткие меры, о, я их знаю, без этого никуда! А вы, – повернулся он к сторожу, – должны посидеть тут с нами еще немного!» Сторож проворчал что-то под нос – слышно было плохо, но тогда я бы голову дал на отсечение, что это была его знаменитая присказка: «Надо так надо», – и, вернувшись в канцелярию, вызвал Петра. Что-то не сходится в наших показаниях и, наверно, М-ский поэтому так злится, подумал я. Ну да, я уже знаю, дело в том платье, точнее, в лоскуте от платья, красного платья Эльки, о котором Шимек ради их же святого покоя написал, что мы сожгли его после последнего взрыва. Да, они не обнаружили этого ни в моем признании, ни у Петра, значит, будут спрашивать, как было с этим платьем. Кто его нашел, где, когда сожгли мы лоскут материи, который остался от нашей подружки. Мы совершили ошибку, надо было сговориться насчет подробностей, когда сторожа не было в канцелярии, и теперь каждый рассказывал бы одно и то же, и они завершили бы следствие в полной уверенности, что было так, как они придумали. Но сторож удобно устроился на своем стуле и не думал оставлять нас одних ни на минуту. По радио уже давно закончили передавать речь Владислава Гомулки, награждаемую бурными аплодисментами, переходящими в овацию. Теперь из динамика неслась опереточная музыка, невыносимо тонкий голос певицы тянул «ох-ох лю-ууу-блю-ууу те-еее-бя-ааа», а мне покоя не давала деревенеющая нога и боль в левой ступне. Этой болью я был обязан – и в определенном смысле обязан до сих пор – Вайзеру. Всегда, когда собирается дождь, я смотрю на маленький шрам пониже щиколотки и знаю, что в сырую погоду буду прихрамывать. Но, не предваряя событий, я возвращаюсь к заброшенному кирпичному заводу, поскольку не все еще выяснено.
– Господи Иисусе, – шепотом сказал Шимек, – что он делает?
Петр стиснул пальцами мое плечо, и через минуту мы услышали ужасный треск ломающихся досок. Вместе с полом и деревянными подпорками, с громом и грохотом мы полетели вниз, прямо на Вайзера и Эльку. Свеча погасла, я слышал только, что они где-то рядом, очень близко, но не говорят ничего и ждут, пока мы отзовемся первыми. Наконец Петр, который раньше нас выбрался из груды досок, сказал робко:
– Элька, не сердись, мы просто так. – И слова застряли у него в горле, так как между досками что-то зашевелилось.
– Есть у вас какой-нибудь огонь? – Голос Вайзера не выражал ни гнева, ни раздражения. – Если есть, посветите!
Шимек достал из кармана бензиновую зажигалку, украденную у старшего брата еще в начале каникул, и тусклый огонек высветлил внутренность подвала. Деревянные ступени были в середине сломаны, и, чтобы выбраться отсюда, нужно было приставить к стене наскоро сколоченную стремянку. Работой командовал Вайзер, и, когда мы были уже наверху, он посмотрел на нас и спросил:
– Умеете держать язык за зубами?
Вместо ответа мы дружно кивнули.
– Ну хорошо, – сказал он, выждав с минуту, – тогда приходите сюда завтра в шесть, но только втроем, ясно?
Вот так, неожиданным образом, добились мы своей цели: Вайзер назначил нам встречу. Но удивительно: когда мы возвращались той же дорогой через Брентово, никому из нас не хотелось говорить о том, что мы видели в старом подвале. Сегодня я понимаю, что это был обычный страх. Не важны уже были кадильное облако, «рыбный суп», приземляющийся самолет, черная пантера, выигранный матч, не важна моя прогулка с Вайзером, во время которой впервые в жизни я услышал о некоем Шопенгауэре и увидел, где стоял немецкий броневик перед зданием Польской почты. Не важно было все, что не соединялось у нас тогда в одну цепь, ведущую к Вайзеру, – достаточно, что мы видели его над полом подвала, и вдруг оказалось, что Вайзер – сначала Давидек, над которым насмехались, потом немного странный заклинатель животных и гениальный футболист, вроде бы тот самый Вайзер, – уже не был, однако, тем самым Вайзером. Я затрудняюсь передать чувство, которое овладело тогда нашими душами. Нет, то не был, как я написал минуту назад, обычный страх. Все же нет. Временами, когда я выпью лишнего или погружаюсь в недобрую мглу, мучает меня странный сон. Я в кухне в квартире моей матери. Стою у окна, а за спиной Петр наливает воду в закопченный чайник. Я оборачиваюсь и вижу, что за мной стоит кто-то совершенно чужой, а вовсе не Петр. Я подхожу к нему, ожидая объяснений, но незнакомец, вместо того чтобы что-то сказать, улыбается снисходительно. Хуже всего, что в его улыбке я узнаю что-то от Петра – та же вздернутая верхняя губа, – и я не знаю, как это объяснить. Так вот, тогда мы чувствовали нечто подобное. Вайзер стал для нас кем-то еще более чужим, чем в прежние школьные годы и в дни каникул, когда мы с ним довольно необычным образом познакомились поближе в праздник Тела Господня, в день выдачи аттестатов по Закону Божьему. Будучи Вайзером, он одновременно им не был. Но кем он становился, когда наступала та минута, в которую он переставал быть собою? А может, вообще не было такой особой минуты, может, он все время только притворялся обыкновенным мальчишкой? И откуда мы могли все это знать, если даже сегодня я не могу распутать эту головоломку. Мы шли в полном молчании и в страхе, что он вдруг вырастет перед нами в свете звезд, на фоне черной стены леса, вырастет так же, как в старом подвале, – в метре или больше от земли, и этот страх замыкал нам рты и отбивал всякую охоту разговаривать. С края морены мы спустились в овраг. Тут было еще темнее, чем на открытом пространстве. На фоне черной башни брентовского костела, который виднелся уже на вылете оврага, замаячили золотые точечки.
– Господи Иисусе! – второй раз воскликнул Шимек. – Звезды падают!
Но то не были звезды. Туча светлячков повисла над нами, как дождь из золотых капель, и было так тихо, что мы слышали собственное дыхание.
– Я думал, – добавил Шимек, – что они светятся только в июне.
И действительно, было в этом что-то странное. Никогда – ни прежде, ни потом – не видел я в наших краях такой массы светлячков в июльскую ночь.
– Это души мертвых, – шепнул совершенно серьезно Петр, – потому и светятся.
– Души мертвых в летающих жучках?! – возмутился Шимек. – Кто тебе это сказал?
Однако Петр не спешил с ответом. Только на железнодорожной насыпи, вблизи костела, он объяснил примерно так: неприкаянные души, когда им удается войти в тело жучка, начинают светиться. Но жучки долго не выдерживают и умирают, поэтому светлячков можно видеть только короткое время, в начале лета.
– Эти души, – сказал Петр, – должно быть, принадлежат великим грешникам и светятся дольше обычного.
Шимек был возмущен, словно речь шла о его бинокле или о футбольных правилах.
– Глупый ты, – возразил он громко, – душу нельзя увидеть, потому что она невидима! Что говорил ксендз Дудак на религии? Ну что?
– Что душа бессмертна, – защищался Петр, – но он совсем не говорил, что ее невозможно увидеть!
– А вот и нет, он говорил: бессмертная и невидимая, и то и другое одинаково важно, да? – С этим вопросом Шимек неожиданно обратился ко мне, призывая меня в свидетели. Я не очень-то знал, что ответить, так же как и сегодня не знаю – можно ли увидеть душу. Если можно, то когда кто-то умирает, она должна быть видна, но в какой форме? Главное, увидеть ее, когда она покидает мертвое тело, которое через день или два зароют в землю. Может, она похожа на облачко пара, а может быть, появится в образе мягкого света, который поднимется вверх, не рассеявшись по дороге. Не знаю. И тогда тоже не знал. Хуже всего, что я должен был рассудить спор, будто я теолог или Папа Римский.
– Ксендз Дудак тоже этого не знает, – сказал я, – а говорит так, потому что…
– Почему? Ну-ну, почему он так говорит? – перебивали они меня нетерпеливо.
– Он так говорит, – объяснял я дальше, – потому что так его научили в семинарии и так велит говорить епископ, а ксендз во всем обязан слушать епископа, у них как в армии, вот и все.
– Как это? – разозлились оба. – Как это ксендз может не знать?
– Этого никто не знает, – утверждал я уверенно, – только когда умрешь, сможешь это проверить.
Мы смотрели на кладбище по правую руку от нас. Обломки статуй и разбитые надгробия выглядели сейчас как склоненные в молитве люди.
– Это ужасно, – вздохнул Шимек. – Умереть, чтобы в чем-то наверняка убедиться, а?
Мы кивнули с пониманием.
В этот самый момент чья-то рука раскачала брентовские колокола, и по лесу в ночи, словно возвещая тревогу, разнесся мощный набатный гул.
– Господи Иисусе! – сказал, вернее, закричал в третий раз Шимек. – Это кто-то там, на кладбище!
Нет, я не напишу сейчас, что сердца у нас сжались от ужаса, или что душа ушла в пятки, или еще лучше – сердце подскочило к горлу. Не напишу, потому что такие слова годятся для книг, такие слова и такие сцены наилучшим образом подходят для нравоучительного романа. В первый момент я подумал, что это Вайзер забавляется, проверяет, не рванем ли мы случайно через Буковую горку домой. Сократив путь, он мог оказаться здесь минут на пятнадцать раньше нас. Однако сразу же мне пришла в голову другая мысль, более трезвая: это не в стиле Вайзера, этот ночной сполох колоколов, пронизывающий лес, гудящий под искрящимся куполом неба, грубо и дерзко раздирающий тишину нагретого воздуха. Действительно, это не был замысел Вайзера и не его рука дергала все три каната между трухлявыми балками колокольни. Это был Желтокрылый. Как только мы, притаившись за кустами орешника, узнали его, возникло желание вернуться домой.
– Однажды нам уже влетело из-за него, – припомнил Шимек. – Сейчас сюда примчится кто-нибудь из приходского дома и наткнется на нас.
Я не был в этом так уж уверен:
– Среди ночи? Сейчас?
Но Петр указал рукой на дом, примыкающий к костелу:
– Гляньте-ка!
Между ветками вдали блеснул свет, сначала в одном, а потом и в другом окне. Тем временем Желтокрылый подскакивал вверх, раскачивался, приседал на корточки, и все это в ритме набирающего мощь колокольного гула. Он был похож на привязанный к веревкам манекен, немного смешной, немного страшный. На нем уже не было больничного халата, и его костюм состоял из тиковых штанов, наверно где-то украденных, и такой же куртки. Мы не могли оторвать от него глаз, каждый раз, потянув за веревки, он что-то выкрикивал, но слова пропадали в металлическом трех-голосии. Может, именно из-за этого звона мы не двинулись с места, даже когда увидели двух подбегающих мужчин – причетника и ксендза здешнего костела, который ничем не напоминал нашего ксендза Дудака. Может быть, этого и добивался Желтокрылый – выманить их из дому и обратить на себя внимание: он подождал, пока те подбегут поближе, после чего отпустил веревки и, нырнув в ближайшие заросли, побежал в сторону Брентова.
– Уважаемый ксендз, – громко сопя, проговорил причетник, – возвращайтесь в приход и звоните в милицию, а я побегу за ним!
Мужчины разделились – причетник, сопя еще громче, двинулся за беглецом, ксендз затрусил к приходу. Теперь, дело ясное, мы не могли отступить. Нужно было дождаться конца этой истории, и, хотя на Желтокрылого нам было, собственно, наплевать, очень хотелось узнать, чем кончится облава.
Мы двинулись вслед за причетником едва видной тропкой, которая терялась в разросшейся крапиве и папоротнике. У Желтокрылого было метров тридцать форы, и он лучше ориентировался на местности. Он скакал от дерева к дереву, прятался между склепами, а когда нам казалось, что он исчез в одном из них, выскакивал вдруг как из-под земли и мчался вперед. Он явно играл с причетником. Наконец он достиг края кладбища, стал на треснувшую плиту и закричал в сторону преследователя: «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э – э-э-э-э-э-э-э-э-э – эге – э-э-э-э-э-э-э-э-э-э!!!» Причетник прибавил шагу. Но Желтокрылый был уже далеко. Он бежал в сторону первых строений Брентова, где разбуженные люди высовывались из окон, высматривая причину ночной суматохи. «Люди! Люди-и-и-и! – кричал причетник. – Хватайте его, хватайте психа, держите его!» И все больше окон освещалось, словно вспыхнул пожар или началась война.
Желтокрылый добежал до первого дома и по громоотводу вскарабкался на крутую крышу. Теперь он стоял на остром коньке, широко раскинув руки, точно приветствуя народ, который начал собираться перед домом. Мужчины, в пижамах, в стоптанных тапочках, а то и босиком, некоторые в куцых кальсонах, показывали на него пальцами.
– Люди! – Причетник наконец добежал до толпы. – Это он, тот самый, что пугает на кладбище ваших жен и детей, он удрал из психушки и не дает вам покоя, нужно его поймать, сейчас приедет милиция, возьмите лестницу и схватите его, только быстро, а то он снова убежит, ловите его, чего вы ждете?!?
Мужчины, однако, не слишком рвались ловить сумасшедшего, к тому же на крыше. Стояли в нерешительности, переступая с ноги на ногу, поглядывая один на другого. Несколько женщин подобрались поближе. Гомон все усиливался – разговоры, шепот, отрывочный смех, – когда Желтокрылый вдруг подал голос.
Собственно, то был не голос, а звук, звук музыкальный, поскольку что все, что теперь звучало, было мелодией, распевом целых фраз, которые нарастали, взрывались и стихали одна за другой с небольшими промежутками.
– Горе вам, жители края приморского! Горе вам! Слово Господне вошло в мое ухо и глаголет устами моими! Близок великий день Господень, близок и очень скор глас дня Господня, тогда и владыка горько стенать будет! – Произнося это, Желтокрылый поднимался на цыпочки и простирал руки вверх, а его длинные спутанные волосы похожи были на бороду Моисея – я хорошо помнил ее по картинке, которую ксендз Дудак на уроке Закона Божьего показывал нам, рассказывая о переходе через Красное море.
«Упадет – не упадет – пожалуй что свалится», – шептались внизу, но последующие сентенции Желтокрылого заткнули рты зевакам.
– И тогда нашлет Он ужас на людей, и ходить они будут подобно слепцам!!! – Его рука показывала теперь на головы столпившихся внизу. – И кровь их будет разбрызгана, как прах, и внутренности их разбросаны, как грязь!!! И ни серебро, ни золото не спасет вас в день гнева Божия, ибо огонь гнева Его поглотит всю землю!!! Воистину страшный конец и гибель уготовит Он всем обитателям земли!!!
Это последнее «земли!!!» звучало особенно долго и пронзительно. Некоторые из женщин со страхом крестились, а мужчины стояли, задрав головы, словно увидели в небе комету.
– Я наслал также сушь на почву и на горы – на все, что земля родит, на все труды рук людских. – Голос становился все мощнее и звучал громче, чем все три брентовские колокола вместе. – Горе вам, обитатели края приморского! Вот уж небо удержало свои росы над вами, и земля отказывается давать свой урожай вам!
Причетник беспомощно разводил руками наподобие Понтия Пилата, но наконец, побелев от ярости, закричал как оглашенный, едва отзвучала надрывная мелодия очередной фразы:
– Люди! Христиане! Не слушайте его! Это живой антихрист, еретик, безумец, сумасшедший, говорю вам – смертный грех слушать такие речи! Лучше схватите его, ну, вперед, живо!!!
Но никто не сделал даже полшага вперед. Желтокрылый торжествовал.
– Время ли, – обратился он к людям внизу еще громче, – время ли вам жить в домах, выложенных изразцами, когда дом Господень лежит в руинах? Вы надеялись на большее, но получили мало, а когда внесли это малое в дом, я и то развеял. Почему? Говорит Господь Всемогущий: «Из-за дома моего, что лежит в руинах, когда каждый из вас ревностно хлопочет вокруг своего дома!!!»
Вдруг мы услышали со стороны города слабый вой сирены, а минутой позже на рембеховском шоссе замаячили огни машины.
– Милиция едет! – закричал обрадованный причетник. – Окружите дом, чтобы он не убежал!
Но и на этот раз никто не спешил пошевелиться. Желтокрылый простер руки навстречу приближающимся огням.
– Горе тому, – голос стал еще грознее, чем минуту назад, – кто копит из того, что ему не принадлежит! Сердце разорвется, колено о колено биться будет, и хворь поразит бедра ваши, и лица у всех почернеют!
Из машины выскочили четыре милиционера, вооруженные дубинками и пистолетами. Командиром патруля был темноволосый поручик.
– Разойтись! – бросил он коротко и энергично. – Не мешайте, граждане!!
Однако Желтокрылый, у которого пока еще был шанс удрать, учитывая темноту и доскональное знание местности, ощутил новый подъем духа. Наклонившись в сторону поручика, он певуче выкрикнул:
– Горе тому, кто на крови строит город и укрепляет его беззаконием! В день жертвы Господней настигну всех, которые облачатся в одежды чужеземные! Горе кровавому городу! Всё в нем ложь, и полон он награбленного, и нет в нем предела насилию!
Милиционеры сбились тесной кучкой вокруг поручика, а тот отдавал распоряжения. Потом командир поднял голову к крыше, откуда Желтокрылый метал все более страшные проклятия, на этот раз на головы людей в мундирах:
– Твоих щенят пожрет меч! И положу конец твоему разбою в стране, и не будут больше слушать голоса посланцев твоих!!! Самые худшие из народов приведу, дабы овладели они вашими домами, и положу конец вашему надменному могуществу!!! Когда придет беда, станете искать мира, но не обрящете его! Поступлю с вами как вы поступаете с другими и осужу вас согласно вашим законам!
– Слезай сейчас же с крыши, – прервал его резкий голос поручика. – Слезай, не то я буду вынужден применить силу!
– Служители твои подобны саранче, – звучал в ответ напев Желтокрылого, – неизлечимы раны твои, все, кто о. тебе услышит, будут бить в ладоши, ибо кого же миновала неуемная жестокость твоя?1! Как ты обобрал множество народов, так и тебя ограбят другие из-за пролитой крови человеческой и насилия, совершенного над страной!!!
Мы увидели, что два милиционера обходят дом с тыла, а поручик вынимает из кобуры пистолет.
– Слезай! – повторил он приказ. – Слезай, или буду стрелять!!!
– И забросаю тебя мерзостью, – загремел в ответ Желтокрылый, – и опозорю тебя, и сделаю тебя посмешищем, и любой, кто тебя узрит, отвергнет тебя!!! Поглотит тебя огонь, пронзит тебя меч, пожрет, как саранча!!!
Последнее слово, точнее, его последняя гласная звучала долго и совпала со звуком выстрела. Поручик пальнул для устрашения в воздух, люди, столпившиеся в подворотне соседнего дома и высунувшиеся из окон, невольно втянули головы в плечи, а два милиционера, зашедшие Желтокрылому в тыл, вскочили на карниз и быстро взбирались наверх. Секунды его свободы казались считанными. Еще раз воздел он руки к небу, как бы призывая звезды в свидетели своей невиновности, и с криком «Господь Всемогущий есть сила моя!» ринулся навстречу милиционерам, которые были уже на крыше. Их белые дубинки, занесенные для удара, грозно выделялись на черном небе. Желтокрылый, однако, не обладал духом Христа и, вместо того чтобы поддаться людям в мундирах и спокойно принять удары, спихнул обоих милиционеров с крыши одним решительным движением локтей. Звон падающих черепиц, крики милиционеров и новый напев Желтокрылого слились теперь воедино. «Господь Всемогущий есть сила моя! – повторил он радостно. – Он делает ноги мои подобными ногам лани и по местам высоким проводит меня!!!» Произнося это, Желтокрылый спрыгнул с крыши на мягкую землю палисадника и быстро помчался к кладбищу. Малость потрепанные милиционеры побежали за ним. «Стой! – кричал поручик. – Стой, стрелять буду!» Но Желтокрылый и не думал останавливаться. Воздух разодрали очередные выстрелы, такие же, как первый, – вверх, для устрашения.
На этом бы все и закончилось, если бы беглец и преследователи не бежали прямо на нас. Мы удирали со всех ног, но Желтокрылый бежал быстрее, и через секунду мы уже чувствовали на затылках его дыхание. Он ни о чем не спросил и, видя, что мы, как и он, убегаем, показал рукой, чтобы мы разделились. Однако это было невозможно. Со стороны Буковой горки, с противоположного края кладбища бежали к нам фигуры в белых развевающихся одеждах. По сей день не знаю, кто вызвал санитаров из больницы, а главное, почему они появились с той стороны, отрезая нам и Желтокрылому путь к отступлению. Может быть, ксендз брентовского костела, вызвав милицию, позвонил еще на всякий случай в больницу, и сейчас у нас за спиной были милиционеры, сумасшедший и люди в белых халатах. Впервые я почувствовал себя как загнанный зверь и лихорадочно перебирал обрывки фраз, которыми мы будем оправдываться. Арестуют ли нас? А если да, то посчитают ли соучастниками Желтокрылого? Кольцо облавы сжималось, и уже казалось, ничто нас не спасет, когда Петр схватил меня за руку. «Склеп! Там нас не найдут!» Это была замечательная идея. Мы бросились к насыпи, где находилось наше укрытие, и за нами Желтокрылый. Лаз, как обычно, был чуть-чуть приоткрыт, и мы могли пробраться внутрь без шума.
Но этим в тот вечер, точнее, в ту ночь все не закончилось, моя память спустя столько лет подсказывает мне, что, когда разочарованные преследователи уже разошлись и когда мы вместе с Шимеком и Петром поспешно покинули склеп, оставив там Желтокрылого, когда я миновал уже Буковую горку и Кметью улицу, которая вела от леса к нашему дому, когда постучал в двери нашей квартиры, – открыл мне отец, в пижаме, с ремнем в руке, без единого слова положил к себе на колено, и количество ударов, обрушившихся на мои ягодицы, достигло астрономической цифры. Когда у отца уставала рука, он делал перерыв и вздыхал: «Бью тебя не за то, что не был дома, а за то, что мать глаза по тебе выплакала, сопляк!» И была это, пожалуй, самая трогательная фраза, которую мне приходилось слышать от отца, потому что именно она крепко засела в моей памяти. Но тогда я не придал этому никакого значения, так же как и порке, от которой у меня распух зад, – ведь у нас был Вайзер, скорее, мы с той ночи были у него в кулаке, хотя я не знал, что это продлится недолго. Зачем я написал о Желтокрылом? Почему не закончил на провалившемся прогнившем настиле или на светлячках? Написал, словно это имело какую-то связь с Вайзером. Но и вправду, на следующий день, когда выяснилось, что не только у меня появились багровые полосы на седалище и не только мой отец оказался таким чутким педагогом, так вот, на следующий день, как только мы встретились трое, и Петр предложил отправиться в склеп и проверить, нет ли там Желтокрылого, – Шимек тут же добавил, что обо всем нужно рассказать Вайзеру и даже спросить у него, что он думает о психах, и в частности о Желтокрылом. Странно, что, когда Вайзер выходил из подворотни, никто из нас не подошел к нему, будто бы назначенный им час – шесть – был сроком аудиенции, который невозможно нарушить. Не стали следить мы и за Элькой, которая выбежала за ним. Вчерашние приключения связали нас нитью некоего соглашения, но соглашение это было односторонним, и по-своему мы эту специфику ощущали. В конце концов, это Вайзер соизволил условиться с нами, а не наоборот. И нужно было отнестись к этому с уважением. Так же как и к тому, что мы видели на заброшенном заводе. И когда Элька исчезла за афишной тумбой, к нам подошел Янек Липский, тот самый, который был с нами в зоопарке и играл в знаменитом матче с армейскими, и спросил:
– Ну что, дождались их тогда или нет? – Янек был последним, кто ушел из склепа, не дождавшись Вайзера.
– И-и-и-и, где там, – спас положение Шимек. – А что? – Короткое молчание сопровождалось взглядами, полными недоверия.
– Ну так что вы видели?
– Ничего особенного, не стоило и ждать, – врал как по нотам Шимек, – они ловили рыбу в прудах.
– Свистишь.
– И-и-и-и-и, ну так лети быстро за ними, Фома неверующий, а нам уже неохота.
Этот аргумент перевесил. И мы даже не заметили, как с этим первым враньем возникло между нами тайное взаимопонимание во всем, что касалось Вайзера. Пока что у нас была другая забота.
Желтокрылого мы застали в склепе – он не покидал своего укрытия со вчерашнего дня. Можно было об этом догадаться по тому, как жадно поедал он кусок рогалика, который ему дал Петр. Герой прошлой ночи дрожал всем телом от страха, и мы не могли понять, как этот необычный человек, который произносил прекрасные речи и сбрасывал милиционеров с крыши, как этот человек переменился за неполные двенадцать часов. Когда он увидел нас, склонившихся над ним и нарушивших его беспокойный сон, он заслонил лицо, словно ожидая удара. Объяснялся он с нами невразумительными междометиями: ээ – аа – угм, – и если бы не его вчерашнее выступление и то, предыдущее, когда мы встретили М-ского с
Петр спросил, не хочет ли он остаться здесь. Тот кивнул. Шимек предложил доставлять ему еду. Он улыбнулся, и из горла вместо ответа или благодарности вырвался неразборчивый звук, означавший одобрение. Итак, обязанности были распределены. Петр должен был организовать еду, Шимек – какую-нибудь одежду, а я – курево, поскольку Желтокрылый жестом показал, что очень в нем нуждается. Мы отправились через Буковую горку по своим домам, то есть в один и тот же дом, только в разные квартиры, и нам даже в голову не пришло, что мы собираемся делать нечто противозаконное. Чем-то этот так называемый закон оскорбляем и заслуживаем наказания. Не хочу сказать, что закону мы противопоставили дух Христов, о котором столько раз вспоминал ксендз Дудак, нет, такого сказать я не могу, поскольку это не соответствовало бы истине. Должен, однако, пояснить, что, если бы в ту минуту нас посетило сомнение и мы бы уразумели, что помогаем опасному безумцу, котррый оказал активное сопротивление милиционерам, то все равно Петр стянул бы из кладовки буханку хлеба, сыр и кусок сала, Шимек принес бы перелицованные брюки и фланелевую клетчатую рубаху, а я схимичил бы сигареты «Грюнвальд», те же, что курил мой отец и которые я покупал для него в магазине Пирсона, так как о киоске «Руха»[6] в нашем районе тогда никто еще и не мечтал. Итак, был хлеб, были сало, сыр, перелицованные штаны, фланелевая клетчатая рубаха, были сигареты «Грюнвальд» и была также пламенная улыбка Желтокрылого, когда мы вернулись в склеп с полными руками. Он ел и курил наперегонки. А когда под конец Петр вытащил из холщового мешка по одной бутылке лимонада для нас и две для Желтокрылого и мы пили этот пузырящийся нектар, наше знакомство с чудаком упрочилось. Я помню, что только в моей бутылке оказался красный лимонад, и помню также, что я не спросил у Петра, откуда он взял деньги на эти расходы. Ведь пять бутылок лимонада – это пять злотых, а пять злотых не такая уж маленькая сумма. Никогда, однако, я не спрашивал у Петра, откуда он взял столько денег, никогда, пока мы учились в одной школе, и позже, когда наши пути разошлись, и даже когда я приходил на его могилу поболтать, потому что если кто по ту сторону, то не следует приставать к нему с такими вещами. Итак, мы пили сладкий пенящийся напиток, размазывая с наслаждением его капли по нёбу, а Желтокрылый удовлетворенно причмокивал и улыбался нам, словно мы были его лучшими друзьями.
Который это мог быть час? Который час на циферблате и который час следствия? Когда Петр еще мучился за дверьми директорского кабинета, а я вспоминал вкус освежающего лимонада, который мы потягивали в склепе как амброзию, именно тогда начали бить настенные часы, возвещая, что все проходит, как время, отмеряемое медным механизмом. Однако я был слишком голоден, испуган и слишком хотел пить, чтобы смотреть, который час показывают стрелки. В конце концов, не это было важно, мрак, разлившийся за окнами, говорил, что уже очень поздно. Так именно я подумал: уже очень поздно, а те трое, должно быть, здорово устали. И хотя я не знаю, что они там говорят, следствие скоро закончится. Даже если они не добьются своей цели, если картина событий, которую они старались сконструировать, не будет исчерпывающей, все равно они перенесут допросы на следующий день. А завтра воскресенье, так что даже не на следующий день, а на понедельник. Ясно, что нас не запрут здесь, а отпустят домой, и тогда… Тогда мы договоримся обо всем до последней мелочи, установим точно, где мы сожгли лоскут красного платья, который остался от Эльки. И хотя ни Вайзер, ни Элька не были разорваны снарядом, мы это подтвердим во имя святого покоя. Все будут довольны – директор, сержант, М-ский, доволен будет прокурор, и больше всех Вайзер, который наверняка одобрительно следит, как мы пытаемся выкрутиться. Вдруг под прикрытыми веками я увидел, как подмигивает мне треугольное око Бога, маячащее в тучах. Как на картинке, которую показывал ксендз Дудак. «Помните, – говорил он, поднимая палец вверх, – оно обо всем знает и все видит, когда вы обманываете родителей, когда отбираете у приятеля карандаш или забываете перекреститься, проходя мимо распятия или часовенки. Ничего не забывает, обо всем помнит, о каждом грехе и каждом благородном поступке. А когда ваши души предстанут пред лицем Его, Он припомнит вам то, что делали вы на земле». Да, ксендз Дудак обладал несомненным педагогическим талантом, так как часто, когда я по мелочам привирал матери или оставлял себе сдачу с покупок, треугольное око не давало мне покоя. И сейчас я вспомнил о его существовании, тем более что показания наши не были мелким враньем, это была целая система, выстроенная нами, целое здание лжи ради выгоды – вот ради чьей выгоды, этого я толком не понимал, и это не давало мне покоя. Кому нужна была эта ложь? Тем, сидящим за дверью, обитой стеганым дерматином? Нам самим? Или Вайзеру, который приказал нам поклясться, что мы никогда ничего никому не расскажем? Но если так, если это вранье возникло прежде всего во имя Вайзера, то как быть с треугольным оком, взирающим на каждый жест и слушающим каждое слово со своих запредельных высот? На чьей стороне в этом случае Господь Бог? – думал я. Если на нашей, и прежде всего Вайзера, то Он должен простить нам грех. А что, если на другой? Что, если Вайзер коварно связал нас клятвой? И тут я испугался не на шутку, так как впервые почудилось мне, что Вайзер мог оказаться нечистой силой, которая подвергла нас испытанию, опутав сетью соблазнов.
Теперь я вспоминаю, что ксендз Дудак рассказывал о дьяволе: «О да, не всегда он выглядит грозно. Иногда приятель говорит тебе, чтобы ты не шел в костел, и это нашептывание дьявола, который, в ущерб долгу, обольщает тебя картиной фальшивых удовольствий. Иногда, вместо того чтобы помочь родителям, ты идешь на пляж, ибо какой-то голос подсказал тебе, что это интересней. Да… – ксендз делал драматическую паузу, как во время проповеди, – таким способом дьявол искушает даже детей, но помните, мои милые, ничто не укроется пред лицем Господа, и кара за грехи может оказаться страшной. Посмотрите только, – ксендз начинал почти кричать, доставая следующую картинку, – какие муки ждут грешников, которые не послушались голоса справедливости, которые не опомнились вовремя, посмотрите только, как они будут страдать, и не сто, двести или пятьсот лет, а целую вечность!!!» И нашему взору представала сотворенная рукой художника картина адской бездны, куда косматые черти швыряли голых грешников. Их тела, падающие вниз, скрюченные, исколотые вилами, исцарапанные когтями, лизали языки пламени, которое доставало до них с самого дна преисподней. Когда ксендз прятал репродукцию, у нас не оставалось сомнений, что ад выглядит именно так. И теперь, сидя рядом с Шимеком на складном стуле, я вовсе не был уверен, не припомнит ли нам треугольное око наше вранье, когда мы предстанем перед ним один на один и когда уже ничего невозможно будет скрыть, как прежде от М-ского или человека в форме.
Сегодня я знаю, что эти размышления свидетельствовали об упадке духа, и с того момента следствие стало для меня еще большим мучением. Я раздумывал, не рассказать ли честно о событиях последнего дня над Стрижей. Ну и что, если они не поверят, думал я. В конце концов, это дело Вайзера и Эльки, и больше ничье. А правда была бы спасена, правда, которую и так никто не захотел бы принять. Конечно, я не собирался выдавать все тайны Вайзера, к которым мы были допущены. Достаточно последовательно, минута за минутой, рассказать, что делали Вайзер и Элька, когда мы стояли по щиколотку в воде, под ярким солнцем, и когда Вайзер сказал, чтобы мы их подождали. А может, Вайзер имел в виду какое-то другое ожидание, совершенно не похожее на то, когда ждешь прибытия поезда, или открытия магазина, или начала каникул? Этого я знать не мог. Из кабинета сквозь закрытую дверь до нас донесся крик М-ского, а минутой позже – Петра. Должно быть, они применили к нему что-то экстраординарное, может, это было «вытягивание хобота», объединенное с «ощипыванием гуся», а может, что-то совсем другое, чего даже нельзя было предположить? Шимек пошевелился на стуле, а я почувствовал, что нога у меня все больше немеет. Не знаю, почему я вспомнил ту самую песню, которую мы пели в тот год в праздник Тела Господня, вышагивая вслед за ксендзом Дудаком и дароносицей: «Слава Иису-су, Сы-ну Ма-ри-и, Ты истинный Бог, пребывающий в Пресвятой Евхаристии». И даже не эти слова, которым я не придавал тогда особого значения, а только мелодию, медленную, приятную мелодию, тянущуюся тонкой струйкой памяти, словно облачко кадильного дыма, и та ностальгическая мелодия подействовала на меня успокоительно. Что было дальше?
До шести у нас оставалось еще много времени. Желтокрылый был обеспечен, а в компании он не нуждался. От скуки рождались в наших головах странные идеи, все, конечно, связанные с Вайзером. Что он нам покажет? А может – что с нами сделает? Может, научит нас летать над землей, а может, превратит бабочку в лягушку или наоборот? А что, если спросить у него, зачем это он плясал в подвале заброшенного завода? Петр согласился, что это было бы интересно, но не лучше ли попросить у него еще один ржавый «шмайсер»? Если он знает весь лес аж до Оливы или еще дальше, он мог немало выгрести из немецких окопов. А может, Вайзер захочет сыграть с нами в настоящую военную игру? Зачем бы он присматривался к нашим играм тогда, на брентовском кладбище? Уже после обеда, сидя на прогнившей скамье между веревками с бельем, мы вспоминали каждый его жест, каждое слово. Почему он не ходил с нами в костел? Зачем ему Элька? Кто его научил укрощать зверей? Наши рассуждения прервала на минуту пани Короткова, которая из окна вышвыривала вещи своего мужа. «Паршивец этакий, пьяница, – кричала она, – убирайся сейчас же и больше не возвращайся! Чтоб глаза мои тебя не видели, чтоб уши не слышали!» На землю уже спланировала рубашка, пара штанов, ботинки, и вдруг из подъезда вышел пан Коротек. Неуверенными шагами подошел он к кучке своих вещей и, как ни в чем не бывало, начал одеваться, поскольку гнев жены выгнал его из дому в одних трусах и босиком. «Эй! – крикнул он наверх. – А носки чего зажала?» Пани Короткова не знала пощады, она захлопнула окно, и мы наблюдали, как пан Коротек, сидя теперь на земле, надевал ботинки на босые ноги и как правая нога у него попадает в левый ботинок и наоборот. Наконец, управившись с обуванием, он покинул двор матросской походкой, при этом распевая, в общем-то недурно: «Адье, моя любимая, адье, моя мулатка дорогая!!!» Пани Короткова, однако, не была мулаткой, и, по-видимому, ее муж пел просто так, для поднятия духа. Хорошо – но где Вайзер научился играть в футбол, да еще так классно? Наш разговор крутился вокруг одного и того же. Если в матче с армейскими он показал такой класс, то почему никогда прежде мы не видели в нем футболиста, почему он всегда стоял в стороне, когда учитель физкультуры делил нас на две команды и велел играть? С какой целью он утаивал свои способности? И умел ли он еще что-нибудь, что-то, о чем мы даже понятия не имели? От таких вопросов мурашки бежали по коже, но тем охотнее мы их задавали.
Над крышей дома мелькали ласточки с характерным звуком – не то писком, не то свистом, небо, как и во все дни того лета, напоминало выцветший кусок лазури, пан Коротек уже успел вернуться из бара «Лилипут», надравшись до предела человеческих возможностей, а мы все продолжали разговор, в котором условное наклонение и вопросительный знак были главными элементами. Через несколько дней июль кончался – значит, половина каникул позади, однако ни это, ни «уха» в заливе, ни даже номера пана Коротека не могли отвлечь нашего внимания от основного дела.
Ровно в шесть мы были на краю леса, там, где когда-то начинались склады разрушенного кирпичного завода. Его здание, которое ночью напоминало старый замок, теперь выглядело невинно, как развалюха, каких полно было в предместьях Вжеща и Оливы. Ко входу мы пробирались через заросший пыреем, лебедой и другими сорняками участок, на который много лет не ложился ни один кирпич. Внутри царила приятная прохлада, но, к нашему удивлению, там никого не было. Груды ржавого металлолома, перевернутые вагонетки и разобранная на три четверти печь – это было все. На полу валялись банки из-под краски, обрывки мешков и куски полусгнившего, воняющего плесенью картона. Прошло пять минут, долгих, как пять часов. Петр пинал банки, Шимек заглядывал в печь, а я пытался сдвинуть одну из вагонеток. Я уже начал сомневаться, ждет ли нас тут что-нибудь интересное, когда у входа за нашими спинами услышал голос Вайзера:
– Первое условие выполнили – пришли одни. Хорошо. А теперь второе. Идите за мной.
Без слова мы двинулись вниз, по тем самым ступенькам, которые обвалились вместе с деревянным полом прошлой ночью. Но следов катастрофы мы не обнаружили – люк, ступени и пол были в полном порядке. Ни одной свежей доски, ни одного следа рубанка. Мы спустились на глиняный пол подвала.
– Теперь надо дать клятву. Вы готовы? Разумеется, мы не были готовы, но разве Вайзеру можно было возражать?
– А на чем будем клясться? – спросил Шимек. – Если на распятии, то, наверно, и взаправду дело важное.
– А ты думал, не важное? – спросил Вайзер, и наступило тягостное молчание – мы ведь не знали, какой еще сюрприз припас Вайзер, и были перепуганы.
– Так на чем будем клясться? – повторил вопрос Шимек.
– Зачем спрашивать на чем, не лучше ли спросить – зачем? – сказал Вайзер.
– Ну, известно, – сказал Петр, – чтобы не выдать тайну. Для того и клянутся.
– Хорошо, – ответил Вайзер, – чтобы не выдать тайну. Тогда скажите, вы верите в загробную жизнь?
Мы оторопели – никто не спрашивал у нас об этом так прямо. Действительность, когда ее пригвоздят таким вопросом, может показаться сомнительной даже опытному человеку, а что уж говорить о нас тогда, в подвале заброшенного завода, когда наше ожидание было вроде лихорадки, сжигающей сердце и воображение.
– Вообще-то да, – ответил я за всех, – почему бы нам не верить?
– Вот и хорошо, – заключил Вайзер, – так поклянитесь загробной жизнью: о том, что я вам покажу здесь или где-нибудь еще, вы никому не проболтаетесь, и рассказывать сможете только то, что я разрешу, если спросят! А если проговоритесь – умрете и не будет у вас загробной жизни, в наказание за раскрытие тайны. Поняли?
Мы молча кивнули. Вайзер приказал нам положить правую ладонь на свою левую руку и, когда мы это сделали, каждому по очереди велел сказать: «Клянусь!»
После этого он подошел к одной из стен, легонько толкнул ее – и нашим глазам открылся узкий проход, ведущий в просторное помещение. Был это длинный зал, образованный тремя или четырьмя пивными погребами, в которых были убраны разделяющие их стены – остатки перегородок обозначались на полу обломками кирпичей. Сразу у входа, по левую сторону, стояли два ящика, возле которых мы увидели Эльку. Помещение освещалось двумя яркими лампами, свисающими с потолка на изолированных проводах. Тогда я не обратил на это никакого внимания, но сегодня уверен, что Вайзер сделал всю проводку сам, протянув провода от дороги на Матемблево, что требовало немалого опыта и сноровки. Кто бы, однако, обращал внимание на такие пустяки, если Элька открыла первый ящик и мы увидели в нем настоящее оружие? Да, это было самое настоящее оружие: три немецких «шмайсера», русский ППШ, два парабеллума и два нагана, которыми пользовались советские офицеры наряду с чаще встречавшимися пистолетами ТТ. Шимек восхищенно свистнул, а Петр взял в руки парабеллум и попробовал вынуть магазин.
– Не так! – Элька забрала у него пистолет и показала: – Вот так. А вот так заряжают и снимают с предохранителя.
Мы стояли как малые дети перед витриной с игрушками, и, хотя были детьми постарше, наше изумление и желание коснуться всего этого собственными руками было таким же нетерпеливым и жадным. Когда же мы стали дотрагиваться до всех этих чудес, восхищаясь отполированными стволами, сверкающими оливковым блеском прикладами, проверяя курки и бойки, когда мы с головой погрузились в это занятие, Вайзер достал из другого ящика коробку с патронами и из правого угла, на который мы раньше не обращали внимания, притащил картонные макеты.
Элька ткнула в меня пальцем:
– Будешь стрелять первым. Оставьте один парабеллум, остальные заверните в тряпки и положите в ящик.
Мы выполнили приказ безропотно. Элька зарядила пистолет, приказала всем стать у меня за спиной и, когда Вайзер вернулся от дальней стены, где он устанавливал макеты, вручила мне готовый к стрельбе парабеллум.
– Можешь стрелять, – сказала она, и прозвучало это как очередной приказ.
Если бы не насмотрелся я в кинотеатре «Трамвайщик» военных фильмов, я бы не знал, какую принять позу, что делать с левой рукой и как смотреть сквозь прорезь на кончик мушки. Но я знал все это, по крайней мере теоретически, и хотел проделать как можно лучше, однако, когда направил дуло в сторону макета, рука и ноги у меня задрожали от страха, а на шее и висках выступили капли пота. Во всех фильмах цель была ясно обозначена: подпольщик стрелял в агента гестапо, эсэсовец – в еврея, партизан – в жандарма, советский солдат – в немецкого и наоборот; а тут я увидел нечто, чего не мог определить, нечто, испугавшее меня не на шутку, словно я должен был стрелять в живого человека. Макет, который я увидел сквозь прорезь прицела, изображал бюст М-ского, нарисованный акварелью. Но то не был обыкновенный М-ский, то есть такой, каким мы видели его в школе, на демонстрациях или на одной из полян оливского леса. У картонного М-ского были дорисованы пышные усы, а выразительные дуги бровей и расположение глаз не оставляли сомнений в том, на кого он похож. Да, хотя с определенного времени огромные, как простыни, портреты исчезли с улиц и витрин нашего города, я почувствовал жуткий страх. Вдобавок, будто этого было мало, на голове у мужчины, в которого я целился, была фуражка офицера вермахта. Такое придумать мог только Вайзер.
– Ты стреляешь или нет? – Слова Эльки звучали издевательски.
И я выстрелил – раз, другой, третий, четвертый, пока не опустошил магазин, и все пули попали в стену выше или сбоку от макета, только одна, последняя, просверлила дырку точнехонько в том месте, где на фуражке с высокой тульей виднелся немецкий орел со свастикой.
– В краб попал, в краб! – кричал Петр, а Вайзер, словно не поверив, подошел к М-скому и сунул палец в дырку от выстрела.
– Попал в кружок, но орел не тронут, – сказал он, возвращаясь к нам, а я тем временем расправлял пальцы, судорожно сжимавшие рукоятку, дергающуюся при каждом выстреле. Парабеллум, впрочем, как любой настоящий пистолет, был тяжеловат для наших мальчишеских рук, так что выстрелы Петра и Шимека были ненамного точнее моих. Первый попал только два раза в лоб, второй отстрелил кусочек левого уса и поцеловал М-ского в правую щеку.
Надо ли подчеркивать, что один только Вайзер показал высший класс? Не знаю, как долго он тренировался здесь или где-нибудь в лесу, не знаю, сколько гильз упало на землю, прежде чем он достиг такого совершенства. Вайзер сделал шесть выстрелов, один за другим, и мы увидели на лице М-ского два равносторонних треугольника, сложенных так, что образовывали нечто вроде звезды. Элька заменила макет. На этот раз он тоже изображал М-ского, но в мундире американского генерала времен Второй мировой войны. Одна только деталь соответствовала крабу с предыдущей фуражки: у М-ского-американца под воротничком рубашки, там, где у солдата узел галстука, висел железный крест, такой же, какой мы видели во многих военных фильмах. Стреляли мы по очереди – и снова не лучшим образом, и снова Вайзер нас превзошел. На этот раз он выбил на лице макета две буквы – US, разделенные носом М-ского. Вылавливая из памяти тот вечер, ощущаю на нёбе вкус кирпичной пыли и слышу в ушах грохот выстрелов, слышу звяканье падающих на глиняный пол гильз, но так и не знаю толком, какая была у Вайзера политическая ориентация. И интересовался ли он политикой вообще. Ничто, кроме макетов, на это не указывает. Ибо что может объединять М-ского, Сталина и генерала Эйзенхауэра в одном лице? Нет в этом никакой логики. И скорее всего не было. Кроме краба и железного креста, разумеется.
Но то было не все. Когда Элька убрала макеты, Вайзер достал из ящика с патронами кляссер – да, самый настоящий кляссер в твердой обложке, с картонными листами, пересеченными, словно полосками света, ленточками целлофановых кармашков. Каждый, кто, как Петр, собирал в те годы марки, при виде такого сокровища широко раскрыл бы глаза. Внутри почти на всех страницах лежали ровными рядами марки генерал-губернаторства двух родов: одни изображали Гитлера, другие – двор Вавельского замка, где в годы оккупации находилась резиденция Ганса Франка.[7] Марки были без штемпеля, и рука Вайзера разложила их по цвету: сначала шли красно-коричневые, дальше – зеленовато-бурые, потом – зеленые и в конце коллекции – серо-голубые. Марок с Гитлером было значительно больше, почти со всех страниц, размноженная в ровных шеренгах, как на параде, смотрела на нас мрачная усатая физиономия.
– За «адольфов», – прошептал Петр, – в магазине дают за штуку два злотых!
Действительно, такие марки скупал филателистический магазин в Старом городе, а на языке коллекционеров они назывались просто «адольфами».
Но коллекция Вайзера не была обычной коллекцией марок. Когда мы уже просмотрели весь альбом, он вынул пять красно-коричневых изображений канцлера, закрыл кляссер и, подойдя к противоположной стене, приклеил марки к кирпичам, послюнив перед тем каждую.
– Хорошая работа, – сказала Элька, когда Вайзер вернулся. – Клей держит как новый!
Вайзер тем временем проверил магазин и встал расставив ноги, совсем как на соревнованиях. При каждом выстреле он прицеливался не дольше трех секунд, так что вся операция продолжалась не дольше двадцати секунд, считая по одному выстрелу на марку. Помню, когда мы подошли к стене, потребовалось немало усилий, чтобы отыскать места, где приклеен был канцлер Третьего рейха. Пуля, попадая в марку, разрывала ее напрочь, и только кое-где оставался одиночный зубчик или кусочек цветной бумаги не больше спичечной головки. Из пяти «адольфов» не уцелел ни один.
– Он мог бы выступать на олимпиаде, – с гордостью сказала Элька.
Вайзер положил парабеллум в ящик и приказал нам возвращаться домой.
– Через несколько дней дам вам знать, тогда придете сюда, а пока возьмите вот это, – и он вручил Шимеку какую-то книжечку, – и вот это, – и протянул мне парабеллум.
Еще не дойдя до леса, мы осмотрели пистолет и книжечку. То была довоенная инструкция по стрельбе из короткоствольного оружия. Парабеллум оказался без магазина и курка. Да, Вайзер не сказал: «Учитесь стрелять и делайте это так, чтобы никто не видел». Взял с нас клятву, дал инструкцию и обезвреженный пистолет. Кто себя ведет таким образом? Я не мог этого знать в школьной канцелярии, но сегодня думаю, что он таким образом затушевывал свою истинную деятельность. Ибо в тот день, когда мы увидели, как он танцует под звуки флейты Пана и как поднимается в воздух, когда мы стали свидетелями его транса, – тогда он не ожидал нас, не хотел иметь никаких свидетелей, кроме Эльки. Что ему оставалось делать в той ситуации? Он дал нам в руки игрушки и время от времени проверял, научились ли мы заводить их механизмы.
Но я ведь предполагал, что все время он ждал нашего появления – как же могло быть иначе! Возможно, однако, он не ожидал, что мы выследим его так быстро, возможно, это должно было произойти позднее, совсем в других обстоятельствах! А теперь он обезвредил наше любопытство и направил его совсем по другому пути. Фактически мы никогда не спрашивали у него, а тем более у Эльки, о той ночи и о безумном танце. Мы не поняли, что, давая нам пистолет, показывая свое стрельбище, он отстраняет нас от самого главного. Ибо чем, по сравнению с вещанием чужим голосом на непонятном языке, чем, по сравнению с левитацией, была его демонстрация меткой стрельбы? Да, мы могли с тех пор считать Вайзера своим вожаком, могли надеяться, что станем его партизанами, могли даже допустить, что все закончится восстанием, только нам нельзя было задумываться, как это может человек левитировать в полуметре от земли. Вайзер впустил нас в преддверие своего святилища – употребим здесь такое сравнение – и занавеску показал как глухую стену.
Только что он хотел доказать нам, в чем убедить нас, ни в чем не сведущих? Эту тему бесполезно было обсуждать с Шимеком или с Элькой, оставался только Петр, с которым мы никогда не говорили о Вайзере. Только два года назад, а точнее, два года и один месяц (так как сейчас, когда я пишу, кончается октябрь), так вот, двадцать пять месяцев назад я решился завести такой разговор. Всегда, приходя к Петру, я сажусь на край надгробной плиты и с минуту храню молчание. Каждый из нас привыкает тогда к присутствию другого. Так же было и в тот сентябрьский день – сначала я сгреб с цемента листья, песок и сосновые иглы и только через минуту спросил:
– Ты там?
– Да, а что – уже День всех святых?
– Нет.
– Зачем же пришел? И молчишь…
– Шимека арестовали!
– Что случилось?
– Он печатал листовки и сидит. Почему ты ничего не отвечаешь? Тебе все равно?
– Кто занимается политикой, должен учитывать такую возможность.
– Говоришь как чужой.
– А я и есть чужой.
– Говоришь, будто тебя ничто не волнует.
– Здесь мало что может взволновать.
– Не верю.
– Сам когда-нибудь убедишься.
– Не пугай меня.
– Вовсе я не пугаю, это очевидные вещи.
– Для меня не такие уж очевидные.
Мы помолчали. Над кладбищем где-то очень высоко гудел самолет, издалека доносились звуки похоронного пения, и ветер нес между рядами каменных надгробий сухую траву и листья.
– Почему мы молчим, Петр?
– Может, потому, что ты не о Шимеке поговорить пришел.
– Ты прав. Не только о нем.
– Ну так что?
– Я должен спросить о Вайзере!
– Должен? Почему?
– Это не дает мне покоя, уж сколько лет, все больше и больше. Для чего мы были ему нужны? Зачем он втянул нас в свои дела? Неужели только затем, чтобы оставить несколько нелепых предположений и вопросов? Чтобы загадать нам загадку на добрый десяток лет? Почему ты не отвечаешь, Петр? Почему притворяешься, будто тебя здесь нет?
– Ты должен был приходить только раз в год и не задавать никаких вопросов, или забыл?
– Не забыл, Петр, но для меня…
– Давай без исключений, а теперь ступай уже, я устал.
Да. Двадцать пять месяцев назад я услыхал от Петра: «…а теперь ступай уже, я устал». И был то последний разговор о Вайзере, который я вел, точнее, пытался вести. Позднее я начал писать, поскольку не было иного способа, который помог бы все прояснить.
Итак, у нас была инструкция и парабеллум без магазина и без курка, а также много добрых намерений и еще лучших предположений. Вайзер перестал быть чудотворцем. С легкостью и свободой, типичными для юного возраста, наши мысли о нем повернулись в сторону Робина Гуда или майора Хубаля,[8] а не в сторону халдейского мага либо ярмарочного фокусника. И ничего с этим не поделаешь.
Тренировки, однако, были отложены. На другой день начиналась неделя молитв за благополучие земледельцев – так назывались богослужения об установлении гармонии в природе, то есть о дожде. Сначала матери во всех домах мыли и наряжали детей. Потом мужья надевали белые рубахи, а некоторые, невзирая на жару, повязывали еще и галстуки и натягивали черные выходные костюмы. Наконец, обрызгавшись одеколоном, который при тридцати двух градусах все равно не забивал запаха пота, они выводили свои семьи на улицу, и пешком или на трамвае все верующие направлялись к оливскому кафедральному собору. Присутствовать на первом торжественном богослужении обещал сам епископ, и всем было интересно, с какими словами обратится он к измученным людям. Последующие службы должны были проходить в отдельных приходах ежедневно в шесть вечера. Все это я узнал от матери, взбудораженной с самого утра. Она не позволила мне даже отлучиться больше чем на полчаса, наверно опасаясь, чтобы я куда-нибудь не запропастился. Уже на подходе к собору я услышал молитвенное пение тысячи голосов. А потом, когда я уже стоял в длинном и узком, как ладья викингов, нефе, пение, молитвы, гудение органа, запах пота, одеколона и кадильного дыма смешались в одно грандиозное моление о дожде и предотвращении неурожая в полях и в заливе. Делегация земледельцев и рыбаков стояла на коленях в первом ряду. Все взгляды были обращены на них, словно их молитвы обладали самой большой силой.
– Во времена языческие, – говорил епископ, утопавший где-то далеко в золотых гирляндах амвона, – когда наступала засуха, наши предки приносили кровавую жертву, чтобы умилостивить своих богов и выпросить у них дождь! Но мы, на которых Бог излил свою милость и любовь в лице Девы Марии и Ее Сына, мы, которые исповедуем Евангелие, свободны от предрассудков и ложной веры. Христос, который за нас пролил кровь, принес жертву великую и всеобъемлющую, Христос выслушает наши покорные просьбы о благополучии земледельцев, рыбаков и всех нас!!!
Загудел орган. «Святый Боже, святый, всемогущий, святый, бессмертный, помилуй нас!» – вырвалось из тысячи глоток. Пели все, и я уверен, что епископы, прелаты и вельможи с больших портретов, которые висели на стенах, пели тогда вместе с нами.
– Возлюбленные во Христе, – продолжал епископ, – грех часто приводит нас на дурной путь и уводит от Бога. И тогда Бог испытывает нас, чтобы мы опомнились, вернулись на стезю добродетели и любви, чтобы мы отбросили лжепророков и всяческие искушения!!!
«От глада, войны и нежданной смерти избавь нас, Господи!» – звучало под высокими, как небо, сводами.
– Задумаемся все вместе, – призывал епископ, – сколько зла, греха и беззакония поселилось в наших сердцах и как сильно разгневало это Господа, который нас испытывает! Сколько из нас стали поклоняться мамоне, разврату, фальшивым идолам, сколько из нас в своем упорстве и глупости отринули веру и Бога ради легкой – как надеялись – жизни? Сколько из вас – спрашиваю я?!?!?! – В соборе наступила глухая тишина. Опущенные головы покорно принимали горькие слова пастыря. – Я отвечу: многие из вас, мои милые, многие из вас грешили против заветов Господа, многие из вас на дурную сошли дорогу! Потому мы молим, с раскаянием и сожалением в сердцах, молим Деву Марию, чтобы выпросила нам прощение у Сына и Отца, просим об обильных милостях небесных, с которыми и земных благ будет предостаточно, аминь!
После слов пастыря еще мощней, с удвоенной силой зазвучал орган, и храм наполнился до краев молитвенным «Слушай, Иисусе, как молит тебя народ, слушай, слушай и сотвори с нами чудо!» Люди украдкой утирали слезы, а я смотрел назад, где ангелы с кривыми, как сабли, трубами, среди огромных вращающихся звезд, с толстощекими, как у купидонов, лицами дули в свистульки, раздували волынки, звонили в колокольчики, гремели треугольниками и тарелками, где все это золотое, серебряное, мраморное и деревянное звучало, двигалось и играло во славу вечную.
Вечером над городом пронеслась гроза, первая в то лето, и все усматривали в этом знак Божий, а также знак особой святости его преосвященства епископа. «Если бы не он, – говорили, – не упало бы ни капли дождя». Но ливень не продлился и получаса, и сразу же после него распогодилось, и все оставалось как прежде – смрад от «рыбного супа» в заливе, духота в воздухе и сушь на земле. На другой день утром я стоял в магазине Пирсона, куда мать послала меня за картошкой, и слушал, что говорят женщины в очереди.
– Да-да, моя золотая, – доказывала одна, – если бы все приняли причастие, лило бы три дня и три ночи.
– Да разве можно людям верить? Кто-то вроде и в костел ходит, будто даже молится Пресвятой Деве, – раскипятилась другая, – а дома и на работе обо всем забывает. После получки напьется как свинья, а когда секретарь спросит насчет убеждений, сразу отвечает, что только в Маркса верит, будто бы для рабочего люда эта вера надежнее, чем Евангелие!
– И это называется католик? – вмешалась третья женщина. – И с таким очутиться в раю – где уж там!!!
– Посмотрите, мука подорожает, и яйца, и картошка, – доказывала первая, – от такой засухи добра не жди!
– Еще и война начнется, – ужаснулась вторая, – раз цены ползут вверх, это наверняка к войне.
Я перестал слушать эти откровения, так как думал теперь, что в соборе вместо епископа среди золотых гирлянд амвона должен бы стоять Желтокрылый и вместо слов надежды и любви лучше бы верующие выслушали жуткие пророчества безумца. Если бы епископ, как Желтокрылый, развернул перед собравшимися грозную картину разрухи и гнева Господня, если бы, как тот, говорил о крови, трупах и каре за безбожие, думал я, наверняка больше бы людей пало на колени и, бия себя в грудь, призналось бы: «Моя вина, моя вина, моя великая вина!!!» Только от чьего имени говорил епископ и от чьего – Желтокрылый? Вместо ответа расскажу, что было дальше.
Накануне Петр спрятал парабеллум в своем погребе, а ключ от замка положил на комод в прихожей. На беду, его отец, уходя на работу, забрал ключ с собой, скорее всего по ошибке. И теперь мы вынуждены были ждать возвращения его папаши, маясь от скуки в высохшем подчистую садике рядом с домом. Где-то около двух я увидел пани Короткову с корзиной белья. «Ой-ой, – говорила она, – что теперь будет, наказание божье с этими мужиками. – Тут она поставила корзину на землю, достала из-за пазухи деревянные прищепки и стала развешивать трусы, рубахи и прочие бебехи. – Наказание божье, – повторила она, – снова нахлещется как свинья, и прощай получка!» И вдруг мы впервые почувствовали солидарность с пани Коротковой и со всеми матерями и женами нашего дома – это ведь был день зарплаты!
– Не вернется он в четыре, – заметил Петр. – А если потеряет ключ? В прошлый раз, – объяснил он, – потерял бумажник и все документы!
– А другого ключа у вас нет?
– Был бы второй ключ от погреба, ослиная ты голова, – возмутился Петр, – сидел бы я тут с утра?
Не нужно было ничего обсуждать, мы знали, что отец Петра, так же как мой или пан Коротек, может вернуться домой как в шесть, так и в двенадцать ночи.
– Весь день пропал, – сказал я, – что будем делать?
Неожиданная помощь пришла к нам от пани Коротковой. Возвращаясь с пустой корзиной, она остановилась возле нас и спросила:
– Что вы тут делаете, ребята?
– Да ничего, просто сидим.
– А обедали уже?
– Да-да, пани Короткова.
– И вам нечего сейчас делать?
– Нечего, пани Короткова!
– А попозже?
– Попозже – это когда?
– Ну, часа в три, полчетвертого.
– Да вроде нечего, пани Короткова!
– Поможете мне, ребята, а?
– Хорошо, только что надо сделать?
– Да ничего, пустяк, сходите в «Лилипут», знаете, где пивом торгуют, и увидите моего, он всегда там сидит. Подойдете к нему и скажете, лучше в сторонке, что я заболела и приехала «скорая», чтобы забрать меня в больницу, хорошо? Сделаете это, сорванцы?
– Сделаем, пани Короткова.
– Так что вы должны сказать моему?
– Что вы заболели, и что «скорая», и что вас забирают в больницу, и чтобы пан Коротек побыстрее шел домой.
– Во-во, именно, золотые вы ребята. – Она широко улыбнулась. – Так не забудете, а?
– Не забудем, пани Короткова, обязательно сходим. – А мысленно мы уже составляли план, как выманить у Петрова отца ключ от погреба, чтобы он ничего не заподозрил. В том, что он будет вместе с паном Коротеком, мы не сомневались.
Бар «Лилипут» помещался напротив прусских казарм, там, где когда-то к ним примыкала гарнизонная, а после войны уже только евангелическая часовня, которую в то лето закрыли и переделывали в новый, большой кинотеатр. Каждый день с утра, особенно в жаркие дни, в баре и небольшом садике при нем собирались любители выпить, а в такой день, как этот, гул голосов был слышен уже издалека. Бар «Лилипут» принадлежал к той категории заведений, в которые обычно не входит ни одна женщина. В «Лилипуте» водку не продавали – клиенты сами приносили ее в портфелях, в карманах пиджаков, за поясом брюк, чтобы, заказав пару кружек пенистого пива, подкрепить его соответственно прозрачной жидкостью. Все мужчины, проживающие в нашей части Верхнего Вжеща, заходили сюда после работы, по крайней мере раз в месяц, и за короткое время освобождались от забот повседневного существования, мыслей о будущем и неприятных воспоминаний. Те, что работали на верфи, в «Лилипут» попадали уже в подпитии. По дороге, сразу же за вторыми воротами, ждал их бар «Под каштанами», и только оттуда они приезжали сюда, трамваем номер два или электричкой.
Когда в двадцать минут четвертого нашим глазам предстала поблекшая желтая вывеска бара, ограда из проволочной сетки была выгнута, как стенка бочки, по причине столпившихся вплотную к ней гомонящих и жестикулирующих мужчин. В самом углу, под кустом бузины, стоял пан Коротек, а рядом с ним отец Петра, мой и еще двое, каждый с кружкой в руке.
– Дерьмо! – кричал пан Коротек. – Ни хрена они мне не сделают! Пусть бригадир занимается дележкой премии, а не морали читает!
– Точно! – поддакивал ему один из незнакомцев. – Что верно, то верно!
Все чокнулись кружками и выпили. Мой отец достал из портфеля бутылку и подлил в каждую кружку немного водки.
– Пока не упились, – предложил Шимек, – послушаем, о чем они говорят.
Мы подошли к кусту бузины со стороны улицы и, стоя в тени листвы, ловили их слова. Но тема, видно, была исчерпана, так как пан Коротек повернулся к нам лицом, расстегнул ширинку и оросил куст бузины мощной желтой струей. Потом он снова повернулся к компаньонам, но ширинку не застегнул. Мы не могли этого видеть, но то, что произошло позже, продемонстрировало нам, каковы могут быть последствия небрежности в одежде и манерах. Кто-то из каменщиков, тех самых, которые занимались перестройкой евангелической часовни в кинотеатр, крикнул пану Коротеку: «Эй, застегни воротничок пониже пояса, не то птичка вылетит!» – и группа стоящих вокруг мужчин радостно заржала.
Пан Коротек допил содержимое кружки, вытер губы рукавом рубахи и ответил:
– А у тебя, говнюк, рука отсохнет!
– Это почему же?
– Потому что у того, кто крест снимает со святого места, рука рано или поздно отсохнет!
Дальнейший обмен репликами, дополненный другими голосами, развивался в бешеном темпе.
– Это лютеранская часовня, немецкая!
– Лютеранская не лютеранская, крест всегда один.
– Ты тоже делаешь что приказывают!
– Гляньте на него, философ!
– Если платят, то делаешь!
– Ты за деньги собственное говно съел бы, а что уж там крест снять!
– Но-но, осторожней на поворотах!
– А то что?
– А то, товарищ, что у тебя елдак отпадет!
– А, так это мы, оказывается, с
– А что, не нравится?!
– Это в партии вас учат так к старшим обращаться?!
– А что ты имеешь против партии?
– Имею или не имею, говнюк, а вежливости могу тебя научить!
– Попробуй только!
– Захочу и попробую!
– Нашелся сраный защитник веры, ха-ха!
– Повтори еще раз!
– А то что?
– Забудешь, курва, как тебя мамочка называла, и Дева Мария тебе не поможет!!!
– Сраный защитник Девы… – но договорить каменщик уже не смог, так как пан Коротек запустил в него пустой кружкой, которая пролетела над головой противника и попала в кого-то безвинного. На долю секунды шум голосов утих. И – закипело. Приятели пострадавшего бросились на каменщиков, поскольку те стояли ближе. Каменщики, защищая своего, приложили не тому, кому следовало. Грудь касалась груди, кулак сталкивался с кулаком, кружка обрушивалась на голову, нога пинала ногу. Солдаты из ближних казарм сняли свои тяжелые ремни и шпарили всех подряд. Через минуту драка разгорелась и внутри бара, о чем свидетельствовали вылетающие вместе с рамами и дверным косяком обломки стола. Удивленные прохожие замедляли шаг, обмениваясь вопросительными взглядами, но даже дерущиеся не смогли бы объяснить, почему дерутся и зачем. Груда тел перла теперь на ограду, и ржавая сетка лопнула, словно бумажная. Несколько мужчин упали на тротуар. «Милиция! Милиция едет! – крикнул кто-то предостерегающе. – Спасайся, кто может!» И когда со стороны Грюнвальдской уже явственно донесся вой сирены, мы увидели, как из-под кучи пьяных тел выползают по очереди пан Коротек, отец Петра и мой и как они быстро удирают в сторону дома, только бы не угодить в лапы милиции. Благодаря расстегнутой ширинке пан Коротек вернулся домой раньше четырех, хотя и с подбитым глазом и в окровавленной рубахе, а мы через полчаса получили свой парабеллум, и наши тренировки могли начаться.
Так что же было вначале? Было облачко кадильного дыма, из которого неожиданно вынырнул Вайзер. Почему, вместо того чтобы рассказывать дальше, я отступаю, возвращаюсь, повторяюсь? Бывают такие суждения или просто фразы, вроде бы понятные и очевидные, которые, если в них вслушаться, кажутся вдруг неясными, дьявольски сложными, а в конце концов и вовсе непонятными, – например, разные высказывания, которые мы неожиданно вспоминаем и которые не дают нам тогда покоя. Что значит, например, фраза: «Царство мое не от мира сего»? Не один раз объяснял ее ксендз Дудак, не один раз слышал я ее позднее и от людей поумнее, чем он. Что с того, что фраза эта снабжена множеством мудрых комментариев и все в ней надлежащим образом объяснено. Когда я читаю ее громко или тихо, шевеля беззвучно губами, когда я думаю о ней в очередной – и не последний – раз, меня охватывает страх, ужас, и в завершение – отчаяние. Так как вовсе эта фраза не однозначна и далеко не ясная, и чем больше о ней думаешь, тем больше в ней потаенного смысла, и черная дыра без дна открывается перед тобой. То же самое происходило – собственно, происходит и до сих пор – с Вайзером, его кратковременное появление и уход я могу сравнить единственно с такой фразой – на вид ясной и легкой для понимания. Разумеется, это не простая аналогия, Вайзер никогда не высказывался в нашем присутствии на религиозные темы, а что уж говорить о его внутреннем мире, в который никто, как мне думается, не имел доступа. Если, однако, приравнять его жизнь к такой фразе, нужно повторять ее неустанно, в надежде, что непонятное станет в конце концов поразительно простым.
Так на чем я остановился? Да, через полчаса у нас был парабеллум, и мы могли начать тренировку. Но – вопреки нашим стремлениям – не было нам дано в тот день ни разу открыть инструкцию стрелка, а также прицелиться или совместить прорезь с мушкой. Сразу после четырех, когда мы собирались отправиться в сторону Буковой горки, из окна третьего этажа нас окликнула мать Петра: «Вы куда это, мальчики? А ну-ка быстро домой, умыться и переодеться, в шесть служба, забыли?» Ничего не поделаешь, пришлось подчиниться, так как, известное дело, мать Петра говорила как мать любого из нас. Ведь существовало и существует нечто вроде интернационала всех матерей под солнцем, так же как интернационал отцов, напивающихся в день получки. Не буду подробно рассказывать о службе ксендза Дудака. Все на этом свете так или иначе повторяется, и ксендз выступил в тот день как зеркальное отражение его преосвященства епископа. Когда закончились молитвы и песнопения и когда прозвучал уже последний всхлип старенькой фисгармонии, слитый с хриплым фальцетом органиста, мы вышли из костела, собравшись на песчаной дороге, выбегающей здесь прямо из леса. От потока людей отделилась Элька и направилась к нам.
– Ну что? – спросила она, – Как развлекаетесь?
Неизвестно, что она имела в виду – наши упражнения с пистолетом; которые не состоялись ни разу, или службу в костеле, которая с минуту как закончилась.
– А что?
– Есть кое-что для вас. – Она улыбнулась лукаво.
– Если есть, давай и уматывай, нам некогда, – нагло ответил Петр.
Элька засмеялась, показав два ряда ослепительно белых беличьих зубов.
– Ну и дураки же вы! У меня сообщение!
– От Вайзера?
Она кивнула.
– Завтра в пять будьте в ложбине за стрельбищем, а это, – она сложила пальцы в виде пистолета, – принесите с собой. Ясно?
Все было тогда ясно, кроме того, что покажет нам Вайзер или что прикажет делать. Мы знали только, что первый месяц каникул у нас уже за спиной, и никто даже не предполагал, что до конца нашего знакомства осталось совсем мало дней.
На следующий день мы не обнаружили Желтокрылого на кладбище. «Пошел куда-то – или его поймали – но не тут, никаких следов нет», – обмен мнениями был кратким. «Тогда за работу», – скомандовал Шимек. И через минуту можно было услышать отрывистые указания знатока: «Как стоишь? Не так. Выше руку. Не подпирать, говорю тебе, не подпирать! Теперь прицел и мушка, спускай курок, хорошо, еще раз, слишком долго целишься, нужно нажимать сразу, как увидишь цель на линии выстрела, вот так, хорошо. Теперь я!» Солнце давно миновало свою наивысшую точку, а мы без устали, до тошноты повторяли одно и то же, принимая правильные позы, прицеливаясь и нажимая неподвижный курок обшарпанного парабеллума. Время от времени Шимек залезал на склеп и осматривал окрестности через французский бинокль: ведь все, что мы делали, было конспиративной подготовкой к настоящему бою. Потом мы упражнялись в выстрелах с колена, с бедра и лежа, в точности как учила довоенная инструкция. «Теперь мы могли бы ограбить банк, – заявил Петр, – только б заиметь настоящий пистолет». Шимек был другого мнения – партизаны и повстанцы не грабят банки, но я напомнил им о фильме, в котором подпольщики с оружием в руках опорожняют стальные сейфы, добывая деньги для организации. «Так ведь тогда была оккупация, и все отбирали у немцев, а сейчас, – не сдавался Шимек, – сейчас что?» Его вопрос остался без ответа. Окончательное решение мог принять Вайзер, и ему мы оставили планы на будущее. После обеда мы снова пришли на кладбище, поскольку до пяти часов оставалось еще порядочно времени.
Но недолго мы упражнялись. По насыпи в сторону Брентова шел М-ский, без сачка для бабочек и без коробки для растений. Если бы не отсутствие его постоянного снаряжения, мы не пошли бы за ним, но пустые руки и быстрый шаг очень заинтриговали нас. М-ский прошел по насыпи до самого взорванного моста, где мертвая железнодорожная линия пересекается с рембеховским шоссе. Он миновал асфальтовую полосу, но не стал взбираться обратно на высокую в этом месте насыпь, а пошел дальше тропинкой, бегущей вдоль нее. Наконец он достиг места, где под железной дорогой в узком туннеле протекает Стрижа, и двинулся вверх по течению, не оглядываясь назад. «О! – показал рукой Шимек. – Кто-то его ждет!» Действительно, пройдя еще каких-то триста метров, на маленькой полянке среди густого орешника и ольхи, которыми заросли берега реки, М-ский остановился возле какой-то фигуры. Мы подошли ближе, последние двадцать метров преодолев ползком на животе. М-ский сидел на траве рядом с темноволосой женщиной, похожей на домохозяйку, которую минуту назад оторвали от готовки или глажки. Рука учителя нырнула ей под фартук.
– Нет, – сказала женщина, – сейчас нет, говорила тебе, чтобы больше не приходил сюда! Лучше встречаться где-нибудь в другом месте!
– Так зачем пришла? – М-ский уже снял с нее фартук, и его рука гладила бедро женщины, как щетка автомобильного дворника, туда-сюда, туда-сюда. – Еще раз, – просил он, – еще один раз.
– Ох, нет-нет, – сказала женщина, но расстегнула М-скому брюки. – Как всегда? – спросила, понизив голос.
– Как всегда, – отвечал М-ский, и тогда женщина поднялась, и М-ский тоже встал, женщина сняла платье, М-ский – смешные белые кальсоны, которые оказались у него под брюками, и женщина изо всех сил ударила М-ского по лицу, раз и другой, наотмашь.
– Ох, – услышали мы стон, – еще! – Женщина била теперь М-ского по лицу без устали, и мы видели, как его крапленные веснушками плечи поднимались и опускались при каждом ударе. – Еще, еще немного! – сопел М-ский. Женщина сменила руку и продолжала хлестать учителя по лицу. Вдруг М-ский выпрямился как струна, по его телу пробежала дрожь, и мы увидели, как задрожали у него ягодицы. – Ох! – вздохнул учитель.
– Все, – сказала женщина и надела платье, потом фартук, а М-ский стоя натягивал спущенные кальсоны и брюки, из которых вынул затем сложенную банкноту и вручил женщине, как вручают кондуктору билет.
– В следующий раз, – сказала женщина, – не ищи меня здесь.
– А где? – томно спросил М-ский.
– Там, где в прошлый раз.
– Хорошо, но ты придешь?
– Приду, приду, – отвечала женщина и пошла вверх по реке, откуда, по-видимому, пришла, М-ский же, поправив рубашку и брюки, не попрощавшись, двинулся в обратный путь.
– Вот так потеха! – говорил Шимек, когда мы быстро шагали в сторону Брентова. – Что он – нормально лапать ее не мог? Что-то тут не то, ведь он даже не лег на нее!
– Лег или нет, – возмутился Петр, – но это свинство!
– Чепуха, – протянул Шимек. – Видели б вы, что сестра Янека вытворяла со своим парнем у нас на чердаке, – вот тогда поняли бы, как это делается по-настоящему!!!
– А почему они не пошли в лес, – спросил я, – а занимались этим на чердаке?
– А зима была, кочерыжка ты глупая! – Шимек ткнул меня в бок. – А теперь помчали, скоро пять!
Мы бежали в гору по мореновому склону наискось, и только высокая трава, достигающая колен, замедляла наше движение. Слева, далеко внизу, маячили контуры армейского стрельбища, справа за стеной леса виднелось голубое, как на картинке, море. «Топаете как стадо слонов, – съязвила Элька вместо приветствия. – Мы вас ждем уже четверть часа!» Никто, однако, не объяснил, что было причиной нашего опоздания. «А теперь, – сказала Элька, – теперь вы увидите то, что должно научить вас уважению!» – и больше ничего говорить не стала. Вайзер покрутил ручку генератора, и тогда, лежа на краю ложбины, увидели мы первый взрыв, о котором я уже писал: он напоминал облако в форме вертикально вращающегося столба голубого цвета. Да, это был первый взрыв Вайзера, который он нам продемонстрировал в ложбине за стрельбищем. Когда мы спешили на встречу в условленном месте, нам и в голову не приходило предположить что-нибудь в этом роде. В конце концов, мы были готовы к экзамену по стрельбе, а Вайзер поразил нас снова чем-то абсолютно неожиданным. Когда же он заложил следующий заряд и воздух снова разорвал грохот взрыва, а вверху завертелось двухцветное облако, и когда через несколько минут оно исчезло, растаяв, как утренний туман, мы готовы были поклясться Вайзеру не один, а десять раз на чем угодно, что бы он ни потребовал, и сделать все, чего бы он ни захотел. Но он вовсе не торопился и ничего пока не требовал. Элька забрала у нас инструкцию и обшарпанный парабеллум, и это было все – если не считать того, что Вайзер назначил новую встречу на кирпичном заводе, на завтра сразу после полудня. Мы стояли немного растерянные, ожидая, что будет дальше.
– Можете идти домой, – сказал Вайзер, – на сегодня достаточно!
– А завтра будем стрелять, правда? – робко спросил Шимек. Вайзер не отвечал, зато Элька выскочила:
– Не морочьте ему голову, – словно Шимек сказал что-то лишнее. – У него есть дела поважнее вашего стреляния! Слушайте и ни о чем не спрашивайте, ясно?
Можно ли было что-нибудь добавить? Вечером, маясь от безделья, мы стреляли из рогаток по банкам, расставив их на мусорном ящике, и вели такую примерно беседу:
– Говорю тебе, он затевает что-то грандиозное.
– Но что?
– Не знаю, ну что-то такое, о чем весь город будет говорить, и про нас напишут в газетах!
– Дурак! В газетах не пишут про таких, как мы!
– А вот напишут!
– Но что он такое задумал?
– Если нас поймают, наверняка посадят.
– За что?
– А оружие? Это тебе не хрен собачий! И генератор, и взрывы – тоже.
– Так ведь не наше всё!
– Наше не наше, а мы были с ним!
– Но что именно он сделает?
– Восстание!
– Ха, восстание! Восстание устраивают в городе, нужны баррикады!
– Ну так организует партизанский отряд!
– С одними нами? Пятерых слишком мало.
– А откуда ты знаешь, что только с нами? Может, у него таких, как мы, целая куча, и только для конспирации никто не знает друг о друге?
– Ну!
– А может, он сломает ворота в зоопарке и все клетки и выпустит зверей на волю?
– Вот это было бы да, лев шагает по Грюнвальдской!
– Не шагает, а бросается на мать с ребенком, а мы выбегаем – трах! – и нет льва – трах! – нет тигра – трах! – нет черной пантеры!
– Черную пантеру – он сам!
– Ну ладно, укокошим всех диких зверей, а потом нас сфотографируют в газету, представляете? Ученики шестьдесят шестой школы спасли прохожих от диких зверей!
– Я думаю, тут пахнет кораблем.
– Каким кораблем?
– Как только нас вышколит, уведем пароход из порта!
– Не из порта, а с рейда!
– Хорошо, пускай с рейда, и пожалте – он на мостике, на нас – каюты и трюм, и – даешь Канаду!
– Вперед, в Африку!
– Не в Африку, говорю тебе – в Канаду!
И так между партизанскими боями и угоном парохода проходил наш вечер, и попутно мы расстреливали ржавые банки, и все больше камней собиралось под мусоркой, и все сильнее натягивали мы велосипедную резину на рогатках, пока не сгустились сумерки и пришла пора возвращаться домой. Но почему мы не говорили об М-ском? Почему не обсуждали его встречу с черноволосой женщиной у реки, почему не поразил нас вид учителя в спущенных штанах и кальсонах, битого по лицу, того самого М-ского, перед которым мы дрожали на уроках и на переменках, когда он проходил запруженным коридором? Может, Вайзер был нам ближе, чем тайны М-ского? А может, мы не были еще знакомы с пороком?
В ту ночь приснился мне, однако, сон, который я помню до сих пор, цветной, как фильм Диснея, и очень тревожный. Я стоял на берегу моря, светало, и из воды выходили один за другим звери. Таких чудищ бесполезно искать в зоологическом саду или в какой-нибудь книге о фауне заморских стран. Первым показался крылатый лев, струи воды стекали с него на песок. За ним вышел рычащий медведь с костью в зубах, а потом из зеленой бездны выплыла черная пантера о четырех головах, с птичьими крыльями на хребте. Хоровод замыкал самый удивительный монстр – помесь носорога с тигром, с огромными стальными зубищами, со множеством рогов, как у оленя-мутанта. Сколько их торчало над страшной мордой – не помню, может, десять, а может, двенадцать, не это, в конце концов, самое важное, – звери набросились на ближайшие дома рыбаков, выламывали ударами лап двери и ставни, в клочья раздирали разбуженных мужчин, когтями вырывали у женщин волосы, а детям, не сумевшим убежать, разбивали головы о беленые стены. Продолжалось это долго, и страх, который я испытывал, не позволял даже проснуться и вырваться из кошмара. Вдруг на восточной стороне я увидел в солнечных лучах маленького мальчика, одетого в белое. Конечно же, это приближался Вайзер, вытянутой рукой он указывал на кого-то или что-то, чего я не мог разглядеть в мешанине дергающихся тел и изуродованных трупов. Вайзер подошел прежде всего ко льву и вырвал у него орлиные крылья. Зверь упал бездыханным, судорожно колотя по песку хвостом. Потом Вайзер пригнул рукой медведя – и тот бессильно повалился на песок. Третьим было чудовище с рогами – Вайзер повыдергивал их, как былинки, и монстр упал на колени, а потом на брюхо – стальные зубы выпадали у него из пасти и превращались в большие золотые монеты. Под конец Вайзер схватился с черной четырехглавой пантерой с птичьими крыльями на хребте, и это было самым удивительным и самым страшным одновременно: все четыре пары глаз, и четыре носа, и восемь ушей – все это принадлежало М-скому, ибо лица на всех четырех головах бестии были лица М-ского. Никогда не забуду, как отвратительно они выглядели. Так же, как в зоопарке, Вайзер пронзил пантеру взглядом и только ему известным способом превратил ее в перепуганного котенка, который ластился и лизал руку укротителю. Я не слышал, что Вайзер сказал оставшимся в живых рыбакам и их семьям, все заглушал гул прибоя, а также подъезжающий трамвай четвертого маршрута, разворачивающийся, как обычно, с отвратительным скрежетом и визгом на елитковском кругу. Вайзер ловко вскочил на подножку и уехал, словно турист, возвращающийся с пляжа в город. Солнечный луч, отразившийся в окне второго вагона, ослепил меня, я вдруг почувствовал влажную от пота простыню и понял, что лежу в постели, а все остальное – самый обыкновенный сон. Обыкновенный? Лучи солнца проникали в щель между штор и щекотали меня, сквозь закрытую дверь в кухню я слышал, как отец уходит на работу, возле меня еще храпела мать, уставшая от вчерашней целоденной стирки. Над кроватью висела оправленная в бидермайеровскую раму икона Ченстоховской Божьей Матери, а с улицы через открытое окно долетал грохот телеги, направляющейся на. базар в Оливу. Не было ни моря, ни выходящих из него зверей, ни Вайзера в белой одежде, ни растерзанных рыбаков. Вместо этого я услышал шаги в коридоре – сосед прошлепал в ванную. В бывшей немецкой квартире, поделенной на маленькие клетушки тонкими перегородками, все было слышно очень хорошо – даже то, что сосед бреется сейчас, равномерно водя бритвой, и что после вчерашней попойки у него понос. Так что же тот сон? Я ничего не пропустил и ничего не прибавил. Может, он посетил меня вместо вчерашней беседы об М-ском, которая так и не состоялась?
Я так боялся этого сна, что даже когда в последний раз стоял на коленях перед решеткой исповедальни и ксендз Дудак казался мне таким же важным, как Папа Римский или Священная Конгрегация по Делам Веры, – даже тогда я не мог рассказать ему о тех картинах, которые запомнил навсегда. Было это в январе семьдесят первого года, когда я уже точно знал, что произошло с Петром и как выглядели его похороны. Я пришел тогда не исповедоваться в грехах, однако опустился на колени, как всегда, полон смирения и печали перед лицом величия.
– Не горячись, сын мой, приговоры Провидения неисповедимы, и не нам, в самом деле, разгадывать их смысл и значение, – говорил ксендз, а я чувствовал его кислое старческое дыхание, и все больше нарастали во мне отчаяние и слепой гнев.
– Означает ли это, отец, – спросил я, – что Бог хотел его смерти?
– Никогда нельзя так говорить, никогда, – выпалил он на одном дыхании, а я спрашивал дальше:
– Но ведь, отец, все делается по воле Божьей, значит, и эта смерть почему-то была Ему нужна, разве не так?
– Кто меч поднимет – от меча и погибнет, – послышалось из-за решетки.
И тут я уже не сдержался и закричал чуть ли не во всю глотку, аж всполошились все подслушивающие святоши:
– Этого не может быть, отец, Петр не поднял даже камня и ни с кем не воевал, вы сами знаете, как это произошло – по чистой случайности!
– А чего ты, собственно, хочешь? – прервал меня ксендз Дудак. – Нет случайностей там, где правит Бог. Чего бы ты хотел? Чтобы я, Его слуга, открывал тебе, который есть просто прах, Его тайны? С какой это стати Он будет открывать тебе свои замыслы? Грешишь, сын мой, гордыня – тяжкий грех, и большие, чем ты, вопрошали, и им не отвечено. Читал книгу Иова? Сколько ты претерпел в сравнении с ним, что смеешь так спрашивать и еще впадаешь во гнев? Тут требуется дух смирения, сын мой, смирение и терпение всем нам требуется! Вот что!
– У меня хватает смирения, отец, – отвечал я уже тише, – но почему неправедный ходит в почете, глумясь над праведностью богобоязненного? Разве нельзя это изменить?
– Награда вам будет обильна на небесах, а в политику не впутывайся!
– Петр не впутывался!
– Не тебе, сын мой, судить о приговорах Господних. Есть у тебя еще какие грехи?
– Нет никаких, отец, я пришел только спросить, почему все меньше во мне веры.
– Согрешил снова, – прервал он меня, ерзая на своем сиденье, – не только гордыня твой грех, но и сомнение! Перестань думать о своем друге и молись.
– Не могу, – прервал его на этот раз я, – не могу, отец, чем больше думаю, тем меньше во мне веры!
– Кайся в своих грехах!
– Не могу!
– Моли Бога о прощении!
– Не нахожу в себе вины, отец!
– Сатана подстерегает тебя, сын мой, проси прощения!
– Не могу, не могу, не могу!
И с криком я выбежал из костела, ибо перед глазами снова встала сцена из сна об укротителе диких зверей на елитковском пляже.
Итак, снова Вайзер вернулся ко мне – между решетками исповедальни. Быть может, это была еще одна хитрость для усыпления бдительности – его неожиданное вторжение в интимнейшую сферу жизни. К этому, впрочем, мне еще придется вернуться. Я лежал на топчане, приходя в себя после кошмарного сна, мать храпела, измученная вчерашней стиркой, а из ванной доносился звук спускаемой воды. Я подумал, что сегодня Вайзер обязательно проверит, каких успехов добились мы в трудном стрелковом искусстве, и меня порадовала сама мысль о посещении заброшенного завода.
Тем временем… Тем временем? Пусть будет так – тем временем дверь кабинета, не знаю уж в который раз, отворилась, и большая, извергающая свет и табачный дым пасть Левиафана выплюнула худую фигурку Петра. Он был не в себе и явно смущен, понимая, что мы слышали его крики, – он предпочитал бы скрыть от нас свои слезы. Однако Петр сохранял ясность сознания, и, пока мужчина в форме вызывал Шимека, руками изобразил для нас, будто зажигает спичку. Значило это, что на допросе он изложил версию, о которой мы успели договориться: обрывок платья Эльки сгорел в костре, к удовлетворению тех троих и пана прокурора, ожидающего закрытия дела. Мы незаметно кивнули. Только где лежал этот несчастный обрывок, где мы его нашли? Наверняка они вытащат карту и заставят показать с точностью до метра. И еще – где был этот костер? Об этом мы не договорились, а телепатом ни один из нас, к сожалению, не был. Сержант захлопнул за Шимеком дверь, и в канцелярии, где я пересчитал уже во всех возможных комбинациях дощечки паркета: вдоль, поперек и по диагонали, – в канцелярии воцарилась глухая тишина, наполненная мерным тиканьем часов. Я боялся заснуть. После того сна боялся, что если опущу веки, то не смогу отогнать дурные мысли и он повторится. Боялся все последующие дни, до самого конца каникул, и теперь, в канцелярии, боялся еще больше. Почему я не рассказал тогда этот сон Шимеку или Петру? Почему утаил картину странных зверей, выползающих из моря на елитковский пляж, почему не встал, как Желтокрылый, и не открыл свою правду? Только теперь, когда мы сидели на складных стульях при свете единственной лампы на столике сторожа и когда Петр уныло понурил голову и я увидел красные полосы на его руках, – только теперь до меня начал доходить смысл того, что случилось со мной после моего сна, когда мы стреляли из «шмайсера» в ложбине за стрельбищем. Но все по порядку.
В условленный час мы были, конечно, на кирпичном заводе. Вайзер молча достал из кляссера двенадцать зеленовато-бурых «адольфов», прилепил их к стене, вручил нам заряженный парабеллум и сказал: «Каждому по четыре, стреляйте до последнего „адольфа"!» Элька считала количество стреляных гильз и наполняла обоймы. Помню хорошо: лучшим оказался Петр, так как на попадание в четырех канцлеров потратил только шесть патронов, вторым был Шимек – восемь, третьим – я: на четырех «адольфов» мне понадобилось одиннадцать выстрелов. От грохота у меня звенело в ушах. «Неплохо, – сказал Вайзер. – А тебе, – это повернулся он ко мне, – надо еще поупражняться!» И когда Вайзер объявил, что он не ошибся в нас – именно так и сказал – и теперь мы пойдем в ложбину, когда мы шли в зарослях папоротника, крапивы и дрока, минуя перелесок и черные даже днем ели, я подождал, пока он окажется позади всех, и рассказал ему свой сон как великую тайну. Я рассказывал о чудищах, выползавших из моря, и о том, как он укротил их, спасая несчастных рыбаков. Не думаю, что я хотел тогда подлизаться к нему, хотя стрелял хуже всех, нет, во всяком случае, Вайзер так это не воспринял, выслушал, не перебивая, до конца и сказал – помню это в точности: «Хорошо, никому об этом не говори», – но то не была угроза – и, помолчав, добавил: «Будешь менять мишени, очень важное дело». И я шел дальше, счастливый, будто бы особая милость свалилась на меня, несмотря на мою неудачную стрельбу.
Да, если сегодня я пишу, что Вайзер предстал перед нами каким-то совершенно иным, то у меня есть на то веские основания, однако это вовсе не означает, что он не был в то же время нашим вожаком или попросту генералом. Кому, кроме генерала, пришла бы мысль стрелять рядом с армейским стрельбищем, под самым носом у самых настоящих солдат? Подвал на заводе был слишком мал для забав с автоматом. Но где можно было стрелять так, чтобы отголоски выстрелов рано или поздно не привлекли к нам внимание местных жителей или любителей лесной малины? Замысел Вайзера был прост: если на военном стрельбище проходили стрелковые учения, то мы должны были проводить свои учения в тот же час и где-нибудь поблизости. Сразу же за высоким валом стрельбища начиналась ложбина, где прилепившийся к ней перелесок, высокая трава и густой кустарник давали шанс в случае необходимости удрать. В конце ложбина переходила в тянувшуюся на два километра и поросшую сосновым бором расселину, для перекрытия которой солдатами потребовалось бы человек пятьдесят. Все это предусмотрел и тщательно спланировал Вайзер. Мы с восхищением наблюдали, как он приказывает нам занять позиции, заряжает автомат и ждет, когда по другую сторону насыпи раздадутся выстрелы. «Сейчас я покажу вам, – сказал он, готовый нажать на спуск, – как это нужно делать!» И едва мы услышали ударивший в стену леса грохот коротких очередей за валом, Вайзер приложился к автомату и дал такую же короткую очередь, которая прозвучала как эхо той. «Они ни о чем не догадаются, – сказал он, – с той стороны это звучит как эхо, нужно только стрелять в тот же миг».
В этом была вся хитрость – приготовившись к выстрелу, дождаться, пока по другую сторону вала на настоящем стрельбище очередной солдат нажмет на спуск. Так что практически мы стреляли одновременно в тот же самый дерн, которым была обложена насыпь с обеих сторон. Только у солдат были автоматы Калашникова, а у нас немецкий «шмайсер», найденный и сохраненный Вайзером. Самое трудное было приспособиться к ритму. Их очереди, короткие и состоявшие чаще всего из трех частей, редко были одинаковыми. Tax, та-тах, та-та-тах – так было чаще: один, два и три выстрела с краткими паузами. Но бывали и другие комбинации: например, три, два, два, один, или два, три, два, либо один, один, три, а потом неожиданно еще один.
– Стреляют так, будто патронов у них мало, – сказал Шимек. – Не понимаю.
А Вайзер поверх вынутой обоймы улыбнулся, как обычно, почти незаметно и бросил как бы между прочим:
– Святая истина, солдат должен стрелять так, будто у него мало патронов.
Петр поинтересовался почему.
– А сколько патронов ты бы смог притащить на поле боя? – спросила Элька самоуверенно, будто сама все знала. – Сто? Двести? Девяносто штук?
После этого вопроса, на который так никто и не дал ответа, мы окончательно уверились, что Вайзер готовит нечто грандиозное, и вдруг почувствовали себя славными бойцами Фиделя Кастро, которые год назад, второго декабря, высадились на берег в провинции Ориенте и боролись с ненавистным Батистой, прислужником империализма, о чем увлекательно рассказывал М-ский целый урок естествознания.
– Жаль, – прошептал Шимек, когда мы лежали в зарослях папоротника, поскольку на той стороне был как раз перерыв, – жаль, что у нас нет такого Батисты!
– А тебе что?· – спросила Элька.
– Не понимаешь, – пояснил Петр, – мы бы ему дали жару! Высаживаемся с моря на пляж, атакуем казармы, и по всей стране начинается революция, настоящая революция с партизанами, и вообще!
Элька расхохоталась так громко, что даже Вайзер посмотрел на нее укоризненно.
– Болтуны вы и дураки, – сказала она, подавив смех, – ну как можно устроить революцию во второй раз?
Но времени объяснить Эльке, как сильно она ошибалась, не было: Вайзер велел мне идти на насыпь, а остальные стали готовиться к следующей серии выстрелов.
Мишени, по которым мы стреляли, не были, к сожалению, Батистой. На упаковочной бумаге черной краской был нарисован М-ский с усами, как в прошлый раз в подвале кирпичного завода, напоминавший хотя уже и меньших размеров, но достаточно большие портреты, которые мы носили еще во втором классе на первомайской демонстрации. И тут произошло то, что долго оставалось мне непонятным и только в школьной канцелярии каким-то образом стало ясным и неслучайным. Когда я придавил лист бумаги последним камнем, на другой стороне раздались выстрелы. «Tax, та-тах, та-та-тах», – застучало по стене леса. Это была очередь в один, два и три выстрела. «Скорей! – крикнула мне Элька. – Спускайся, уже начинается!» И я понял, что необходимо быстро исчезнуть из зоны выстрелов, так как теперь автомат был у Вайзера и он нетерпеливо ждал следующей очереди с той стороны, – она должна прозвучать не больше чем через десять секунд. Так что у меня было десять секунд, чтобы сойти с вала и пробежать узкой тропкой вдоль него до конца, откуда можно было вернуться к ребятам по краю ложбины, в стороне от зоны стрельбы. Я бежал во всю мочь, но был еще только на полпути, когда за валом снова зазвучала канонада. Неужели Вайзер решил, что я уже достаточно далеко от мишени и он, лучший из нас, уже может стрелять? Так я подумал несколькими секундами позже, когда почувствовал легкий щипок пониже левой щиколотки, над самой пяткой, и решил, что какая-то колючка или камень оцарапали мне кожу, – но через мгновенье я лежал уже на траве и боль не позволяла мне встать и сделать хотя бы шаг. Наши выбежали из папоротника, бросив автомат.
– Рикошет, – кричал Вайзер, – рикошет, не двигайся, не двигайся! – И вмиг все были около меня.
Элька сняла с меня сандалию, а Вайзер поднял ногу и осмотрел ее. Это и в самом деле был рикошет, пуля только скользнула по стопе, вырвав кусочек мяса.
– Все в порядке, – сказал Вайзер, – кость не повреждена, нужно перевязать, чтобы не было заражения!
– До дому слишком далеко, – заметила Элька, – а тут у нас нет даже перекиси водорода!
Я смотрел на капли крови, застывающие на песке темными сгустками, но не мог сделать даже двух шагов без помощи Шимека и Петра, которые подставили мне плечи.
– На завод! – скомандовал Вайзер, и мы действительно вдруг почувствовали себя на настоящей войне. С другой стороны вала доносился грохот стрельбы, и свист пуль, которые пробивали щиты и увязали в песке, доходил даже сюда, а я был самый настоящий раненый, и нога у меня очень болела. Впереди шагал Вайзер, за ним ковыляла наша тройка, замыкала же колонну Элька, немного отставшая, так как Вайзер велел ей забрать использованные мишени и автомат, завернутый в старый холщовый мешок.
В подвале завода было холодно, и на минуту боль вроде бы утихла, но только на минуту, так как, когда Элька дотронулась до моей пятки, я дико заорал: «Что ты делаешь, ненормальная?» И она отступила, отчасти от испуга, а отчасти из уважения к моей ране, из которой все еще сочилась кровь. Меня уложили на большой ящик.
– Загрязнилось песком, – сказал Вайзер, – нехорошо! – Конечно, он имел в виду дырку в ноге, а не ящик. – Принеси воды, – приказал он Эльке и, когда она исчезла, достал из другого ящика спиртовку. – Вода только для начала, – обратился он неизвестно к кому, – потом придется прижечь. – Вслед за спиртовкой он извлек из ящика сломанный немецкий штык, тоже, наверное, где-то найденный. Элька принесла в консервной банке воду и платком промыла дырку.
– Больно? – спросила она.
Я ничего не ответил. Я смотрел, что делает Вайзер. Он поставил спиртовку на два кирпича, зажег горелку и теперь, поворачивая, купал в голубоватой струе огня острие штыка.
– Это единственный способ, – сказал он, не отрывая глаз от горелки, – чтобы не началась гангрена. Нет у нас тут ничего, кроме этого.
Шимек навалился на меня и крепко прижал к ящику, Петр ухватил за правую, здоровую ногу и тоже навалился на нее, чтобы не дергалась, а Вайзер зажал мою левую голень под мышкой, как заправский фельдшер, и, вооружившись штыком с раскаленным острием, приступил к операции. Стопу он поднял поближе к свету, и все время, пока он ковырял острием штыка в дырке, я видел его руку.
– Этот «шмайсер», – проговорил он спокойно, ковыряя кончиком штыка в дырке, – никуда уже не годится! Я знал, что он немного сносит, но чтоб такой разлет – с этим нельзя смириться. – Так и сказал: смириться. И сразу же, когда острие вошло в рану глубже, добавил: – Пойдет на лом, а замок, магазин и курок вынем. – К кому он обращался? Все, как и я, молчали, и только чад горелой кожи разносился по подвалу. – Хорошо, – сказал он, откладывая штык, – теперь приложи ему платок, и через минуту можете проводить его домой.
Элька исполнила приказ, бережно обвязав мокрым лоскутом стопу, хотя могла вовсе не церемониться, потому что, когда Вайзер убрал из раны острие штыка, я не чувствовал уже ничего, будто ноги вовсе не было или она была не моя, а деревянная.
– Я останусь здесь, – заявил он и повернулся к Эльке, – а ты иди с ними.
Когда мы были уже на скрипучей лестнице, он задержал нас еще на минуту:
– Наверно, тебе придется посидеть дома, – сказал он на этот раз мне, – если спросят, что случилось, скажи, наступил на ржавую колючую проволоку. Да, ржавая колючая проволока, – повторил он спокойно, – а теперь идите!
Не помню в точности, какой дорогой мы возвращались домой, может быть, как всегда, через пригорок у армейского стрельбища, а может, через поляну, на которой были разбросаны большие эрратические валуны и которую поэтому мы называли карьером. Уже тогда слова Вайзера показались мне странными. Автомат, из которого мы стреляли, совсем не сносил, коль скоро даже я в последней стрельбе попал в М-ского целых пять раз. А если даже и сносил, то, согласно законам оружейного искусства, вверх либо вниз от цели, но никак не вбок.
«Тебе придется посидеть дома» – вспомнил я его фразу уже в школьной канцелярии и вдруг понял, что дело было именно в этом, именно это задумал Вайзер: чтобы в ближайшие дни меня с ними не было, и чтобы узнавал обо всем я только от Шимека или Петра. Вайзер отстранил меня сознательно, и не по причине слабых результатов в стрельбе. Может, он хотел меня остеречь? Но от чего? В любом случае каникулы эта история с ногой мне испортила, и даже теперь, когда пишу эти слова и поглядываю на ногу, я знаю, что на два сантиметра ниже щиколотки сохранился шрам от вайзеровского рикошета и прижигания раны. Знаю также, что, как только ветер с залива сменит направление, я почувствую слабую, едва ощутимую, как тонкая струйка, боль в левой стопе, и я никогда не смогу забыть того, что произошло в ложбине за стрельбищем, и Вайзера, и все то жаркое лето, когда засуха опустошала поля, вонючая «уха» заполнила залив, епископ и ксендз вместе с верующими молили Бога о смене погоды, люди видели комету в форме лошадиной головы, Желтокрылый сбежал из дурдома и за ним гонялась милиция, каменщики перестраивали евангелическую часовню в новый кинотеатр напротив бара «Лилипут», а мужчины из нашего дома заслушивались речами Владислава Гомулки и говорили, что такого вождя у рабочих еще не было и не будет. Все, что видели тогда мои глаза и чего касались мои руки, все это заключено в том шраме повыше пятки, шраме длиной в сантиметр, шириной в полсантиметра, к которому я прикасаюсь, когда теряю нить или задумываюсь, все ли тогда было на самом деле, как была на самом деле наша улица, вымощенная булыжником, магазин Цирсона, дымящая колбасная фабричка и казармы, возле которых мы играли в футбол, или когда меня охватывают сомнения, не было ли все это сном мальчишки о собственном детстве или о грозном учителе естествознания М-ском и ненормальном, одержимом странными маниями внуке Авраама Вайзера, портного. Да, именно тогда я наклоняюсь к левой стопе и пальцами правой руки потираю этот шрам, и убеждаюсь, что Вайзер существовал на самом деле, что взрывы в ложбине были настоящими взрывами и что ничего в этой истории не выдумано, ни одна фраза и ни одно мгновение того лета и того следствия. И снова вижу, словно опять очутился там, ксендза Дудака с золотой кадильницей, чую запах горелого янтаря и слышу: «Славься, Иисус, Сын Девы Марии», и вижу, как Вайзер выныривает неожиданно из сизого облака, пахнущего вечностью и милосердием, вижу, как он смотрит на все это своим неподвижным взглядом, а потом слышу: «Давид-Давидек не ходит в костел!» И его клетчатая рубаха порхает в воздухе, Элька сражается как разъяренная львица, и только мы не можем ничего понять. А впрочем, о чем можно сказать «я это понимаю»? О чем вообще и о чем из того, что касается этой истории? Понимаю ли я, например, почему Вайзер отстранил меня на какое-то время? Или каким образом Петр, покоясь под землей, может со мной разговаривать? Ни одна теория этого не объяснит. Единственное, что можно сделать, – это рассказывать дальше.
Да, если Вайзер, по известным только ему причинам, старался подольше задержать меня дома, ему вполне удалось осуществить свой замысел. Заражения не было, но и без этого стопа на другой день распухла, как пузырь, и ранка загноилась. Мать потащила меня к врачу, который промыл рану, прописал компрессы и рекомендовал поменьше ходить. Теперь я был обречен целый день чистить картошку, следить за кипящей лапшой и слушать, как мать жалуется на отца и на всех мужчин: такая уж у меня была мать – добрая и ворчливая. Покалеченная нога была, по ее мнению, карой за непослушание и постоянные шатания вне дома. Вдобавок в доме с утра до вечера было включено радио – и, чистя картошку или раскатывая тесто для лапши, чего я не выносил больше всего, так как это стопроцентно бабское занятие, – так вот, при всем при этом в кухне наяривал народный оркестр то из Опочно, то из Ловича, а когда он умолкал, сразу же начинались оперные арии из «Бориса Годунова» или «Травиаты», скучные, длинные и тяжелые, перемежающиеся время от времени фрагментом какой-нибудь увертюры. Я жалел, что у нас нет такого радио, как у пана Коротека, которое можно переключать на разные диапазоны, наш же репродуктор передавал только одну программу, и эбонитовой ручкой можно было, самое большее, приглушить визгливый голос исполнительницы народных песен или мощный баритон русского певца. Выключать репродуктор мать не разрешала, так как иногда, случалось, передавали танцевальную музыку или, совсем уж редко, американский джаз. Тогда она крутила эбонитовую ручку до упора, забирала из моих рук скалку или нож для чистки картошки и делала всю работу за меня, притопывая, подпевая и улыбаясь. Я знал, что мать очень любит танцевать, но, сколько помню, отец никуда ее с собой не брал. Приходя уставшим с работы, он после второго блюда обычно засыпал над газетой, а в воскресенье, вернувшись из костела, ложился на кровать и мог так дремать целый день, если кто-нибудь из приятелей или соседей не вытащит его в бар «Лилипут». В общем, я ужасно скучал, тем более что единственной книжкой, кроме кулинарной, была у нас в доме почему-то «Кукла» Пруса, которую я бросил после первой же главы. Я умирал от любопытства, что-то сейчас поделывают ребята, но мать не разрешала мне торчать у окна, я не мог даже окликнуть Шимека или Петра, когда они проходили по двору. Два дня они не подавали признаков жизни, словно Вайзер запретил им приходить в нашу квартиру. Только на третий день утром Петр постучался в дверь. Нам пришлось разговаривать шепотом, так как в нашей квартирке, кроме комнаты и кухни, других помещений не было, а мать курсировала из одной в другую, стирая и готовя одновременно.
– Вчера он показал нам новый трюк, – сказал Петр без особого энтузиазма.
– А что такое? – Меня прямо распирало от любопытства. – Что это было?
– Ничего особенного, ну, знаешь, с огнем.
– С каким еще огнем?
– Мы жгли костер.
– Где? – нетерпеливо спросил я.
– Недалеко от завода, там есть такая поляна в орешнике, – мямлил Петр.
– Но что это был за трюк?
И, атакованный моими вопросами, Петр рассказал, что сначала стреляли из нагана, как обычно, в подвале, и было это труднее, чем из парабеллума и «шмайсера», потому что наган – нудил Петр, – чертовски отдает, и бьет вбок, и сносит, как ни одно оружие. Потом Вайзер сказал им про этот костер, и они пришли в условленное место вечером. Тогда он и заявил, что когда мы увидели в подвале завода, как он танцует и поднимается в воздух, то, наверно, приняли его за сумасшедшего, и он за это на нас не сердится, потому что в подобной ситуации сам бы так подумал. Но то было вовсе не сумасшествие, просто, как он сказал, – тянул Петр, – он хочет стать цирковым артистом. Я не поверил.
– Цирковым артистом, – повторил Петр, поедая принесенные матерью на фарфоровой тарелочке вишни. – Как только он отработает несколько классных номеров, даст драпака из школы, и любой директор цирка примет его с распростертыми объятиями, даже без свидетельства об окончании седьмого класса, а Элька будет его ассистенткой.
– А стрельбище? А взрывы? А оружие? А похищение парохода? А восстание? Партизанский отряд? Это все фигня?
– Успокойся, – сказал Петр, выплевывая косточки в ладонь, – мы тоже спросили у него, а он сказал, что стреляет просто так, для развлечения, и, ну, может, использует это для какого-нибудь номера, он сам еще не знает, там будет видно. А потом показал нам, – рассказывал он дальше, – трюк с огнем, то есть вынул из костра раскаленные угли, разложил на земле и стал на них босиком, а потом ходил туда-сюда, и ничего, даже не пискнул, и, когда показал стопы, даже следа от ожога не было. Еще есть немного?
Я принес из кухни струящий воду дуршлаг, полный последних в том году вишен.
– А она ему при этом играла?
– Нет, – он снова мямлил, с набитым ртом трудно быстро говорить, – она все время болтала как нанятая, но, верно, потому, что уже это видела.
– И он ничего больше не говорил?
– Нет, а что ему еще говорить, когда мы и так раззявили рты? Такой трюк удается только факирам, а он смог.
– Так почему он сейчас не идет в цирк? Он столько всякого может, что его сразу примут, помнишь пантеру в зоопарке?
– Ихм… – Он снова выплевывал косточки одну за другой, на этот раз в тарелку.
– Может, он еще что-нибудь готовит?
Петр пожал плечами:
– Кто знает, что артисту придет в голову.
– А ты откуда знаешь?
Он выплюнул последние косточки.
– Знаю… так, вообще… Ну, пока. – И он исчез, не сказав даже, какие у них планы.
А я сидел целый вечер и воображал, как Вайзер будет выглядеть во фраке, с бичом в руке, укрощающий львов или, еще лучше, черную пантеру, в лучах прожекторов, кланяющийся публике под бурю аплодисментов. Это могло быть прекрасно – и Элька в костюме, обшитом блестками, сверкающими как алмазы, Элька, которая могла бы держать огненный обруч или засовывать голову в пасть самому свирепому льву, отчего весь зрительный зал замирал бы в ужасе, а пожилые дамы теряли бы сознание, конечно, пока номер не закончится. Тут Вайзер перехитрил нас на все сто: мы поверили в его планы и приняли последний трюк с раскаленными углями как доказательство правдивости его слов. Кто мог предположить, что это был искусный обман? Я не говорю о его босых ногах, ступающих по углям, тут наверняка все было по-настоящему, речь только о переключении внимания в совершенно другом направлении, туда, где не могли уже возникнуть никакие другие догадки.
Часы в канцелярии пробили одиннадцать. Ко мне вернулось ощущение времени. Дверь кабинета вдруг отворилась, и я услышал произнесенную М-ским свою фамилию.
– Садись, – буркнул сержант. – А ты, – обратился он к Шимеку, – возвращайся на свое место!
– Ну так что, – М-ский сразу же приступил к делу, – почему только Королевский написал в своем показании, что обрывок красного платья вы сожгли на костре? Почему ни ты, ни твой другой приятель не написали об этом, а?
– Я боялся.
– Боялся?
– Да.
– Ну так скажи, где вы нашли этот несчастный клочок материи?
– В ложбине за стрельбищем, там, где Вайзер устраивал свои взрывы!
– Это мы уже знаем, – очень мягко сказал директор, – нас интересует подробное описание места, вспомни, и все будет хорошо. – Говоря, директор играл концом своего галстука, который теперь не напоминал уже ни якобинский бант, ни мокрую тряпку, а похож был на петлю со свободным узлом, двигающимся вверх или вниз по веревке.
– Ну, вспомни, – повторил сержант, словно эхо.
– Где-то в папоротнике.
М-ский сухо рассмеялся:
– Кого ты хочешь обмануть? Папоротника там больше, чем деревьев!
Сержант разложил план ложбины на письменном столе.
– Подойди сюда, – сказал он, – и покажи точно где!
Что было делать? Я понятия не имел, какое место указал им Петр, а потом Шимек, так что я ткнул пальцем поближе к крестику, обозначающему точку, где Вайзер закладывал заряды.
– Врешь! – это кричал М-ский. – Опять врешь, и твои приятели тоже врут, все вы заодно, но я вас… – И он уже протянул руку, чтобы схватить меня за ухо, но директор остановил его жестом.
– Минутку, коллега, спросим у него, где был костер, в котором они сожгли обрывки материи.
– Это были вовсе не обрывки, – вмешался я, и все замерли от удивления, ожидая, что я скажу еще. – Это не были обрывки, это был целый кусок платья!
– Королевский ясно написал: обрывок материи. Ну а если не обрывок, то что? – Сержант пододвинулся ко мне, так что я видел струйки пота, стекающие у него с висков. – А может, скажешь, что это было целое платье, а?
– Нет, пан сержант, это не было целое платье, наверняка не целое, но кусок большой, с эту карту, во. – И я показал руками, какой большой был этот кусок, которого никто не видел, так как Элька вовсе не взлетела в воздух. Сержант пододвинулся еще ближе.
– Если так, должен был где-то остаться и кусок тела, а об этом Королевский не написал, так же как ни один из вас.
– Было тело или нет? – рявкнул М-ский. – И не крути!
– Только этот кусок платья, – ответил я, довольный, что сбил их с толку.
Однако они на это не клюнули и сразу вернулись к тому же вопросу.
– Большой или маленький, не важно, – заявил директор, – но ты не сказал нам самого важного: где вы его сожгли?
– Недалеко от железнодорожной насыпи.
– Какой насыпи?
– Ну той, по которой не ходят поезда.
– В каком месте?
– Около взорванного моста.
– Опять крутишь! – М-ский угрожающе приблизился. – Взорванных мостов несколько, возле которого из них точно?!
– За брентовским костелом, там, где насыпь пересекает дорогу на Рембехово!
– Хватит! – крикнул М-ский. – Хватит уже врать, твои приятели показывают другое. – И он схватил меня за оба уха одновременно и поднял вверх, так что я левитировал теперь, как Вайзер в подвале заброшенного завода. – Долго вы еще будете врать? Там было не только платье, верно? Где вы закопали останки своей подружки? – спрашивал он, то поднимая меня, то опуская, а я не мог ему ничего ответить и лишь выкрикнул:
– Пустите меня, пустите! – И он наконец меня отпустил, так как у него заболели руки, и отпихнул к стене, где я смог немного отдышаться.
– Давай сюда руку, – проговорил запыхавшийся М-ский, – может, это прочистит тебе память. – И я увидел, как он вынимает из ящика стола кусок резинового шланга, тот самый, который на уроках естествознания служил стражем порядка. – Подойди ближе, – сказал он, но я не двинулся с места. – Ну, поди сюда, – повторил он, поглядывая на директора и сержанта. – Боишься?
Я продолжал стоять у стены.
– Ну так что, – спросил сержант, – скажешь или нет?
– Я уже все сказал, – всхлипнул я, слезы сами потекли у меня из глаз, но вид их только раздразнил М-ского, который подошел ко мне, схватил за руку, раскрыл мою ладонь, как маленькому ребенку, и отмерил пять ударов, звонких, как цоканье лошадиных копыт по асфальту.
– Говори!
– Это было в том самом месте, где мы видели вас над Стрижей!
– Где? – спросил директор.
– Над Стрижей, она там течет под железнодорожной насыпью!
М-ский замер, но только на миг. Его щеки побагровели.
– Иногда я ловлю там бабочек, – объяснил нам всем, – но это не имеет никакого отношения к делу! – Он снова схватил меня за руку, но я успел его опередить.
– Тогда вы были без сачка, – сказал я, – и без коробки для растений!
Резиновый шланг повис в воздухе и не обрушился на раскрытую ладонь. М-ский посмотрел на меня грозно, но с некоторой опаской.
– Ты в этом уверен?
– Да, пан учитель. – И я нахально усмехнулся, так как карты, по крайней мере частично, были открыты, хотя сержант и директор ничего не поняли.
– Хорошо, – сказал М-ский, – мы над этим подумаем, а сейчас перерыв, – это к остальным, – на чай!
Когда я вышел в приемную, впервые ощущая тошнотворный привкус шантажа, смешанный со слезами, сторож вскочил со стула. «Закончили? – бросил он вопросительно сержанту. – Уже все?» «Нет, – ответил тот, – принесите воды в графине, а вы, – это нам, – ни слова!» Сторож с графином исчез, и мы услышали шарканье его шагов в пустом коридоре, а из кабинета приоткрыли дверь, чтобы мы не могли переговариваться между собой. Все, о чем мы говорили, они могли услышать, если бы напрягли слух, но на этот раз мы не упустили шанс.
– Наш-ли возле старого ду-ба, – шептал Ши-мек, – сож-гли в тот же день ве-че-ром в карь-е-ре. В семь ве-че-ра, ис-ка-ли ме-сто со стра-ху, а сейчас пу-та-ем-ся тоже со стра-ху.
Прежде чем сторож вернулся из пахнувшего тишиной и мастикой коридора, мы успели условиться о самом важном. Да, Шимек знал, что говорил, детали придумал хорошие и, самое главное, правдоподобные. Действительно, старый дуб в ложбине был яркой приметой. Если считать, что Эльку разорвало взрывом, обрывок платья вполне мог долететь до дуба Потом мы не знали, что с этим лоскутом делать. А на поляне с эрратическими валунами, то есть в карьере, от которого до ложбины сорок минут ходу, и вправду лесничий разрешал жечь костры. Так что мы пошли туда – разве это странно? – ну и красный лоскут сгорел в огне. Сторож вернулся с графином, полным воды, и на минуту исчез в кабинете.
– Я на-шел у кор-ней, – шептал Шимек, – ты нес в кар-ма-не, – это мне, – а Петр бро-сал в о-гонь. По-том – до-мой.
Сторож был уже с нами, дверь в кабинет была закрыта, и теперь, вспоминая эту сцену, я думаю, что был это самый замечательный сценический шепот, какой я когда-либо слышал. Одно только оставалось неясным – почему на этот раз за водой послали сторожа, а не кого-нибудь из нас? Оставленные без надзора, даже при открытых дверях кабинета, мы могли без труда обо всем договориться, в чем у сидящих в кабинете не могло быть сомнений. Может, они хотели любой ценой завершить следствие? Или это была интрига М-ского? Об М-ском я, во всяком случае, думал все время, пока они долго пили чай, а мы сидели в канцелярии на складных стульях, которые ужасно впивались в зад.
Перед М-ским теперь встала сложная проблема – он наверняка понял, о чем речь. Незаметно игра между нами сменилась игрой между мною и М-ским, и, хотя я так никогда и не рассказал друзьям про мой первый в жизни шантаж, эта игра продолжалась еще долгие годы после окончания школы, и после смерти Петра тоже не закончилась, и даже – как я сейчас думаю, – возможно, продолжается и поныне совсем в другом месте и времени. Когда я закончил школу, М-ский еще преподавал естествознание и оставался заместителем директора по воспитательной части. Позднее, после семидесятого года, когда два государственных мужа подписали договор, который газеты в Германии и Польше назвали историческим, когда много людей выехало навсегда в страну Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, я узнал, что М-ский был среди них. Тогда я просто пожал плечами, однако, как оказалось, рановато. Ибо во время моего визита к Эльке, о котором я написал, что это тоже была игра, только вокруг Вайзера, во время этого визита, под самый его конец, М-ский снова неожиданно возник из небытия, словно ничто не могло произойти без него.
Из большой комнаты внизу, где лежала Элька, я поднялся в спальню. Мои руки больше не были крыльями «Ила», а прочие члены ничем не напоминали его серебристый корпус, задирающий красное платье. Рядом с кроватью стоял маленький переносной телевизор. Я включил его и, не вникая в передачу, совершенно пришибленный, натягивал пижаму Хорста. И тут я увидел на экране лицо М-ского, улыбающееся и толстощекое, отвечающее на вопросы репортера.
– Почему вы так поздно решились вернуться на родину? – спрашивал журналист.
– Ох, это не так просто, – отвечало лицо, – в общих чертах я бы объяснил это политическими причинами.
– Чем вы занимались в Польше?
– Научными исследованиями, – говорило лицо, – а по необходимости также преподавал в школе.
– Почему по необходимости?
– Потому что мои исследования, в которых я подчеркивал исключительность флоры и фауны, – хмурилось лицо, – окружающих Гданьск лесов, эти исследования не получали ни отклика, ни признания.
– По приезде вы опубликовали результаты своей научной работы?
– К сожалению, – на лице появились признаки некоторого нетерпения, – рукопись была конфискована у меня на границе.
– Почему?
– Боюсь, также по причинам политическим, – отвечало без запинки лицо.
– А чем вы занимаетесь сейчас?
– Сейчас, – лицо на минуту задумалось, – сейчас я преподаю в садоводческой школе специальные предметы.
– Продолжаете ли вы сейчас научную работу без помех?
– О да! – Лицо улыбнулось как на рекламе кока-колы. – Безо всяких помех!
– И какие же вы исследования проводите, позвольте спросить?
– Я провожу исследования, – лицо состроило важную мину, – исчезающих видов бабочек в Верхней Баварии.
– Будут ли опубликованы результаты ваших исследований?
– Да, – отвечало лицо, – в самом скором времени!
Я уже хотел выключить телевизор и убрать лицо, по крайней мере на эту ночь, когда на экране появилась фигура канцлера, господина Вилли Брандта. Он выступал в бундестаге, полемизируя с тезисами партии «зеленых». «Вы не знаете даже, – сказал я громко, поскольку в комнате никого не было, – вы даже не знаете, господин канцлер, какого они сейчас приобрели союзника!» – и выключил телевизор, боясь, чтобы с экрана не выскочило вдруг лицо – то самое лицо из прошлого с дорисованными Вайзером усами.
Открытие это пришибло меня окончательно, и, как я уже писал, на следующий день я вернулся в Мюнхен к своему дядюшке, у которого был красивый дом, газон и машина, и ничего больше. Я размышлял о том, почему женщина, выглядевшая как домохозяйка, била М-ского по лицу, и даже сегодня картина эта будит во мне смешанные чувства, ибо если М-ский летом ловит исчезающих бабочек в Нижней или Верхней Баварии, то наверняка встречается там с какой-нибудь баварской домохозяйкой и так же, как над Стрижей, стоит над горным ручьем, который заглушает звук оплеух крепкой немки.
Что было дальше? Да, мы поверили Вайзеру, поверили в его сказочку. Если он не хотел быть ни вождем, ни пиратом, то почему бы ему не стать артистом, выступающим в цирке? Мой сон – так я тогда думал – только подтверждал это предположение: Вайзер как никто другой, казалось, рожден был для укрощения диких зверей. Только зачем ему понадобились пиротехнические эффекты и весь этот арсенал, собранный в подвале заброшенного кирпичного завода? Этого я понять не мог, так как одно с другим имело мало общего. Поэтому я верил, но не до конца, доверял, но не вполне и, ни с кем не делясь своими сомнениями, приходил на очередные взрывы в ложбину за стрельбищем. После каждого такого похода ранка в ноге снова начинала ныть, мать ужасно на меня кричала и еще строже следила, чтобы я никуда из дому не выходил. Об отдельных взрывах я не буду рассказывать второй раз. Они
Прошло довольно много времени, и однажды я увидел на небе первые облака. Их высокие вытянутые в длину перья не предвещали, правда, перемены погоды, но я мог теперь сидеть у окна, подперев подбородок руками, и наблюдать плавные изменения форм на голубом, как аквамарин, своде. Новости Шимек и Петр приносили обычные: в заливе «рыбный суп» стал чуть пожиже и на песке нет больше вонючих груд гниющей дохлятины, но о купании нечего и мечтать. Смельчак, рискнувший сунуть в воду ногу, тут же с отвращением ее выдергивал. По-прежнему много падало чаек, и мусорщики собирали мертвых птиц в большие кучи, издали выглядевшие как снежные сугробы. Их вывозили вместе с рыбой за город и сжигали на общей свалке. Рыбаки из Елиткова обратились к властям с просьбой о компенсации, но никто не обещал им ничего определенного. Зато в Брентове снова объявился Желтокрылый и, как рассказывали люди, продефилировал однажды в нашей ржавой каске вдоль домов, вызвав всеобщее беспокойство. Но его не поймали. Так или иначе, в нашем склепе он уже не спал – верно, нашел себе другое укрытие. А в ложбине по другую сторону насыпи, сразу за кладбищем, появились люди с шестами – они измеряли землю и колючей проволокой разгораживали ее под садово-огородные участки. На огороженные участки приходили уже другие люди и из досок, старой фанеры и толя сколачивали сарайчики и маленькие домики и очень не любили, когда поблизости крутились чужие. Может, потому, что прятали в своих сарайчиках заступы, мотыги и грабли, а может, потому, что просто родились такими – злыми и невежливыми, в чем уверен был Петр.
В Гданьске по Длинному базару пустили исторический трамвай, запряженный двумя лошадьми, и билет на одну поездку стоил целых пятьдесят грошей. Ребята катались на этом трамвае, но без Эльки и Вайзера, которые в тот день куда-то исчезли. Я спрашивал, куда они могли пойти – на аэродром или на кирпичный завод, но, кроме того, что утром у Эльки был при себе тот самый инструмент, под звуки которого танцевал Вайзер, мне ничего не могли сказать. Шимек высказал догадку, что Вайзер готовит какой-то новый номер и, верно, скоро нам его продемонстрирует. Сейчас я знаю, что никакого нового номера Вайзер не готовил, так как никогда не хотел стать цирковым артистом. Но тогда мы в это верили и безмятежно восхищались его арсеналом или, как Петр и Шимек в тот день, ездили по Длинному базару на историческом трамвае за кругленькие пятьдесят грошей в один конец. Кроме того, из колодца Нептуна не брызнуло еще ни капли воды, а пана Коро-тека оштрафовали, потому что на перекрестке, где установили недавно первый в городе светофор, он перешел дорогу, как обычно, по-своему – наискось. Вдобавок обругал милиционеров сопляками, и его чуть не забрали в участок. Еще что-нибудь? Да, на соседней улице, которая называлась улицей Карловича, поставили электрические фонари, а старые газовые пустили на слом. Бар «Лилипут» был закрыт целых три дня после последней драки каменщиков с солдатами, которые без увольнительной по одному выскакивали из близлежащих казарм хлебнуть пива. Новый кинотеатр должен был называться «Факел», и обещали, что там будет широкий экран, – в «Трамвайщике», что возле депо рядом со школой, такого экрана не было.
Вайзер ни разу не навестил меня, пока я сидел дома, когда же я приходил на его взрывы, ни словом не обмолвился о дырке в ноге и о том, что тогда случилось. Время шло для меня медленно и спокойно, как й для всех в нашем районе в то жаркое лето, когда пыль июня и июля и грязь августа ни разу не смыл с листьев долгожданный дождь. Скучая от безделья, я зарисовывал в тетрадь все, что приходило в голову. Один раз это оказался Желтокрылый, стоящий на крыше дома в Старом городе. Прямо за его спиной росли стройные сосны, а над городом и над головами собравшихся на тротуаре людей пролетали самолеты, целыми косяками, как журавли. В другой раз на странице тетради появился Вайзер, пролетающий над заливом на черной пантере, рыбаки падали на колени, а их жены прятали головы от страха. Был там и пан Коротек, кативший через двор огромную, как бочка, бутыль с водкой, из-под которой выскакивали мыши и удирали прямо к ближайшему мусорному ящику. М-ского я нарисовал вместе с ксендзом Дудаком, которому приделал крылья бабочки и поместил в сачок натуралиста как очередной экспонат. Была также одна панорама или, точнее, общий вид: над холмами в направлении аэродрома мчался самолет в форме кадила, все мы сидели внутри, а над городом, заливом и кладбищем вместо солнца сиял большой треугольный глаз, посылающий лучи во все стороны. Мать не любила, когда я сидел сгорбившись над листком, так как вместо цветов или деревьев находила на моих картинках одних уродов. Так, по крайней мере, она их называла, прерывая мое занятие, поскольку меня опять ждала картошка или лапша.
Но однажды – было это, кажется, после пятого взрыва, когда нога уже почти зажила, – в дверь нашей квартиры постучался Шимек. В руках он держал свернутый рулон бумаги.
– Знаешь, что это? – спросил он с порога. – Угадай, быстро!
– Флаг? Публикация о розыске? Объявление?
– Бери выше! – улыбнулся он. – Это афиша!
– А-а-а, – протянул я разочарованно. – И что с того?
Шимек, разворачивая цветной рулон на топчане, не переставал говорить:
– Мне дал его… ну тот, который расклеивает афиши на тумбах, со старым великом, посмотри только, какой класс.
И действительно, я увидел огромную пасть льва рядом с одетой в пестрый купальник женщиной, а внизу надпись: ЦИРК «АРЕНА» ПРИГЛАШАЕТ!!!
– Неплохо, – сказал я. – И что дальше?
– Что дальше? Завтра мы идем в цирк, – выпалил он радостную новость, – не понимаешь?
– А билеты?
– Элька уже поехала покупать, для тебя тоже.
– А деньги?
– О деньгах не волнуйся, когда будут, отдашь!
– Сколько?
– Для взрослых десять, а для нас по пять злотых!
– А откуда у вас столько?
– Сейчас все расскажу. – Шимек отодвинул афишу и уселся на топчан, так как все стулья в комнате были заняты бельем, приготовленным для глажки. – Значит, так. Утром Петр поехал в Гданьск купить в скобяной лавке гвоздей для отца. И увидел на площади цирковые фургоны. Ну и не пошел ни в какой магазин, а выскочил из трамвая на той остановке и все хорошенько рассмотрел – фургон, в котором живет клоун, клетки с хищниками, лошадей, акробатов, видел даже цилиндр фокусника – когда грузчики переносили коробки с вещами, этот цилиндр выпал и покатился по земле, а фокусник, с виду обыкновенный человек, страшно кричал и обзывал грузчиков растяпами. Все это Петр видел и слышал, и еще он видел рабочих, натягивающих тросы огромного шатра, а под конец – как они большими молотками вбивают в землю толстые колья, к которым крепятся растяжки. Потом вспомнил про гвозди для отца, купил все, что нужно, и приехал с новостью к нам. И через полчаса, ну, может, через час, на нашей тумбе появилось вот это. – Шимек погладил рукой яркую афишу.
– А деньги, откуда вы взяли деньги?
– А, это вышло чудно, – продолжал он, – мы стояли рядом с тумбой и пялились, как расклейщик намазывает клеем бумагу и приклеивает, а потом снова мажет и снова приклеивает, он почти всю тумбу облепил этими афишами, а мы стояли и обсуждали: как было бы классно – пойти в цирк, если бы были деньги, я бы, пожалуй, раздобыл на билет и Петр тоже, а вот Элька вряд ли, Вайзер – не знаю, ну и ты… и тут подошел пан Коротек, совершенно трезвый, и он слышал наш разговор. «Ну так сколько вас штук?» – спросил. «Пять», – ответили мы, и тогда он вынул кошелек и дал нам целых тридцать злотых. «Вот вам, – говорит, – а когда продадите бутылки, можете мне отдать, – говорит, – но не обязательно». Элька поехала за билетами и должна купить на завтра, сегодня выступлений еще не будет, ну, здорово, да? – закончил он рассказ и свернул афишу в рулон. – Повешу у себя над кроватью, – добавил, – если мать не выбросит, а то там баба почти голая.
Шимек ушел очень довольный, а моя мать, которая слышала часть разговора, сказала, что пять злотых на билет в цирк даст мне очень охотно и нет нужды – так и сказала – пользоваться великодушием пана Коротека.
На следующий день с утра время тянулось невыносимо – представление, на которое у нас были билеты, начиналось в шестнадцать часов. Рано утром я вышел из дому, чтобы посмотреть на афиши, налепленные на бетонном кругляке. Тумба выглядела восхитительно: от самой земли и доверху по всей окружности на ней красовались одинаковые львиные пасти и одинаковые женщины в купальниках. Привыкший к серости тумбы, на которой вот уже несколько месяцев не появлялось ничего нового и остатки старых афиш перемежались с похабными надписями и прошлогодним указом о призыве в армию, я стоял как завороженный и думал, будет ли лев, которого я увижу в цирке, таким же грозным, как этот, на афише, с огромной разинутой пастью и двумя рядами больших сверкающих зубов. Вдруг я почувствовал легкий толчок в бок.
– Можешь уже ходить? – Это был голос Вайзера. – Не опухает нога?
– Нет, – ответил я, – не опухает и уже не болит, а что? – В этом «а что?» скрывалась, разумеется, надежда услышать что-то новенькое, ведь если Вайзер подошел ко мне сзади и задал вопрос, значит, он что-то замыслил, так я думал.
– Тогда пошли, – сказал он, – посмотришь, как я ловлю ужей.
– А зачем тебе ужи? – спросил я. – Дрессировать?
Вайзер пожал плечами.
– Не хочешь, не ходи, я просто думал, ты захочешь посмотреть, как я это делаю, – говорил он медленно, равнодушным тоном.
Мне хотелось посмотреть, как он будет ловить ужей, но хотелось также знать, для чего они ему нужны. Мы двинулись вниз по улице, и только тогда я спросил еще раз:
– Но зачем они тебе?
– Увидишь, все увидишь, – сказал он. – Это для них мешок, а палку найдем в лесу.
Мы миновали ряд маленьких почти одинаковых домов со скошенными крышами, в которых полукруглые окошки мансард выглядели как выключенные автомобильные фары. Вайзер замолчал и за всю дорогу, пока мы поднимались по тропинке между лиственницами, не сказал ни слова. Через десять минут, запыхавшиеся, мы стояли на холме, откуда с одной стороны видны были аэродром и залив, а на юге далеко внизу маячили контуры Брентова и пригорок, за которым находилось стрельбище.
– Идем туда, – сказал он, показывая рукой в южную сторону, где разгораживали садовые участки.
Теперь мы спускались в ложбину по склону почти как на лыжах – то влево, то вправо, крутыми зигзагами, чтобы не слишком разгоняться. В нос ударяли поочередно разные запахи, аромат отцветшего люпина смешивался с запахом клевера, а прохладный запах мяты – с острым ароматом дикого чабреца.
– Скажи, ты будешь их продавать? Или отнесешь М-скому? Ему что – нужно много ужей, одного мало? – зачастил я, как только мы остановились в ложбине, той самой, которая своим краем, отсюда не видным, прилегала к кладбищу и насыпи, по которой не ходили поезда. Но Вайзер не отвечал. Он отыскал метровую палку с развилкой на конце, такую же, как у змееловов в Бещадах, а потом обратился ко мне:
– Видишь вон те заросли?
Я кивнул.
– Там их больше всего, иди и пошебурши в кустах, чтобы вспугнуть их. Но легонько, не слишком сильно, – добавил он, – чтобы не побежали все сразу, понял?
Задание было нетрудным. Я медленно шел вдоль полосы зарослей и палкой шевелил высокую траву, крапиву, низкорослую малину, черный дрок и папоротник. Ужи поначалу медленно, потом все быстрее выскальзывали из-под моих ног и неслись в сторону Вайзера, а он ловко останавливал их своей палкой, затем осторожно брал двумя пальцами и опускал в холщовый мешок.
– Еще разок, – сказал он, когда я закончил. – Никогда ведь не вспугнуть всех разом!
Я повторил все точно так же, и, к моему удивлению, убегающих ужей было не намного меньше, чем в предыдущий раз. Вайзер завязал мешок большим крепким узлом.
– Отлично, – сказал он, – теперь пройдем через эти чертовы участки и отнесем их на другую сторону. – «Чертовы участки» – так и сказал, я помню очень хорошо, потому что Вайзер никогда не говорил слишком много и все можно было запомнить до единого слова. – Чертовы участки, – повторил он еще раз, когда мы проходили мимо работающих там людей, которые с завидным упорством вскапывали сухую, как в пустыне, землю и с еще большим упорством сколачивали из досок и дырявой фанеры свои будки, называемые домиками, на которых неизвестно для чего сразу же рисовали улыбающихся гномов, заплутавших косуль или маргаритки с девичьими личиками, что выглядело отвратительно и даже непристойно.
– Что несете, мальцы? – окликнул нас вспотевший толстяк, поднимая голову от мотыги. – Чего здесь ищете?
– Да ничего, – ответил я первым, – траву для кроликов рвем, здесь самая высокая.
Вайзер чуть замедлил шаг, но не остановился и даже не посмотрел на толстяка, и я двинулся за ним, глядя на мешок, который покачивался в такт его мерным шагам.
– В другой раз, – крикнул вслед толстяк, – ищите траву подальше отсюда, и чтоб я вас здесь больше не видел, понятно? Это теперь не ничейная земля. – Толстяк кричал еще что-то, но мы были уже далеко и тропкой спустились к насыпи.
– Неплохо придумал, – сказал Вайзер, – на тебя можно положиться.
Я чуть не лопнул от гордости и не успел оглянуться, как мы были уже на кладбище, в его верхней части, где Вайзер остановил меня движением руки.
– Выпустим их здесь, – сказал он, развязывая мешок. – Тут им уже ничего не угрожает.
Я увидел, как из открытого мешка выползают ужи, одни быстро, другие, наверно, более перепуганные, слишком медленно, так что Вайзер вынужден был подталкивать их рукой. Ужи расползлись между надгробиями. Серо-бурые зигзаги проворно шмыгнули в густые заросли крапивы и лебеды, и через минуту в поле нашего зрения не было ни одного ужа. «Ни одного» – написал я, хотя это неправда. Я вдруг увидел на надгробной плите длинное тельце ужа в солнечных бликах, проникающих сюда сквозь буковые кроны, как сквозь зеленые стеклышки витража в нашем костеле во время обедни. Уж был метр с лишним длиной, почти не шевелился и как бы в поисках света поднимал только голову, через минуту опуская ее обратно на каменную плиту. Как только солнечный луч попадал на плиту, симметричные желтые пятна на мордочке светлели. «Смотри, – шепнул я Вайзеру, – он совсем нас не боится». И действительно, когда я протянул руку к ужу и коснулся его холодной приплюснутой головы, – ощущение было такое, словно я дотронулся до собачьего носа, – уж не убежал, а лишь отступил немного. Только через минуту он отвернул от нас свою мордочку и исчез в ближайших зарослях папоротника, чуть заколыхавшихся от движения его тела.
– Тут что-то написано, – обратился я к Вайзеру. – Можешь прочитать?
Он склонился над плитой и прочел:
–
– Одиннадцати лет помер, – сказал я, – в нашем возрасте.
– Нет, он родился не в двадцать пятом, а в двадцать девятом. – Вайзер приблизил лицо к надписи. – Посмотри, это не пятерка, а девятка.
– Ты так говоришь, как будто знал его. – Первый раз я спорил с Вайзером. – Никакая не девятка, а пятерка, значит, он родился в двадцать пятом, и, когда умер, ему было одиннадцать!
– Все равно мы не знаем, кто это был, – отрезал Вайзер, а когда мы возвращались домой, сказал еще, что люди с участков ужей убивают – не могут отличить ужа от змеи и, как только заметят что-то ползущее, сразу сбегаются и колотят ужа мотыгами и граблями, поэтому надо их перенести на старое кладбище или на поляну, туда, где валуны, тогда, может, часть из них уцелеет.
Да, Вайзер был прав, уже в следующем году, когда участки заняли всю ложбину за кладбищем, по другую сторону насыпи, и когда вместо высокой травы там появились первые грядки моркови, гороха и цветной капусты, ужа можно было встретить чрезвычайно редко, чаще в виде гниющих останков, вокруг которых деловито суетились муравьи. А через три или четыре года их уже не осталось нигде – ни на участках, ни около старого кладбища, ни на поляне, называемой карьером, куда переносил их в холщовом мешке Вайзер. Я так и не понял до конца, зачем он это делал. Наверняка это не было увлечение исследователя типа М-ского, но и его собственные объяснения поныне не кажутся мне убедительными. Также никогда я не узнал, кем был похороненный в 1936 году Хорст Меллер, на чьем надгробии уж позволил мне до себя дотронуться. Уверен я только в том, что Вайзер при эвакуации ужей ни разу не воспользовался помощью Шимека или Петра, а тогда, в тот день, когда мы должны были идти в цирк, взял меня с собой скорее всего случайно, вероятно под влиянием минутного порыва. А может, он считал, что ужи – это занятие не для всякого?
М-ский вышел из кабинета, стал в открытых дверях, посмотрел сначала на меня, потом на Шимека и Петра, наконец на стенные часы и сказал: «Хватит!» Он смотрел на наши лица, словно надеясь прочитать на них собственные мысли.
– Хватит! – повторил он после длинной паузы. – Хватит глупостей! У вас есть последний шанс, и, если вы им не воспользуетесь, вами займется прокурор и милиция! Поняли?
Ответа не было.
– Королевский! – прозвучала фамилия Шимека. – Ты первый!
Я мысленно повторял детали, касающиеся мнимых похорон, но, когда за Шимеком захлопнулась дверь, не был уверен, все ли я запомнил как следует. Всерьез ли угрожал М-ский? Сомневаюсь в этом даже сегодня, но если даже так, тогда мы вовсе не испугались. Ибо что еще нас могло испугать? Часы показывали половину двенадцатого, за окнами в темноте капли барабанили по жестяному карнизу, а те, в кабинете, кажется, тоже были уже сыты по горло. Сколько можно выпытывать одно и то же?
Представление в цирке началось прекрасно. Оркестр из нескольких духовых инструментов и огромного барабана заиграл туш, и в ту же минуту на арену выбежал конферансье в зеленом фраке и белой рубашке, украшенной на груди и на рукавах чем-то пышным и кружевным. Он объявил первый номер, однако, прежде чем он закончил, к нему сзади подошел сморщенный карлик в шапочке гнома и потянул его за полу фрака. Из-под фрака выпорхнул голубь, а конферансье, не оборачиваясь, лягнул карлика, как лошадь, и тот, скорчившись и что-то выкрикивая, умчался за кулисы, на ходу выделывая кульбиты. Ураган аплодисментов и лавина смеха провожали его, а на арену уже выбежали акробаты. Сначала они прошли по кругу, демонстрируя свои мускулы, огромные, как тыквы. Потом выстроились шеренгой по росту и стали запрыгивать один на другого, пока не получилась многоэтажная пирамида. Самый маленький, на самом верху, вытворял разные штуки: стоял на руках, на одной ноге, подпрыгивал в воздух и, сделав сальто, снова приземлялся на голову своего партнера.
– Это оберман, – шепнул Вайзер Эльке, но так, чтобы мы тоже слышали.
– Что? – не понял Шимек.
– Оберман, – повторила Элька. – Этот, в самом низу, называется унтерман, в серединке – миттельман, а тот, что сейчас прыгает, это и есть оберман – самый высший и самый главный!
– Не самый высший, а самый верхний, – шепнул Петр, но на дальнейшие споры времени не было, так как оберман, сделав последнее, двойное, сальто, спрыгнул на песок рядом с унтерманом, миттельман спрыгнул сразу же вслед за ним, и теперь вся троица кланялась на все стороны.
Мужчина в зеленом фраке снова вышел на арену и объявил парад лошадей и выступление наездницы. У выхода за кулисы его ждал карлик с натянутым тросом – это была ловушка, приготовленная для конферансье, но вместо него, споткнувшись о трос, перевернулся лилипут – и тут же поскакал лягушкой за уходящим конферансье.
После конских султанов, пестрых лент на ногах у лошадей, падений, взлетов и прыжков, а также после выступления пары акробатов в обтягивающих трико «зеленый фрак» объявил иллюзиониста, и все стали искать взглядом смешного карлика, любопытствуя, что он придумает на этот раз. Вдруг конферансье схватился за живот, ужасно скривил физиономию, и тромбон в оркестре издал звук, похожий на громкое пуканье. Тогда из-под оттопыренной – чего никто раньше не заметил – полы фрака выпал под барабанную дробь свернувшийся клубком гном. Все корчились от смеха, когда же конферансье вызвал клоунов для уборки и те, затыкая носы, стали пинать этот клубок, словно попавший под ноги мяч, зрительный зал уже выл и безумствовал, тем более что конферансье уходил раскорячившись, будто наложил полные штаны. Только Вайзер не смеялся, словно его это совершенно не забавляло.
Шимек, сидевший до сих пор неподвижно, достал из-за пазухи бинокль. «Смотри внимательно, – напомнил Петр, – особенно на руки и рукава». Фокусник был, как и конферансье, во фраке, только в черном, на голове у него был, разумеется, цилиндр, на ногах – блестящие как зеркало черные лаковые туфли, и все свои фокусы он проделывал в белых перчатках. Вначале ассистентка подала ему зонтик. В мгновение ока зонтик превратился в длинную удочку с самой настоящей катушкой, леской и крючком на конце. Фокусник приложил палец к губам и потребовал полной тишины – известно, рыба не любит шума. Потом наклонился, словно бы над водой, подсек, и на крючке затрепыхалась, сверкая чешуей, живая рыбка, к тому же золотая. Петр не выдержал: «Ну, видишь что-нибудь, заметил, как он это сделал? – тряс он Шимека за плечо. – Дай посмотреть разок!» Но Шимек нервно крутил колесико и не отзывался. Рыбка отправилась в аквариум, установленный ассистенткой на столике. Видно было, что она живая и плавает, как любая рыбка в нормальном аквариуме. Фокусник сделал несколько подсечек, и всякий раз происходило одно и то же: неизвестно откуда, словно из воздуха, на крючке появлялась очередная рыбка, такая же живая и так же бойко плавающая в аквариуме.
Фокусник отложил удочку и снял цилиндр. «Вот, – лихорадочно прошептал Петр, – теперь следи!» Фокусник вытащил из цилиндра длинную, в несколько метров, связку цветных платочков, потом встряхнул их – они превратились в один большой платок – и быстрым движением накрыл им аквариум с золотыми рыбками. Удочку он двумя движениями превратил в короткую волшебную палочку и коснулся ею накрытого аквариума. Под аккомпанемент барабана и тарелок женщина подняла платок. Вместо рыбок и стеклянного ящика с водой на столике сидел белый кролик, растерянно стригущий ушами, явно перепуганный бурей аплодисментов. «Ничего не понимаю, – сказал Шимек, перекрикивая шум, – ничего не удается заметить!»
Я посмотрел на Вайзера, но тот, похоже, вовсе не разделял ажиотажа Шимека и Петра. Он сидел выпрямившись, устремив взгляд в неопределенную точку арены, как будто все это представление немного наскучило ему и сидел он тут больше из вежливости, а не потому, что ему было интересно. В антракте Элька с Петром пошли в буфет за лимонадом, а я сидел рядом с ним и не осмеливался о чем-либо спросить, хотя цирковое ремесло было ему известно во всех деталях. Оркестр вдохновенно играл без перерыва марши и вальсы, люди проходили между рядами, обмениваясь поклонами или краткими «простите», а на арене резвились два клоуна, пиная один другого в зад, награждая друг друга оплеухами и обливая из ведра водой. Я подумал тогда, что Вайзер хотел бы, наверно, оказаться там, на арене, в каком-нибудь сногсшибательном костюме, показывать эффектные номера и кланяться публике, срывая, как эти клоуны, аплодисменты. Так я подумал, глядя на его сосредоточенное, торжественно-отстраненное лицо, на котором явно отпечаталось сознание: «я бы это сделал лучше» – сознание, знакомое всем непризнанным художникам. Так я думал тогда и еще долго после, но сегодня – когда дошел до этого момента в его истории, – сегодня я вынужден признать, что ошибался, в частности, из-за происшествия, которое случилось во второй части представления. Речь, естественно, идет о том, что произошло во время выступления дрессировщика львов, а также о том, как Вайзер тогда себя повел. Ибо после антракта во время каждого номера я внимательно наблюдал за ним, видел его лицо, руки и пальцы, которые сегодня говорят мне нечто иное, чем тогда, когда Шимек, Петр, а может, и Элька верили, что он хочет стать цирковым артистом. Вайзер смотрел на арену очень спокойно, аплодировал вяло, без энтузиазма, и уж меньше всего его увлекали примитивные трюки карлика и «зеленого фрака» в перерывах между номерами. Так же было во время выступления слонов, пожирателя огня, акробатов с обручами, собак, игравших в баскетбол, гимнастов на трапеции и даже во время второго выступления фокусника, который наколдовал из воздуха кучу всякой всячины: бутылку с молоком, пищащий шарик, огромный букет цветов, парочку голубей, кролика, а из цилиндра извлек бутылку шампанского и два бокала, чтобы в завершение эффектно выстрелить пробкой и угостить пенящимся напитком ассистентку на глазах у восхищенной публики, наблюдающей, как пробка в полете неожиданно превращается в голубя. Вайзер ни разу не пошевелился, в то время как все вытягивали шеи, подскакивали от восторга и громко комментировали номера. Когда в финале представления «зеленый фрак» объявил гвоздь программы – дрессированных зверей, Вайзер только еще больше напрягся и сплел пальцы обеих рук на колене в нетерпеливом ожидании.
По зарешеченному туннелю в клетку, обрамляющую арену, вбежали два льва, львица и черная пантера, такая же, какую мы видели в оливском зоопарке. За ними появился укротитель в высоких сапогах и белой рубашке со стоячим воротником. В руках он держал хлыст, чуть покороче, чем для лошадей. Его жена, как сообщил «зеленый фрак», и ассистентка в одном лице была в обтягивающем костюме с нашитыми блестками и тоже в высоких сапогах, но белых и с бахромой на голенищах. Звери жмурили глаза, кружа по середине арены будто бы в нерешительности.
– Герман! Брут! – крикнул дрессировщик. – На место! – И львы, не торопясь, вскочили на круглые табуреты. – Хельга! – это относилось к львице. – На место! – И львица ловко вспрыгнула на свое сиденье. Теперь пришла очередь черной пантеры. – Сильвия! На место! – И пантера так же, как львы, одним прыжком очутилась на обозначенном табурете. Мужчина обвел зверей пристальным взглядом. – Герман! Брут! Стойка! – И львы поднялись на задних лапах, показывая грудь. – Хельга! Сильвия! Стойка! – Обе огромные кошки одновременно выполнили приказ, и вся четверка стояла теперь на задних лапах, опираясь на зады, совсем как собака в ожидании куска колбасы. Дрессировщик поклонился публике, и в ответ загремели аплодисменты, а звери вернулись в прежнюю позицию. Укротитель приблизился к ним, слегка щелкнул хлыстом и, когда ассистентка приготовила еще одно пустое сиденье, крикнул: – Герман, хоп! – И Герман прыгнул со своего табурета на этот второй, свободный. – Брут, хоп! – прозвучала следующая команда. И Брут, как и его предшественник, проделал то же самое, заняв освободившийся табурет Германа. – Хельга, хоп! – крикнул дрессировщик, но неизвестно почему Хельга медлила и явно не желала прыгать. – Хельга, хоп! – прозвучало повторно, но только после третьего приказа, подкрепленного звучным щелканьем хлыста, Хельга подчинилась. Пантера же, не дожидаясь команды, перескочила сама, как только освободился табурет, занятый минуту назад львицей. Аплодисменты загремели еще до поклона дрессировщика, а тот подошел к Сильвии и погладил по морде свободно свисающим концом хлыста. – Хорошая Сильвия, – сказал он громко, – послушная Сильвия, – повторял он, поглаживая ее пышные усы. Пантера в ответ приподняла голову и хрипло замурлыкала, это тоже понравилось зрителям, и нежная ласка была награждена новым всплеском аплодисментов.
Женщина приготовила большой кожаный мяч. «Герман, хоп!» – и Герман вспрыгнул на мяч, прокатил его несколько метров, перебирая лапами, после чего вернулся на свое место, смешно потряхивая головой, будто кивая. То же самое сделал Брут и потом Хельга, а пантера, снова без принуждения, завершила номер, оставив мяч на противоположном краю арены. Аплодисменты были еще сильнее, однако когда я посмотрел на Вайзера, то увидел, что он не хлопает в ладоши, а только барабанит пальцами по колену. Ассистентка между тем принесла обруч, обклеенный чем-то похожим на бумагу, и подожгла, чиркнув спичкой. По скамьям прокатился возбужденный гул.
– Герман, хоп! – крикнул укротитель и щелкнул в воздухе хлыстом. Лев произвел великолепный прыжок через пылающий обруч и остался на другой стороне арены, вдали от своего табурета. – Брут, хоп! – Снова щелкнул хлыст, и великолепный прыжок, выполненный огромным котом, привел зрителей в восторг. – Хельга, хоп! Сильвия, хоп! – И обе самки оказались рядом со львами. Номер был повторен в обратную сторону – звери прыгали в середину огненного круга и опускались теперь на свои табуреты, а женщина, на костюме которой сверкали и вспыхивали огоньками блестки, соответственно перемещала обруч. Снова вся четверка сидела на табуретах, укротитель поклонился и был награжден очередной порцией аплодисментов.
И тогда случилось то, чего никто не мог даже предположить. Ассистентка, резко взмахнув обручем, погасила пламя и, повернувшись спиной к зверям, направилась за следующим реквизитом – это были качели из доски, ожидающие своей очереди у прутьев клетки. Женщина сделала два, может, три шага и оступилась на песке, попав ногой в ямку. Пантера будто только этого и ждала: молниеносный прыжок в сторону ассистентки, и на арену упали почти одновременно – сначала жена укротителя, а за ней, ударив ее передней лапой по голове, черная кошка. Раздались жуткие звуки: двойное шлеп-шлеп и короткий горловой возглас женщины, и затем – абсолютная тишина. Никто из публики даже не шелохнулся, все замерли в безмолвном тупом ожидании.
– Сильвия! – Укротитель сделал шаг к ней. – Сильвия, на место!
Но пантера, вместо того чтобы отступить к табурету, рванула тело женщины где-то на уровне лопаток, словно шантажировала укротителя, говоря: не тронь, это мое! Львы беспокойно зашевелились на своих табуретах. Брут переступил с ноги на ногу, а Хельга издала протяжный глубокий рык. Из-за кулис вышли два помощника с огнетушителем, но укротитель остановил их жестом, так как в эту минуту женщина шевельнулась, и тогда Сильвия, гневно зашипев, ударила свою повелительницу по пояснице, сдирая костюм когтями. На песок посыпались сверкающие блестки, а из обнаженной ягодицы красными струйками потекла кровь. Кто-то на верхних скамьях зарыдал, но его сразу же утихомирили.
Вайзер сидел выпрямившись, неподвижно застыв, и только пальцы все так же барабанили по колену. Господи, думал я, пусть он туда сойдет, пусть покажет, что он может, ведь он может, пусть посмотрит ей в глаза так же, как тогда, в зоопарке, пусть ее укротит, заставит подчиниться, подавит ее бунт, пусть покорит, как ту, в клетке, превратит в испуганную собаку, маленькую крысоловку, пусть сделает это, пока не поздно.
Герман спрыгнул с табурета и задрал морду, почуяв возбуждающий запах крови. Укротитель дал знак оркестру. Музыканты негромко заиграли уход с арены. Львы беспокойно зашевелились. «Герман! Брут! Хельга! Сюда! Сюда! – повторял дрессировщик. – Сюда! Сюда! – Львы, хотя и неохотно, направились к туннелю. – Сюда! Сюда!» И медленно, словно сонные, они проходили в арку, и наконец помощник опустил за ними заслонку.
Теперь укротитель остался один на один с пантерой, передние лапы которой покоились на неподвижном теле женщины, а хвост беспокойно хлестал по песку.
– Сильвия, – заговорил укротитель тихо, – хорошая Сильвия, на место, Сильвия! – Но пантера, сознавая свое преимущество, предостерегающе заворчала. Ее глаза следили за каждым движением мужчины. – Сильвия! – Он сделал шаг вперед. – На место!
Сильвия, однако, не желала отказываться от добычи, она издала глубокое рычание и угрожающе подняла лапу. Пальцы Вайзера продолжали барабанить по колену, а я впервые разозлился на него и, если бы не ужас происходящего, заорал бы и набросился на него с кулаками. Почему он не сдвинулся с места, почему не сбежал вниз, почему не показал свои способности сейчас, когда красная лужа на песке становилась все больше, почему сидел спокойно, как во время выступления наездницы или дурацких клоунов? Господи, думал я, сделай что-нибудь, чтобы он пошевелился, только подтолкни его, остальное он сделает сам, он умеет это прекрасно, только заставь его, заставь, но Вайзер сидел неподвижно, с головой каменного изваяния, с лицом изваяния, с ногами изваяния, и только его пальцы бесконечно долго выбивали один и тот же ритм на три четверти.
Укротитель выглядел беспомощным. Он не мог шагнуть ни вперед, ни назад, стоял как загипнотизированный и все тише повторял одно и то же: «На место! Хорошая Сильвия, на место!» И было это еще страшнее, чем возможный прыжок пантеры. Один из помощников медленно, чтобы не привлекать к себе внимание, обходил клетку с наружной стороны барьера с огнетушителем под мышкой, другой вышел из-за кулис с духовым ружьем, готовый выстрелить, и оба крадучись приближались к пантере. Я не знал тогда, что в огнетушителе одурманивающая пена, а ружье стреляет капсулами с наркотиком. Помощники выглядели как мальчишки, наступающие с деревянным мечом и пращой на африканского буйвола, – смешно и нелепо. Пантера тронула женщину, хотя не очень решительно. Мужчина с огнетушителем, опустившись на одно колено, изогнулся как для выстрела и пустил мощную струю прямо в морду зверя. Пантера подпрыгнула. Струя отбросила ее голову назад, но лапы, толстые лапы еще секунду оставались на месте, и, наверное, поэтому, прежде чем бросить свою добычу, она проволокла ее с метр или два по песку и только потом, рыча и сокрушая лапой невидимого противника, забилась под барьер. Выпущенная из ружья капсула настигла ее: пантера упала на арену, подергавшись еще с минуту в эпилептическом танце. Укротитель уже подбежал к жене, схватил ее на руки и унес за кулисы. Три помощника втащили пантеру на брезентовое полотнище и поволокли к другому выходу.
И это был конец представления. Я плакал. Мне жаль было красивую женщину и ее прелестный костюм с блестками, но еще больше меня раздосадовал Вайзер. Потому что я понял: или он не всесилен, или не захотел помочь. Похоже было, однако, что не захотел помочь, и это было ужасно. Он не побежал вниз, не протиснулся через узкий проход и не стал лицом к лицу с черной пантерой. Ошеломленная публика не обезумела от ужаса, а потом от радости, оттого что мальчик подходит на расстояние вытянутой руки к хищнику и укрощает его взглядом, более сильным, чем все ружья и пенные струи, вместе взятые. Нет, ничего подобного не случилось, так как Вайзер посчитал, что не стоит этого делать ради жены укротителя, одетой в обтягивающий костюм, обшитый блестками. А ради кого он это сделал бы? Может, ради Эльки, думал я, – а ради кого-нибудь из нас? Если бы он сделал то, что должен был сделать, его самого – не говоря уж о спасении ассистентки – ждала бы щедрая награда: слава, признание, а может, даже немедленный прием в цирк, а потом путешествия, выступления и еще большая слава – уже за пределами нашего города и даже нашей страны. Вена и Париж, Берлин и Москва – все города у ног одиннадцатилетнего покорителя диких зверей, который обходится без хлыста и дрессировки. Крупные заголовки в газетах и огромные толпы в зале. А он отверг все это и лишь барабанил пальцами по колену: раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Сегодня я знаю, что был не прав: ведь Вайзер никогда не хотел стать цирковым артистом. Тот, кто левитирует и стреляет в канцлера Третьего рейха, не может выступать в цирке. Нет, эта фраза нелогична. Если я не вычеркиваю ее, то лишь потому, что все в этой истории кажется нелогичным. Так что пусть остается.
На следующий день, естественно, мы поехали к цирковому шатру разузнать, жива ли жена укротителя. Нас также очень интересовало, что с пантерой. Но мы услыхали только, что женщина в больнице, а номер с дрессированными хищниками будет показываться без участия черной пантеры. Еще неизвестно, сказала кассирша, что с ней сделают, может, через несколько дней начнет выступать снова, а может, цирк продаст ее в зоологический сад. Потом мы два часа болтались по Старому городу, но за неимением денег и каких-либо развлечений поплелись обратно домой. Проходя мимо афишной тумбы на нашей улице, мы увидели Вайзера, идущего нам навстречу с холщовым мешком под мышкой. Он возвращался из леса – наверняка снова ловил ужей и переносил их к кладбищу или на карьер. Эльки поблизости не было. «Что делаем сегодня? – спросил у него Шимек. – Есть какие-нибудь планы?» – «Сегодня мне некогда. – Вайзер, похоже, был застигнут врасплох. – Приходите завтра в ложбину за стрельбищем, будет взрыв». Мы пошли не домой, а прямо к прусским казармам, но на лужайке в облаках едкой пыли человек двадцать армейских гоняли мяч, и нам там нечего было делать. После обеда мы отправились на кладбище через Буковую горку, чтобы заглянуть в склеп и, может быть, поиграть в войну, хотя это предложение ни у кого не вызвало энтузиазма. Вайзер – как я узнал теперь от Петра, – пока я сидел дома с распухшей ногой, два раза отказывался одолжить им для игры обшарпанный парабеллум, а о «шмайсере» даже говорить не хотел. Бегать с палкой и кричать «та-та-та-тах» – это уже совсем не то, если ты хоть разок держал в руках настоящее оружие. Но с ним невозможно было спорить, если он отказал, это уже бесповоротно. Шимек пинал сосновые шишки, которых на дороге было навалом, а я мял во рту длинную травинку с пушистой кисточкой на конце. Позади уже осталось взгорье, и из-за поворота плавно спускающейся дороги виден был край кладбища. С той стороны все надгробия были разбиты, а ржавые кресты, заросшие пыреем, травой и крапивой, напоминали мачты затонувших кораблей. Когда мы миновали надгробие Хорста Меллера и спускались дальше вниз, уже по кладбищу, неожиданно загудели колокола.
– Желтокрылый! – крикнули мы почти одновременно, а Шимек, самый прыткий, бросил, словно приказ:
– В склеп, снова за ним будет погоня!
Это была не лучшая идея, так как, даже взобравшись на склеп, нельзя было увидеть, что происходит возле колокольни. Но мы мчались, будто гонятся за нами, а не за безумцем, который убежал от санитаров и прятался где-то поблизости. Минуты три эхо колоколов отражалось от стены леса, потом наступила тишина. «Там уже кто-то есть, – прошептал Петр, – наверно, за ним гонятся!» И действительно, через минуту среди трескуче раздвигаемых и ломающихся веток мы увидели Желтокрылого, бегущего в нашу сторону. Он запомнил склеп, однако, приблизившись на расстояние нескольких шагов и увидев три пары уставившихся на него глаз, драпанул в сторону насыпи, где кончалось кладбище и начиналась ложбина с первыми садовыми участками. Должно быть, он не узнал нас, поглощенный бегством от преследователей, а может, перепугался, во всяком случае, вместо того чтобы нырнуть вглубь склепа, где его не нашел бы даже отряд милиции или санитаров, побежал дальше, преследуемый хромым причетником и еще каким-то мужчиной, который не был ксендзом и которого никогда прежде мы не видели. Фонтаны песка летели из-под ног Желтокрылого. Трава склоняла перед ним свои стебельки, а кусты раздвигались сами, чтобы облегчить ему бегство.
Одного он только не предвидел, не знал или попросту об этом забыл – что ложбина уже не та прежняя ложбина, заросшая высокой, по колени, травой, дикой пшеницей, терновником, где в солнечные дни бесшумно ползали ужи, а куропатки вышмыгивали из-под ног, словно крылатые снаряды. Он наткнулся на первую же колючую проволоку, упал, встал, раздвинул ее руками и побежал дальше, но людишки с мотыгами, граблями, заступами, людишки с досками и кистями в руках уже увидели его – как он бежит, оглядываясь назад, уже почуяли собачьим нюхом радостную музыку своих сердец и уже спешили со всех сторон, чтобы загородить ему путь и поймать в сеть с гнусным удовлетворением в глазах. Мы побежали следом за причетником и незнакомым мужчиной, чтобы увидеть, как будут развиваться события. Желтокрылый заметил приближающиеся фигуры, на миг замер и побежал назад, прямо на причетника. Сопровождающий причетника мужчина, надо признать, очень профессионально в нужный момент подставил ногу, и Желтокрылый рухнул как подкошенный прямо под ноги причетнику. Если бы он тогда сразу вскочил и побежал в нашу сторону – был бы спасен, но все случилось иначе. Поднимался Желтокрылый медленно. Мужчина успел прыгнуть ему на спину, и они сцепились, как бешеные псы, но через минуту Желтокрылому удалось отскочить. Он снова побежал – но, на свою беду, прямо на огородников, которые успели уже образовать широкий полукруг и сжимали теперь клещи облавы.
И тогда мы увидели Желтокрылого совершенно в другой ипостаси. Он уже не убегал, а стоял посреди замкнувшегося круга, слегка наклонив голову, словно борец, и ждал неподвижно. Преследователи остановились, не зная, что делать дальше.
– Кто-нибудь быстро в приход, к телефону! – закричал причетник. – Нужно позвонить в милицию или в больницу!
Толстяк, тот самый, что прицепился к нам с Вайзером, когда мы несли ужей, отложил мотыгу и двинулся в сторону кладбища. В тот же момент двое самых храбрых огородников приблизились к Желтокрылому.
– Спокойно, – говорил первый, – ничего тебе не будет.
– Да-да, – подтвердил второй, – ничего не будет, если дашь себя отвести!
Но Желтокрылый был на этот счет другого мнения. Он бросился на них молниеносным прыжком, у одного выхватил палку, а другого свалил ударом локтя в живот. Оба поспешно отступили, и Желтокрылый стоял теперь как самурай посреди окруживших его врагов и с поднятой палкой в руках выглядел величественно и прекрасно.
– Опасный псих, – сказал кто-то из мужчин, – подождем, пока приедет милиция.
– Мало, что ли, нас, – возмутился другой, – на одного психа?
И тогда мы увидели самую красивую часть зрелища – ведь все это было как зрелище: взрослые мужчины в возрасте наших отцов с мотыгами и граблями, а в центре – Желтокрылый как герой легенды или романа. Мужчины подходили все ближе, и Желтокрылый стал в позицию, расставив ноги.
– Он, наверно, когда-то был фехтовальщиком, – определил Шимек, поднимая голову. – О, смотрите!
Да, Желтокрылый умел не только грозить гибелью Земле и ее обитателям, в драке палками он оказался на несколько классов выше своих врагов. Он подпрыгивал, вертелся во все стороны, молниеносно парировал удары, обрушивая в ответ свои, довольно меткие. Треск сломанных черенков смешивался с криками нападающих, в какой-то момент показалось, что их взяла, что они уже обрушили на него свой сельскохозяйственный инвентарь, но это была только иллюзия. Они отступили – кто с синяком под глазом, кто в изодранной одежде, – Желтокрылый же стоял в центре и торжествовал. Огородники с минуту посовещались. Потом набросились на него еще ожесточеннее, но, как и в предыдущий раз, не сладили с ним и снова отступили, потрепанные и избитые.
Вдруг в сторону победителя полетел камень. Потом второй. Потом третий. Желтокрылый ловко уворачивался, некоторые снаряды отбивал палкой, но их становилось все больше, и падали они все гуще и со всех сторон. Сначала один угодил ему в шею. Второе попадание было болезненным – в сгиб руки, и с минуту он мог держать палку только одной рукой. А потом камень попал ему в голову, еще раз в шею и еще раз в голову, и дальше трудно уже было уследить, так как камни сыпались градом и огородники подходили все ближе, пока наконец не подошли вплотную, хотя он еще защищался, и теперь видны были только поднимающиеся и опускающиеся палки и искаженные лица с оскаленными зубами. Сколько могло пройти времени, прежде чем с рембеховского шоссе донесся вой сирены? Помню только, что на протяжении всех этих длинных, как вечность, минут палки и черенки от лопат и мотыг поднимались и опускались, помню также, что, когда машина «скорой помощи» с больничным крестом на дверце забуксовала в песке насыпи, по которой не ходили поезда, и из кабины повыскакивали санитары в белых халатах, я уже мчался на кладбище, преследуемый криками Шимека и Петра, бежал к деревянной колокольне, отвязывал веревку, заткнутую за почерневшую балку рукой причетника, и тянул ее изо всех сил, тянул, подпрыгивая и снова приземляясь, тянул как безумный, потому что первый раз в жизни я почувствовал себя безумным, тянул и плакал, плакал и тянул и снова плакал, пока не подбежали ко мне Шимек и Петр и не оторвали меня от этой веревки силой, так как я к ней уже почти прирос, оторвали меня и поволокли в лес на Буковой горке. Помню также, что я не сказал им ни слова и поехал один на пляж в Елитково. Сидел там до сумерек у грязного и вонючего залива. По пляжу бродили поодиночке безработные рыбаки и длинными шестами проверяли густоту «рыбного супа» у берега. Маяк в Бжезно уже вращался, а суда на рейде зажигали опознавательные огни. Вдалеке, в стороне Сопота, светился огонек костра. Далее если бы ко мне подошел Вайзер, даже если бы он сам попросил меня о чем-нибудь, я бы остался нем.
Шимек вышел из кабинета директора. Подмигнул нам. Это означало – все в порядке, мол, как условились. Я услышал свою фамилию. Увидел, что гимнастерка на сержанте застегнута на все пуговицы, а директор поправил галстук, который теперь уже не напоминал якобинский бант, или выжатую тряпку, или компресс на горле, а был обыкновенным галстуком, купленным в торговом центре во Вжеще.
– Ну как? – спросил М-ский. – Мы что-нибудь вспомнили? Или предпочитаем побеседовать с прокурором в камере? – заключил он с угрозой.
– Да-да, конечно.
– Ну так говори, – сержант примиряюще поднял руку, – говори, что знаешь.
– Все сначала рассказывать?
– Нет, – вмешался директор, – ты должен рассказать, что было с платьем Вишневской.
– Но это было не платье, это был просто лоскут.
– Хорошо, лоскут – так где вы его нашли после взрыва?
– Там есть такой старый дуб, под ним и нашли. Сержант пододвинул ко мне карту.
– Где?
– Вот здесь, здесь этот дуб, а вот здесь, – показал я пальцем, – лежал лоскут.
– Кто нашел? – спросил М-ский быстро.
Я сделал паузу, как бы вспоминая эту подробность.
– Шимек.
– Ну хорошо. – Лицо М-ского ничего не выражало, хотя я понимал, как он должен быть доволен. – А где вы сожгли этот лоскут?
– В карьере.
Сержанту последний ответ явно не понравился.
– Здесь в округе нет никаких карьеров, что ты плетешь?
– Хорошо. – Директор не позволил мне продолжить. – Это поляна с эрратическими валунами, – обратился он к сержанту, – все здесь ее так называют.
– А когда это было? – допрашивал дальше М-ский.
– В тот самый день вечером.
– Это ты нес обрывок платья, да?
– Я, а откуда вы знаете?
М-ский торжествующе улыбнулся:
– Видишь, от нас ничего не укроется. Который это был час?
– Не помню точно, где-то после семи, нет, пожалуй, ближе к восьми.
– Так. А что вы делали потом?
– Да уже ничего, потом мы пошли домой.
– А почему вы не рассказали обо всем родителям?
– Мы боялись, потому что они взлетели на воздух, это было так страшно, что, наверно, не рассказал бы даже на исповеди, – выпалил я на одном дыхании.
М-ский опять усмехнулся:
– А вот и рассказал, однако, и не ксендзу, а нам!
– Вы местные? – неожиданно спросил сержант.
– Не понимаю, – сказал я. И в самом деле, куда он гнет? Что ему надо?
– Я спрашиваю, твои родители отсюда?
– Да, отсюда, отец родился в Гданьске, и мать тоже.
– Ну хорошо. – М-ский закончил допрос – А какие-нибудь вещи Вайзера вы не находили, что-нибудь от него осталось?
– Нет, взрыв был такой сильный, что мы даже искать ничего не стали, этот кусок платья – чистая случайность!
– Можешь идти и позови второго приятеля, – прервал меня директор. – Ну, чего ждешь?
Впервые с начала следствия я почувствовал себя чуть увереннее.
– Петр, теперь ты, – позвал я из открытых дверей и, когда он проходил мимо меня, подмигнул ему так же, как Шимек: мол, пока все идет нормально – так, как им хотелось с самого начала. Я сел на складном стуле и кивнул Шимеку, тот сразу все понял. Сторож зевал немилосердно, обнажая черные гнилые зубы, а я вспоминал, что происходило дальше.
Утром следующего дня я услышал в магазине Цирсона такой разговор наших соседок:
– Вы слышали? Поймали того психа, что по Брентово бегал и людей пугал.
– Эээ, да это был не псих, а извращенец какой-то, дорогая моя.
– Святая Мария, извращенец, говорите?
– Да-да, извращенец, какой нормальный псих будет бегать по кладбищу и звонить? Какой сумасшедший напялит на голову каску и будет болтаться по улицам? Нормальный псих, моя дорогая, выдает себя за Наполеона или за Мицкевича.
– А говорят, – вмешалась новая собеседница, – золовка моя говорит, она там живет, что никакой он не сумасшедший, а боговдохновенный, святой как бы человек, однажды он будто бы залез на крышу и говорил такое, прямо как из Священного Писания!
– Как это – из Священного Писания?
– Ну не в точности, а как бы из Писания, все время о Боге и каре за грехи!
– Ну-у, нет, он все же сумасшедший, а чтоб о Боге говорить, для того есть ксендз. На крышу, говорите?
– На крышу, и даже милиция приехала, но он тогда убежал.
Подошла моя очередь, и я не стал слушать дальше, что говорят соседки, а когда выбежал из магазина, встретил Шимека.
– Прошло у тебя уже? – беззлобно спросил он.
– Да.
– Ну так почитай. – Он сунул мне под нос газету, с которой возвращался домой. – Вот здесь, – показал пальцем заголовок.
«ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ» – значилось крупным шрифтом.
– А о чем это?
– Не спрашивай, а читай, – нетерпеливо буркнул он.
В заметке говорилось о поимке опасного безумца, которого схватили с помощью счастливых членов государственного садоводческого кооператива имени Розы Люксембург. Подписанная инициалами К. З. заметка не произвела на меня большого впечатления.
– Ну и что? – спросил я. – Что с того?
– Ничего, только про него написали, а про нас нет.
– А ты хотел бы, чтоб про нас?
– Да нет, пусть уж лучше никто не знает, что мы ему помогали-.
– Да, – ответил я, – лучше, чтобы не знали. Мы перешли по булыжной мостовой на другую сторону улицы. Из колбасной за магазином Цирсона доносился неприятный сладковатый запах требухи. У подъезда мы встретили Вайзера и Эльку, которые как раз выходили из дому.
– Приходите немного раньше, мы сегодня устраиваем пикник, – сказала Элька весело.
– Где всегда?
– Где всегда, – и уже догоняла Вайзера.
– Подожди, – задержал ее Шимек, – если пикник, нужно еду какую-нибудь, да?
– Ладно уж, – крикнула Элька и показала на корзинку, которую держала в правой руке. – У меня все есть, можете ничего не приносить.
Они пошли в гору, в сторону леса.
– Пикник со взрывами на закуску. – Шимек расхохотался над собственной шуткой. – Неплохо, а?
Но взрывами и не пахло. Когда мы пришли в ложбину, Элька и Вайзер сидели возле расстеленной под дубом скатерти.
– Где раздобыла, – спросил Петр, – у ксендза Дудака?
– Только не запачкайте, – строго сказала Элька, – видите, какая белая?
Все было приготовлено с большим шиком – Элька, нужно признать, знала в этом толк: возле нарезанных ломтиками помидоров лежали огурцы, между ними стояла солонка, масло в фарфоровой мисочке и сыр, тоже тонко нарезанный. Мы сели по-турецки, скрестив ноги. Шимек вынул из сетки пять бутылок лимонада, который мы купили скинувшись, чтобы не приходить с пустыми руками.
– Ну, молодцы, – сказала Элька, соля помидоры, – тоже что-то притащили.
Когда все было готово, она вытащила из корзинки буханку хлеба и нож, передала Вайзеру, и тот резал толстыми ломтями и раздавал нам по часовой стрелке.
– Неплохая идея этот пикник, – сказал Петр, жуя хлеб с помидором, – есть в лесу, а не дома, почему мы раньше не додумались?
А я спросил Эльку, по какому случаю пикник; она ничего не говорила о своей затее.
– Эх, вы, кочерыжки капустные! – засмеялась она, сверкая беличьими зубами. – Ведь это прощание с каникулами!
Всем стало грустно – действительно, послезавтра мы будем стоять в спортзале в белых рубашках и темных брюках и слушать речь директора о том, что лето скоро уже кончится, что мы отдохнули и загорели и что он снова с радостью приветствует нас в этих стенах, которые мы должны ценить и уважать. Каждый год приближение осени ощущалось во всем: в лохматых тучах, которые, как крылья ангелов, плыли над заливом, в прозрачном воздухе последних дней августа, в резких порывах ветра, еще не леденящих, но уже солоноватых, напоминающих о шторме, ощущалось умирающее лето, и дачники покидали Елитково, и все больше пляжных кабинок зияло пустотой. Теперь же, когда над белой скатертью повисло молчание, все было иначе: лето, казалось, набухало трепещущим от зноя воздухом, трехмесячная пыль покрывала серым налетом листья деревьев и папоротник, и ни один, даже самый слабенький, порыв ветра не нарушал липкую тишину между землей и безоблачным небом, откуда тонкой струйкой долетал до нас гул невидимого самолета. Только сверчки, как всегда, тянули свою скрипучую мелодию, и так же, как всегда в эту пору, появились муравьи с прозрачными крылышками, странные и забавные, – появились, чтобы исчезнуть через две недели и появиться вновь через год в эту самую пору.
– Господи, чего бы я не дал, чтобы еще так с месяц, – нарушил молчание Шимек.
Но никто не спешил поддержать разговор. Вайзер открыл первую бутылку лимонада и налил пенящуюся жидкость в стакан, который подала ему Элька. Посудинка пошла по кругу из рук в руки, а я удивлялся, к чему эти церемонии, ведь мы всегда пили из бутылки. «Красный, – сказал одобрительно Петр, – не знаю, почему красный лучше желтого». Но и на этот раз никто не поддержал разговор, ведь всякий, кто покупал в магазине Цирсона, знал, что в красном лимонаде больше газа и пахнет он лучше желтого. Когда все уже было съедено и выпито, Элька собрала посуду в корзинку. Вайзер тем временем притащил из кустов генератор и, как всегда, подсоединил провода. Мы перешли из-под дуба на другую сторону ложбины.
Я уже писал, что последний взрыв, хотя мы тогда еще не знали, что он будет последним, так вот, последний взрыв отличался от прежних. Писал также, что облако пыли, комьев земли и травы было похоже на огромную воронку темного, почти черного цвета, узкую внизу, расширяющуюся кверху, и написал, какие она у меня вызвала ассоциации много лет спустя. И хотя сравнение это, может быть, несколько претенциозно и даже неуместно, но (чего я не написал и что пишу сейчас) воронка кружила по ложбине, как закрученная невидимой рукой юла, всасывая в свою вращающуюся трубу прутики, прошлогодние и опавшие в это лето листья, шишки и даже небольшие камушки. Не написал я также (что делаю сейчас), что воронка засосала корзинку, которая осталась под дубом, подняла ее вверх и выбросила в нескольких метрах от нас, но вверх дном, и все, что в ней находилось, в том числе и бутылки из-под лимонада, попадало со звоном и грохотом на землю. Белая скатерть медленно планировала, покачиваясь вправо-влево. А потом Вайзер и Элька попрощались с нами, но не как-нибудь по-особому, а как обычно – «Ну пока!» – и вместе пошли в гору. Сам уже не знаю – держались они за руки или нет, но в сравнении с тем, что случилось на следующий день, это факт второстепенный. Шимек сказал бы – они играли в доктора и пациентку. Но я в этом вовсе не уверен. Быть может, они провели ту ночь в подвале кирпичного завода, где она играла на флейте Пана, а он танцевал, падал на землю, произносил непонятные слова и левитировал. Быть может, бродили всю ночь по лесу или просидели до самого рассвета на одном из холмов, дожидаясь восхода солнца. Все может быть. Во всяком случае, первым, кого я встретил утром на лестничной площадке, был дед Вайзера.
– Где Давид? – резко спросил он, а я испугался, так как пан Вайзер почти никогда не выходил из дому, но если уж показывался, выглядел всегда грозно.
– Не знаю, – ответил я, и тогда он наклонился, так что болтавшийся на шее сантиметр коснулся моего носа.
– Должен знать, – сказал он медленно и очень четко, – кому ж еще знать, как не тебе?
Не знаю, что было бы дальше, если бы не пани Короткова, возвращавшаяся домой с покупками. Слух у нее был хороший, и она сразу же вмешалась в разговор.
– Как это, разве вы не знаете, пан Вайзер, они с Элькой поехали в Пчёлки, в деревню.
– Куда, вы говорите, с кем? – Пан Вайзер посмотрел на нее поверх проволочных очков.
– В Пчёлки, пан Вайзер, это в сторону Тчева полчаса поездом.
– Чего-чего?
– Поездом полчаса, говорю.
– Это точно?
– Говорю вам, полчаса поездом, Элька поехала туда к бабушке на один день и заночевала.
– А Давид?
– Давид, спрашиваете, – да ведь он бегает за ней с утра до ночи, – пани Короткова показала в улыбке все свои оставшиеся зубы, – и ничего на свете, кроме нее, не видит, вы не знали?
Но пана Вайзера объяснения не удовлетворили. Он поправил очки и снял с шеи сантиметр.
– Давид всегда обо всем говорит, почему он ничего не сказал?
– А вы спросите у него, когда вернется. – И пани Короткова пошла наверх, а минутой позже я услышал, как пан Вайзер стучит в дверь к Эльке, услышал, как он расспрашивает пани Вишневскую и как та отвечает ему, что вроде бы и вправду Элька спрашивала, можно ли взять с собой приятеля, и она согласилась, почему бы и нет, места у них в деревне побольше, чем здесь, и даже дала ребятам кое-что поесть в дорогу, потому как от станции идти добрых три километра с гаком. А когда я спустился вниз и вышел во двор, Шимек с Петром уже все знали, так как подслушивали весь разговор у заднего выхода в огород. Мы знали, что они не поехали в Пчёлки, пока только это. Но на кирпичном заводе их не было, а дверь, ведущая в зал для стрельбы, была заперта изнутри. Не было их также ни в ложбине, ни на кладбище, ни на карьере. Нигде. Потом мы дошли по железнодорожной насыпи до рембеховского шоссе, где можно было усесться на взорванном пролете моста и смотреть, как под ногами, десятью метрами ниже, проезжают изредка машины. Однако вместо этого мы остановились на бетонном краю, как над пропастью, и цыркали слюной вниз на проезжающие автомобили.
По другую сторону шоссе, за таким же обрывом взорванного моста, насыпь бежит дальше и, плавно изгибаясь, метров через пятьсот уходит в туннель – там, где начинается взгорье. Как раз туда подходит слева ограда сумасшедшего дома, а немного ближе под насыпью протекает Стрижа. Чтобы достичь речки, нужно идти не по шпалам на насыпи, а у ее подножия, где бежит узкая тропка, та самая, по которой М-ский шел на свидание с домохозяйкой. Тропка обрывается над водой и никуда больше не ведет. Чтобы идти против течения, на юг, надо продираться сквозь заросли, как мы, когда следили за учителем. По левую сторону насыпи Стрижа разливается небольшим прудом, исчезает в облицованном жерле водозаборника и дальше течет к городу подземным каналом. Я вижу все это очень отчетливо, как на нарисованной по памяти карте, и знаю, что через минуту крикну – о! – и протяну руку точно туда, где речка с южной стороны подходит к насыпи, и мы живо спустимся со взорванного моста на шоссе и побежим по узкой тропинке гуськом, наступая друг другу на пятки, так как именно там, где Стрижа впадает в узкий туннель под железнодорожной насыпью, минутой раньше мы увидели Вайзера и Эльку, увидели, как они сидят над водой, сидят и ничего не делают, просто болтают ногами в воде, и бежать мы будем к ним столько раз, сколько я об этом подумаю, всегда так же шумно и всегда так же весело, словно мы нашли Янтарную комнату или сокровища последнего царя инков.
Так как же все закончилось? Нет, не как закончился тот день или вся история, так как у этой истории нет никакого конца, я спрашиваю, как закончилось следствие, без трех минут двенадцать, когда уже допросили Петра и когда М-ский вызвал нас всех троих в кабинет? Мы стояли перед столом директора, позади нас сторож, в сизом от дыма воздухе висел запах пота, за окнами барабанил сентябрьский дождь, а мы один за другим желтой авторучкой сержанта подписывали показания и черновик протокола, подписывали два раза под копирку, то есть каждый из нас оставил там четыре своих автографа в подтверждение установленной версии случившегося. Мы видели последний взрыв в ложбине за стрельбищем. Вайзера и Эльку разорвало в клочья, к сожалению, кроме обрывка ее красного платья, который мы со страху сожгли в тот же день вечером на карьере, не осталось ничего. Мы не знаем ничего ни о каком складе взрывчатки, кроме того, который найден в подвалах заброшенного кирпичного завода. Да, у Вайзера был какой-то старый ржавый немецкий автомат, и он даже позволил нам один раз его потрогать, но это все, что мы знаем. Так обстоит дело. Первым свою кривую подпись поставил Шимек, так как он всегда писал левой рукой и всегда немного криво. За ним Петр – большими, как монеты-двушки, буквами. Последним расписался я. Ровно в ту секунду, когда я выводил последнюю букву моей фамилии, часы пробили двенадцать. «Ну, – сказал М-ский, – теперь можете идти домой, сержант вас проводит». Директор встал и застегнул пиджак, а сторож ссыпал в корзину окурки из пепельницы. Да, в этот момент М-ский неизбежно прочитал бы какую-нибудь мораль, произнес какую-нибудь красивую сентенцию, как на торжественном собрании, что-нибудь вроде: кто правды не боится, тот ничего не боится, – несомненно сказал бы что-нибудь в этом роде, но послышался громкий стук во входную дверь школы, и кто-то, перекрикивая дождь, заорал благим матом: «Откройте, откройте немедленно, сейчас же откройте!» – и снова стал дергать ручку и барабанить кулаком в дверь.
При свете зажженной сторожем лампы я увидел за стеной дождя своего отца, а за ним пана Коротека и отца Петра, а еще дальше мать Шимека и свою. Мой отец ворвался внутрь, прежде чем кто-либо успел раскрыть рот, схватил М-ского за лацканы и рявкнул: «Нашли, нашли ее!» А когда отец уже отпустил М-ского, все заговорили разом, как на вечеринке или на базаре, так что в первую минуту ничего нельзя было понять. Да, Эльку нашли у запруды, там, где за туннелем речка широко разливается между густых камышей. Она жива, но пока еще без сознания. Ее отвезли в больницу. Неизвестно, как она туда попала. Прежде прочесали всю округу, но только до армейского стрельбища. Неизвестно также, что стало с Вайзером. Милиция ищет теперь в той стороне, где нашли Эльку. М-ский смотрел на нас, и в его глазах мы увидели снисходительное удивление – как если бы кто-то из нас безошибочно отвечал у доски или на пятерку написал контрольную. «В таком случае, – сказал он, – следствие не закончено, и мы передаем дело в прокуратуру!» – «Пожалуйста! – еще громче сказал мой отец. – Но не сегодня!» – И вид у него при этом был такой грозный, что, если бы М-ский, или сержант, или директор захотели нас еще задержать хотя бы на минуту, отец наверняка ударил бы кого-нибудь из них и был бы страшный скандал, еще, пожалуй, похуже, чем в баре «Лилипут», потому что пан Коротек и отец Петра стояли рядом с нами и выглядели так же грозно.
Следствие, однако, не было возобновлено ни в понедельник, ни позднее. Как только Элька пришла в сознание, ее допрашивали, но она ничего не помнила – ни как зовут, ни где живет. Это объясняли шоком и ждали улучшения. Через три недели она знала уже, где живет, но утверждала, что она – мальчик и фамилия ее Вайзер. Не могла назвать некоторые предметы и говорила сиделке: подай мне часы, а имела в виду тарелку с супом. Все у нее перемешалось. Только в начале октября она пришла в себя, но о том, что случилось, по-прежнему ни слова, молчала как могила. Утверждала, например, что последний раз играла с Вайзером в середине августа и мало что об этом помнит. В то время уже не было в живых пана Вайзера и, кроме прокурора, который допросил нас еще раз на большой переменке, никто о Давиде не спрашивал. Прокурору мы сказали, что, конечно, никаких похорон платья не было. В ложбине после взрыва они ушли вверх по склону, и это был последний раз, когда мы их видели. В конце концов расследование прекратили.
Окончательная версия была такая: Эльку после взрыва воздушной волной отбросило в густой папоротник, а мы со страху дали драпака. Мы не могли видеть ни Вайзера, так как его разорвало, ни Эльки, так как она лежала без сознания в зарослях. Страх и воображение дорисовали остальное – нам могло показаться, что они идут вверх по склону. Но то была только фантазия, фантазия сорванцов-мальчишек, которые играли со снарядами и потом со страху придумали такую историю. Элька через какое-то время пришла в сознание, по крайней мере частично, и попыталась сама добраться до дома, но забрела аж на Стрижу и там свалилась в камыши, когда кружила возле пруда, или упала в пруд с насыпи, и течение вынесло ее на берег, прежде чем она успела утонуть. На наше вранье махнули рукой, поскольку, как было установлено, зачинщиком опасных игр был Вайзер и на нем лежала главная вина. Только М-ский на уроках естествознания смотрел на нас подозрительно до самого окончания школы, но это, может быть, потому, что мы кое-что знали о его тайных страстях.
Это все? Все, если бы не тот день над Стрижей. Мы подбежали к речке, Элька повернула голову в нашу сторону и крикнула:
– Эй, вы, хотите всю рыбу нам распугать?
Она шутила. В Стриже не было рыбы, а у них не было ни удочки, ни сачка.
– Что вы тут делаете? – спросил Шимек. – Вас ищут.
– Ищут? – удивилась она. – Кто нас ищет?
– Ну, – сказал я неуверенно, – вообще-то твой дед, – теперь я обращался к Вайзеру, – очень волновался.
– Я ему говорил, что поеду с ней в Пчёлки.
– Не ври! – Шимек впервые повысил на него голос. – Не ври, мы слышали, как твой дед спрашивал про тебя у всех, не знал он ничего. И вообще, не были вы в Пчёлках. – В его голосе звучали нотки восхищения и жгучего любопытства.
– Не ваше дело, – ответила Элька, – допрашивать нас пришли?
– Ну ладно, – примирительно отозвался Петр, – нет так нет, но здесь-то вы что делаете? Ведь тут даже уклеек кет!
Элька поглядела на Вайзера, который стоял по щиколотку в воде и смотрел, как вода падает с бетонного порога.
– Ничего мы не делаем, – ответил он за нее и после минутного колебания добавил: – Пока ничего не делаем, только готовимся.
Он испытывал наше любопытство. Мы знали, что в такой момент ничего не нужно спрашивать, сейчас он сам все скажет.
– Готовим особый взрыв, – пояснил он. – Но сперва надо все учесть и рассчитать.
Я посмотрел вверх по течению, откуда река стекала к нам небольшими террасами среди орешника и ольхи, и сразу, в ту же минуту понял, что он имеет в виду. Это была действительно потрясающая идея – заложить заряд в туннеле под насыпью, тогда взрыв завалит узкий проход грудами земли с железнодорожной насыпи, и в этом месте образуется высокая, метров семь-восемь, плотина, а там, где мы сейчас стоим, и выше по течению возникнет нормальное озеро, до первых деревьев.
– Гениально! – прошептал Шимек. – Здорово! – Ему тоже понравилась идея перегородить речку. – Тут можно будет плавать, – показал он рукой на луг со стороны рембеховского шоссе, – все зальет!
– Да, – подтвердил Вайзер, – все зальет, но нужно рассчитать массу земли и силу взрыва.
Только Петру не понравился замысел Вайзера. Он сказал, что по другую сторону насыпи есть пруд и можно, на худой конец, попробовать искупаться там. Но мы ему быстро заткнули рот: пруд был заросший и заиленный, и тошнило от одной брезгливой мысли, что придется погрузиться в такое паскудство.
– Нужно войти в туннель, – сказал Вайзер, – и точно замерить его длину. Кому охота?
Я вскочил первый.
– Хорошо, – теперь он обращался ко мне, – только считай точно шаги, да поосторожней – прощупывай дно.
Туннель был невысоким, его бетонная арка достигала уровня моих глаз в самом высоком месте симметричного свода. Я пригнулся и заглянул в темную дыру. «О-го-го! – Выкрик вернулся эхом. – Как в подвале!., але-але-але!..» Я двинулся вперед, слегка сгорбившись, руками держась за влажные скользкие стены, – одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Шел, осторожно ставя ноги, под которыми ощущал сгнившие растения, нанесенный за многие годы ил и обломки кирпича, – двадцать один, двадцать два, двадцать три. Чувствовал, как окутывает меня сырость, грязь и прогнившая древесина, чувствовал в ноздрях резкий запах тухлятины, холодный и пронизывающий, – тридцать один, тридцать два, тридцать три. Запах, немного похожий на тот, что был в склепе на брентовском кладбище и в подвале заброшенного завода, нисколько меня не пугал, так же как многометровая толща земли над головой, потому что в конце туннеля и в окружавшей меня темноте – сорок два, сорок три, сорок четыре, – в конце темного рукава я видел светлый, все увеличивающийся кружок выхода, и все больше света было у меня впереди, и наконец кончился холод – пятьдесят девять, шестьдесят, шестьдесят один, – и вот я уже стою под горячими ослепительно яркими лучами, зажмурив глаза и выпрямившись, – я уже на другой стороне.
– Четыре минуты! – услышал я голос Петра. – Целых четыре минуты – что, нельзя было быстрее? – Он стоял рядом с выходом из туннеля, прямо под солнцем, и я не мог сразу посмотреть ему в лицо.
– Ясно, что можно быстрее, – отвечал я, – но я не хотел ошибиться!
Мы взобрались по крутой насыпи наверх, и тогда Петр показал мне рукой на сумасшедший дом, который был виден вдалеке за кронами деревьев.
– Думаешь, он там? – спросил Петр.
– Да, – сказал я, – наверняка там, его тогда не убили.
Помню, что, когда мы спускались вниз, по другую сторону насыпи, которая была похожа на заброшенную дорогу, я обо что-то споткнулся. Из земли выступала заросшая травой железнодорожная шпала. Все внизу сидели, опустив ноги в воду, и только Вайзер стоял на берегу. В руке у него была палочка, и я видел, как он чертит что-то на земле, где трава росла пореже.
– Что это? – спросил я, но Элька быстро сказала, чтобы я ему не мешал.
Вайзер что-то вписывал в квадрат, поделенный на ровные клетки, вписывал, стирал и снова вписывал. Не отрываясь от квадрата, он спросил: сколько получилось шагов?
– Шестьдесят один, – сообщил я, и тогда он еще что-то дописал и стер, словно это была таблица умножения или какие-то счеты.
– Иди сюда, – позвала меня Элька, – не видишь, он занят?
Я подошел к ним, но успел сосчитать все клетки в квадрате – их было тридцать шесть, по шесть с каждой стороны. Петр говорил, что, если взрыв удастся, вода зальет луг и через какое-то время за неимением слива подойдет к дороге.
– И что тогда? – спросил я, но Эльку это ничуть не тревожило.
– Придут пожарники, солдаты и сделают отвод или новый туннель, а прежде мы успеем искупаться, – объяснила она, будто речь шла о прогулке в Елитково, – и тогда – ищи нас.
– Или придем вместе с другими посмотреть, – придумал Шимек, – и никто не узнает, чьи это делишки.
– А если бы наверху ходил поезд, – добавил Петр, – вот было бы шуму!
Вайзер стер ногой свой квадрат.
– Так, – сказал он громко, – все ясно!
– Ну и когда же? – спросил я нетерпеливо.
– Я должен проверить, где лучше заложить заряды. Там нет стекол? – обратился он ко мне, и я понял, что сейчас он захочет войти в туннель.
– Нету, – ответил я. – А можно я с тобой?
– Останься.
Элька подошла к нему:
– Я тоже хочу посмотреть.
И вот они уже подошли к своду и, наклонив головы, исчезли в темном коридоре, как я минуту назад, а Петр поднялся по откосу наверх, чтобы дождаться их с другой стороны. Я стоял, уперевшись в бетонный свод, и видел сгорбленную фигурку Эльки, которая шла за Вайзером, все слабее доносились до меня их голоса и удаляющееся хлюпанье, смешанное с шумом воды, и наконец увидел неясные контуры фигур там, где виднелось яркое пятно света, в котором контуры размылись совсем и исчезли. Сколько это могло продолжаться? Я говорю не о переходе через туннель, я спрашиваю, сколько могло пройти времени, прежде чем я услышал над головой окрик Петра: «Что за черт, куда они подевались?» Шимек утверждал, что прошло добрых восемь-десять минут, но ни тогда, ни тем более теперь, когда я это пишу, я не могу сказать, как долго это продолжалось на самом деле. Петр ждал по ту сторону, ждал и считал, считал и ждал, пока ему не надоело ждать и он не заглянул в арку туннеля. Не увидев их, он подумал, что они, наверное, вернулись, так как нашли уже хорошее место для закладки взрывчатки. И снова перебежал через насыпь на нашу сторону, но увидел меня, стоящего у входа, и Шимека, бродившего по воде, и больше никого. Я думал, что он пошутил, когда сказал: «Они не выходили оттуда», – а он подозревал, что я надуваю его и пугаю, но минутой позже мы уже знали, что ни он, ни я не шутили, а шутил над нами Вайзер. «Не может быть, – сказал я, – там нет ни одного выступа, ни одного углубления сбоку, где они могли бы спрятаться». Но их не было ни с этой, ни с той стороны насыпи. Целый час бродили мы с Шимеком по туннелю, обстукивая и ощупывая каждый камень, каждую трещинку, каждый кирпич и кусок цемента. «Вайзер! – кричал я. – Вайзер, это ты уж слишком загнул, где вы?» Но кроме шума воды и гулкого эха, никто нам не отвечал. Мы сидели над Стрижей до вечера у обоих выходов из туннеля, а Петр караулил наверху, на насыпи, – все безрезультатно. Возвращались мы понурив головы, и, хотя каждый из нас думал, что ничего дурного не случилось и что они самое позднее завтра утром появятся в школе на торжественном собрании в честь начала учебного года, хотя мы твердо в это верили, все же чудилось нам в их исчезновении что-то ненормальное, словно Вайзер, договорившись с нами о чем-то, надул нас, чего он никогда не делал за все время знакомства. Когда позади осталось брентовское кладбище – мы шли по насыпи – и когда с вершины Буковой горки мы увидели крыши нашего квартала и дальше бетонные плиты аэродрома и залив, с севера, со стороны моря, задул первый в том году холодный, освежающий ветер. У домов, где кончался лес, я почувствовал на лице большие, как виноградины, тяжелые капли дождя. Они падали на землю и тут же впитывались, но за ними все быстрее летели следующие, и через минуту улица, город и весь мир тонули в серых струях дождя.
Да, именно тут кончается повествование. Все мысли, связанные с Вайзером, очень меня волнуют, так что я не буду развивать их дальше, хотя сохраню в памяти и в сердце. Но остался еще Петр. Для него я завернул исписанные листки в серую бумагу и всунул в щель бетонной плиты.
– Это ты? – спросил он.
– Я.
– Зачем пришел, ведь сегодня не День поминовения?
– Да, Петр, я просто принес тебе кое-что. Прочти, а я приду завтра или через два дня, тогда и поговорим.
Он не отвечал. Это означало, что он согласен.
Сам не знаю, как это получилось – вместо того чтобы ехать на автобусе, я иду на эту встречу пешком. Сначала миную Буковую горку, где новые чистенькие аллеи ничем не напоминают те времена. По левую руку было брентовское кладбище. Вот здесь… Но на большом пустыре нет надгробий с готическими буквами. Деревья вырублены. Бульдозер рядом с кирпичным костелом сгребает в кучу груды камней и разбитых плит. Роет котлован для фундамента под новый, намного больший костел, котлован глубиной в несколько метров и размером со спортивную площадку. Иду дальше. Там, где находился пустой склеп, стоит четырехэтажный дом с тремя подъездами. Первые жильцы вешают занавески и отмывают окна после маляров, хотя холодно. Я стою на железнодорожной насыпи. Там, где за стеной леса виднелись окружающие стрельбище холмы, теперь я вижу еще не облицованные башни-многоэтажки. Одна, другая, третья и за ними еще одна. Поверхность насыпи вся в колдобинах – ее разъездили машины садоводов и грузовики. Я иду дальше по насыпи, до самого рембеховского шоссе. Но оно не похоже на шоссе. Это обыкновенная улица с тротуарами, фонарями, и на ней много машин. Я устал, совсем как старик. Жалею, что не поехал автобусом. А может, думаю я, и хорошо, что посмотрел. Ведь Петр всегда начинает разговор с расспросов, что происходит в городе. Просит рассказывать ему все до мелочей, очень подробно. Так что я еще раз взгляну на все это и пойду к нему на кладбище. Не задумываясь больше, иду по улице вниз, а потом направо вверх, и вот я там, куда должен был попасть. Если свернуть от ворот кладбища направо, можно дойти до сумасшедшего дома. Если бы я пошел в этом направлении, то, минуя корпуса с зарешеченными окнами, окруженные старым парком, я бы дошел до того места, где в последний раз видел Вайзера. Но не для того я проделал такой длинный путь. Сейчас мне нужно поговорить с Петром. Сажусь на холодную плиту и поправляю кашне.
– Прочитал? – спрашиваю я, хотя не знаю, настроен ли он на разговор.
– Да, – отвечает он.
С минуту молчим. Я вытаскиваю рукопись из щели и прячу в сумку. Но Петр не начинает со своего «что слышно». Наша беседа принимает сегодня несколько иной характер, я чувствую это, когда звучит первая фраза:
– Ты не написал, в каком платье была Элька.
– Когда?
– Над Стрижей.
– Конечно, в красном.
– Это нужно отметить.
– В том самом, в котором была на аэродроме.
– Ну хорошо. А что с оружием, которое прятал Вайзер? На следствии говорили, что нашли только взрывчатку. А об оружии ни слова!
– Они не нашли ничего, кроме тротила и детонаторов. Должно быть, Вайзер перепрятал все еще до того, как мы пошли на завод искать его. Помнишь – проход в стене, через который ходили в его тайник, был заложен.
– Помню.
– Вот именно. Он все предвидел и точно рассчитал, согласен?
– Теперь о других деталях. М-ский получился как в жизни, очень похож. Но только он наверняка не допускал ошибок в природоведении. Он никогда не ошибался в названии растения, насекомого, бабочки или в классификации, а ты…
– А разве это была не арника горная?
– Конечно, это была
– Господи, а это что такое?
–
– С ума сойти, откуда ты знаешь эти названия? М-ский этому не учил.
–
– Разве это так уж важно?
– Если ты писал об М-ском – очень важно. Но у меня есть еще кое-что: Хорст Меллер. Ты узнал, кто он такой?
– Помилуй, кого это сейчас волнует, кем был какой-то Хорст Меллер?
– Согласен, но ты иногда увлекаешься какой-нибудь маловажной подробностью, а главное действие тормозится. С муравьями ты переборщил. Муравьи никого не трогают. Или вот запах из колбасной за магазином Пирсона. Разве это не перебор?
– Думаю, нет. Если ты придираешься к подсемейству
– Сейчас мы договоримся до того, что все важно.
– Чтоб ты знал: или ничего, или все.
– Тогда почему не написал, что я всегда боялся темноты? Коридоров и неосвещенных подвалов? Даже на Стриже я не вошел в этот проклятый туннель. Ждал их и считал, но не заглядывал внутрь. Почему ты об этом не написал?
– Ты ведь был с другой стороны, как же я мог об этом написать?
– Разве ты не видел мой силуэт?
– Нет. Видел спину Эльки, как она шла в том направлении, больше ничего.
– И еще, зачем ты придумал какого-то директора? В восьмилетке тогда были заведующие.
– Да, но потом, когда тебя уже не было, их переименовали в директоров.
– Ну и что?
– Если ты считаешь, что это важно, я переделаю его обратно в заведующего. Надеюсь, он не рассердится, все равно давно уж на пенсии.
– Кроме этого, все так, как было.
– И больше ничего мне не скажешь?
– А чего ты ждешь? Я прочитал и говорю о том, что заметил.
– А Вайзер?
– Что Вайзер?
– Что бы ты о нем сказал? Он ведь не хотел стать цирковым артистом. Обманывал нас. Где он сейчас?
– Написал и не знаешь?
– Знаю больше, чем знал, но не все. Поэтому и прихожу к тебе. Я должен знать правду.
– Я сдержал обещание, а ты опять за свое.
– Что с ним стало?
– Мы и так разговариваем слишком долго.
– Что с ним стало? Почему ты молчишь? Почему перестал отвечать, Петр?
Да. Пойдешь той самой тропкой от кладбища сначала вниз, потом в гору, а потом еще раз вниз. Постоишь над быстрой речушкой, там, где она исчезает под низким сводом туннеля. Войдешь в холодную воду и станешь у самого входа, руками уперевшись во влажный бетон. Наберешь воздуха в легкие и, как в горах, крикнешь: «Вайзер!» Эхо ответит тебе глухо, но только оно, только оно. Та же вода, что и много лет назад, будет шуметь на бетонных порогах, и, если бы не хмурое небо в тучах, ты бы подумал, что сейчас – это тогда. «Вайзер! – крикнешь. – Вайзер, я знаю, что ты там!» – и швырнешь камень в черный зев. Ответит тебе только всплеск воды. «Вайзер! – крикнешь снова. – Я знаю, что ты там, вылезай сейчас же!» В шуме и бульканье не будет ответа. «Вайзер, паршивец, вылезай! – будешь ты кричать все громче. – Ты слышишь меня?» Всунешь голову в черный зев и, все глубже погружаясь в воду, поползешь на коленях среди тины, скользких водорослей и камней к светящейся точке впереди. «Вайзер, – закричишь, – не обманывай меня, чертов сын, я знаю, что ты здесь!» Бубнящий отзвук прокатится над тобой, словно по насыпи наверху протарахтел локомотив, но никто не ответит на твой зов. Ты выйдешь наконец из туннеля, весь в тине, с одежды стекает вода. Сядешь на берегу речки и, дрожа от холода, вспомнишь слова той дразнилки: «Вайзер Давидек не ходит в костел!» Посмотришь в небо, где за свинцовыми тучами гудят двигатели невидимого самолета. И вместо того чтобы говорить что-то, ругаться и проклинать, подумаешь, что все, что видели твои глаза, и все, чего касались твои руки, давно уже рассыпалось в прах. Будешь смотреть перед собой тупым, неподвижным взглядом, не слыша уже ни воды, ни ветра, который будет трепать твои слипшиеся волосы.
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |