"Повесть о Гэндзи. Книга 1" - читать интересную книгу автора (Сикибу Мурасаки)
Мальвы
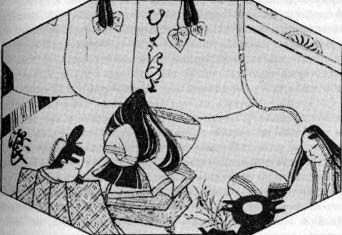 |
Дайсё (Гэндзи), 21 — 22 года
Ушедший на покой Государь (имп. Кирицубо) — отец Гэндзи
Государыня-супруга (Фудзицубо) — супруга имп. Кирицубо
Нынешний Государь (имп. Судзаку) — сын имп. Кирицубо от наложницы Кокидэн
Государыня-мать (Кокидэн) — наложница имп. Кирицубо, мать имп. Судзаку
Принц Весенних покоев (будущий имп. Рэйдзэй) — сын Фудзицубо
Дама с Шестой линии, миясудокоро (Рокудзё-но миясудокоро), 28–29 лет, — возлюбленная Гэндзи
Жрица Исэ (будущая имп-ца Акиконому), 13–14 лет, — дочь Рокудзё-но миясудокоро и принца Дзэмбо
Особа по прозванию Утренний лик (Асагао) — дочь принца Сикибукё (Момодзоно)
Молодая госпожа из дома Левого министра (Аои), 28 лет, — супруга Гэндзи
Третья принцесса — дочь имп. Кирицубо и наложницы Кокидэн
Госпожа Оомия (Третья принцесса) — супруга Левого министра, мать Аои и
То-но тюдзё
Укон-но дзо-но куродо — приближенный Гэндзи, сын Иё-но сукэ
Принц Сикибукё (Момодзоно) — брат имп. Кирицубо, отец Асагао
Гэн-найси-но сукэ — придворная дама имп. Кирицубо
Левый министр — тесть Гэндзи
Маленький господин из дома Левого министра (Югири), 1–2 года, — сын Гэндзи и Аои
Юная госпожа из Западного флигеля (Мурасаки), 13–14 лет, — воспитанница, затем супруга Гэндзи
Самми-но тюдзё (То-но тюдзё) — сын Левого министра, брат Аои, первой супруги Гэндзи
Сайсё — кормилица Югири
Сёнагон — кормилица Мурасаки
Корэмицу — приближенный Гэндзи, сын его кормилицы
Особа из покоев Высочайшего ларца (Обородзукиё) — дочь Правого министра, сестра Кокидэн, тайная возлюбленная Гэндзи
Правый министр — отец Кокидэн и Обородзукиё
После того как в мире произошли перемены,[214] у Гэндзи появилось немало причин досадовать на судьбу, и — потому ли, а может, еще и потому, что слишком высоко было его новое положение, — он воздерживался от легкомысленных похождений, отчего множились сетования его истомленных ожиданием возлюбленных и — уж «не возмездие ли?» (72) — не знало покоя его собственное сердце, снедаемое тоской по той, единственной, по-прежнему недоступной. С тех пор как Государь ушел на покой, Фудзицубо жила при нем, словно обычная супруга, а поскольку мать нынешнего Государя — потому ли, что чувствовала себя обиженной, или по какой другой причине — почти не покидала Дворца, у нее больше не было соперниц и ничто не омрачало ее существования. Ушедший на покой Государь по разным поводам устраивал изысканнейшие увеселения, о которых слава разносилась по всему миру, так что его новый жизненный уклад был едва ли не счастливее старого. Вот только тосковал он по маленькому принцу Весенних покоев.[215] Обеспокоенный отсутствием у него надежного покровителя, Государь весьма часто прибегал к помощи господина Дайсё, и тот, как ни велико было его смущение, не мог не радоваться.
Да, вот еще что: дочь той самой особы с Шестой линии — Рокудзё-но миясудокоро и умершего принца Дзэмбо готовилась стать жрицей святилища Исэ[3]. Мать ее, понимая, сколь изменчиво сердце господина Дайсё, давно уже подумывала: «А не отправиться ли и мне вместе с дочерью под предлогом ее неопытности?» Слух о том дошел до ушедшего на покой Государя.
— Эта особа занимала самое высокое положение при покойном принце и снискала его особое благоволение. Жаль, что ты не проявляешь заботы о ее добром имени, обращаясь с ней, как с женщиной невысокого звания. О будущей жрице я пекусь не меньше, чем о собственных дочерях, поэтому твое пренебрежительное отношение к ее матери вдвойне заслуживает порицания. Ты наверняка станешь предметом пересудов, коль и впредь будешь подчинять свое поведение случайным прихотям, — говорил Государь, неодобрительно глядя на Гэндзи, а тот, сознавая его правоту, стоял перед ним, смущенно потупившись.
— Веди же себя со всеми ровно, стараясь не делать ничего, что могло бы оскорбить твоих возлюбленных и навлечь на тебя их гнев, — наставлял его Государь, а Гэндзи думал: «О, когда б он ведал о самом главном моем преступлении!» Совершенно подавленный этой мыслью, он вышел, почтительно поклонившись.
Увы, его безрассудное поведение и в самом деле повредило как доброму имени миясудокоро, так и ему самому, и, узнав о том, Государь счел своим долгом выказать ему свое неудовольствие.
Разумеется, Гэндзи сочувствовал женщине и хорошо понимал, что она достойна лучшей участи, однако не предпринимал ничего, чтобы открыто признать их связь. Поскольку же сама миясудокоро, стыдясь некоторого несоответствия в возрасте,[217] держалась весьма принужденно. Гэндзи, приписывая эту принужденность нежеланию вступать с ним в более доверительные отношения, оправдывал таким образом свое бездействие и продолжал пренебрегать ею даже теперь, когда все стало известно ушедшему на покой Государю, да и в целом мире не осталось ни одного человека, для которого их союз был бы тайной.
Слух о печальной судьбе миясудокоро дошел до особы по прозванию «Утренний лик» — Асагао, и, твердо решив: «Не уподоблюсь ей», она перестала даже кратко отвечать на письма Гэндзи. Вместе с тем Асагао не проявляла по отношению к нему ни неприязни, ни пренебрежения, что укрепляло Гэндзи в мысли о ее исключительности.
В доме Левого министра, разумеется, недовольны были сердечным непостоянством Гэндзи, но открыто своего возмущения не выказывали отчасти потому, что сам он ничего не скрывал и упрекать его просто не имело смысла.
Весьма тяжело перенося свое состояние, молодая госпожа чувствовала себя слабой и беспомощной. Все это было внове для Гэндзи, и он не мог не умиляться, на нее глядя. Домашние радовались, но в то же время, волнуемые дурными предчувствиями, заставляли госпожу прибегать к различного рода воздержаниям.
В те дни сердце Гэндзи не знало покоя, и он нечасто навещал своих возлюбленных, хотя и не забывал о них.
Тут подошло время и для смены жрицы святилища Камо,[218] на чье место должна была заступить одна из дочерей Государыни-матери, Третья принцесса. Эту принцессу и сам Государь, и Государыня-мать жаловали особой любовью, поэтому многие опечалились, узнав о том, что ей придется занять столь исключительное положение в мире, но, увы, среди прочих принцесс подходящей не нашлось.
Порядок проведения церемоний редко выходит за рамки соответствующих священных установлений, однако на этот раз все положенные обряды были отмечены особой торжественностью. Немало нового было добавлено и к ритуалам празднества Камо, обычно ограниченным строгими предписаниями, и оно вылилось в зрелище, невиданное по своему размаху. Многие видели в этом дань достоинствам будущей жрицы. Число сановников, сопровождавших ее в день Священного омовения,[219] не превышало принятого установлениями, зато для этой цели были выбраны самые влиятельные лица, известные своими заслугами и красотой, причем все, начиная от их платьев и кончая седлами и прочим снаряжением, было подготовлено с величайшим тщанием. По особому указу в свиту включили и господина Дайсё. Желающие полюбоваться церемонией заранее позаботились о каретах, поэтому в назначенный день Первая линия была забита до отказа и шум стоял невообразимый. Убранство смотровых помостов[220] свидетельствовало о разнообразных вкусах их устроителей, края рукавов, выглядывающие из-за занавесей, уже сами по себе представляли собой редкое по красоте зрелище.
Молодая госпожа из дома Левого министра редко выезжала на подобные празднества, да и самочувствие ее в последние дни оставляло желать лучшего, но прислужницы ее взмолились:
— О, не отказывайтесь! Если мы поедем одни, чтобы полюбоваться зрелищем украдкой, оно потеряет для нас всю свою прелесть! Подумайте, ведь совершенно чужие люди приедут, чтобы посмотреть на господина Дайсё, даже низкие жители гор привезут из дальних провинций своих жен и детей. И всего этого не увидеть?!
— Сегодня вы чувствуете себя неплохо, поезжайте, а то дамы ваши совсем приуныли… — поддержала их госпожа Оомия, и тотчас отдали распоряжение готовить кареты к выезду.
Солнце поднялось уже довольно высоко, когда без особого шума они на конец выехали. Повсюду по обочинам стояли кареты, и для пышной свиты дочери Левого министра не оставалось места. Заметив неподалеку скопление карет, судя по всему, принадлежавших благородным дамам и не окруженных простолюдинами, слуги начали теснить их, расчищая место для своей госпожи.
Среди этих карет выделялись две с плетеным верхом, немного обветшавшие, но с изысканно-благородными занавесями. Обитательницы их прятались внутри, сквозь прорези виднелись края рукавов, подолы — все самых прелестных оттенков, причем было заметно, что дамы старались по возможности не привлекать к себе внимания.
— Наша госпожа вовсе не из тех, кто должен кому-то уступать, — решительно заявили слуги, не давая дотронуться до карет. Слуги и с той, и с другой стороны были молоды и хмельны изрядно, таким стоит только начать спорить — остановить их невозможно. Слуги постарше пытались их усмирить: «Ах, зачем же так!» — но, увы, безуспешно.
Кареты с плетеным верхом принадлежали матери жрицы святилища Исэ, Рокудзё-но миясудокоро, которая приехала сюда украдкой, надеясь отвлечься от мрачных мыслей. Люди из дома Левого министра, разумеется, узнали ее, но не подавали виду.
— Вы еще смеете прекословить! Кичиться влиянием господина Дайсё! Какая дерзость! — возмущались они.
В свите молодой госпожи были приближенные самого Гэндзи, которые не могли не сочувствовать миясудокоро, но, не желая обременять себя заступничеством, они предпочли не вмешиваться и сделали вид, будто знать ничего не знают. В конце концов кареты дочери Левого министра выстроились у дороги, а кареты Рокудзё-но миясудокоро оказались оттесненными в сторону, за кареты свиты, откуда дамам ничего не было видно. Надобно ли говорить о том, сколь велика была обида матери жрицы? В довершение всех несчастий ее узнали, как ни старалась она держаться в тени. Кареты ее имели весьма жалкий вид: подставки для оглобель были сломаны, сами оглобли повисли, зацепившись за ступицы чужих колес. И бесполезно былоспрашивать себя: «О, для чего я приехала сюда?» Она решила уехать, не дожидаясь начала, но кареты стояли так тесно, что выбраться было невозможно, а тут зашумели вокруг: «Начинается, вот они!» — и новая надежда заставила сердце ее забиться несказанно: еще миг — и она увидит его, жестокосердного!.. Но, увы, видно, здесь не Тростниковая речка (73), равнодушно проехал он мимо, лишь умножив ее душевные муки.
Повсюду в каретах, убранных и в самом деле роскошнее обыкновенного, сидели — одна другой наряднее — дамы, и Гэндзи, притворяясь, будто не обращает на них никакого внимания, то и дело улыбаясь, поглядывал искоса, словно пытался проникнуть взором сквозь прорези занавесей. Сразу приметив кареты госпожи из дома Левого министра, он с важным видом проехал мимо, и, наблюдая, с каким подобострастием склонялись перед супругой господина Дайсё его телохранители, миясудокоро совсем приуныла, осознав, сколь полным было ее поражение.
Стыдясь своих слез, она думала тем не менее: «Еще обиднее было бы упустить возможность увидеть его во всем блеске парадного облачения, окруженного восхищенной толпой». Среди участников празднества, поражавших взоры собравшихся великолепием нарядов и пышностью свит, выделялись своей красотой высшие сановники, но сияние Дайсё затмевало всех: право же, сравняться с ним не было никакой возможности. Особым сопровождающим господина Дайсё был назначен на сегодня Укон-но дзо-но куродо — придворные столь высокого звания выполняли подобные обязанности лишь в самых торжественных случаях, связанных прежде всего с высочайшим выездом. Прочие его спутники были также тщательно подобраны по красоте лиц и благородству осанки, и, когда Гэндзи, провожаемый восхищенными взглядами, проезжал мимо, даже травы и деревья склонялись перед ним.
Женщины отнюдь не низкого звания в дорожных платьях цубосодзоку,[221] отвернувшиеся от мира монахини, простолюдины, толкаясь и падая, спешили посмотреть на процессию. В любом другом случае это вызвало бы возмущение и даже негодование, но сегодня их поведение казалось вполне естественным. Занятно было посмотреть, как беззубые старухи с волосами, подобранными под покрывала, приставив ко лбу сложенные руки, снизу вверх глядели на господина Дайсё. Ничтожные простолюдины и те расплывались в улыбках, не подозревая, как безобразно искажаются при этом их лица. Даже дочери наместников, которых Гэндзи никогда и взглядом бы не удостоил, приехали в разукрашенных каретах и держались крайне вызывающе, стараясь привлечь к себе внимание, — забавное зрелище! Много здесь было и дам, которых тайно посещал он, печальнее обычного вздыхали они, ибо, глядя на него, лучше, чем когда-либо, сознавали незначительность собственного положения.
Принц Сикибукё любовался процессией с помоста. «Лицо господина Дайсё с годами становится все прекраснее… — думал он, с благоговейным трепетом глядя на Гэндзи, — такая красота способна привлечь даже взоры богов».
А дочь принца, вспомнив, с каким поистине необыкновенным упорством домогался ее Гэндзи, невольно устремилась к нему сердцем. «Право, даже если бы он был обычным человеком… А уж когда он таков…» Впрочем, о более коротких отношениях с ним она и не помышляла. Ее молодые прислужницы до неприличия громко восторгались Гэндзи.
В день празднества дочь Левого министра осталась дома. Нашлись люди, сообщившие господину Дайсё о ссоре из-за карет, и, пожалев миясудокоро, он с неудовольствием подумал о том, что молодой госпоже при всем ее благородстве и значении в свете, к сожалению, недостает чувствительности и душевной тонкости: «Разумеется, нельзя обвинять ее в заранее обдуманном намерении, но она проявила нечуткость, не понимая, что люди, связанные подобными узами, должны сочувствовать друг другу, презренные же слуги не преминули этим воспользоваться. А ведь миясудокоро так благородна, так чувствительна, как же ей должно быть горько теперь!» Гэндзи поехал было на Шестую линию, но его не приняли, объяснив свой отказ тем, что жрица Исэ еще не покинула родного дома, а жилище, осененное ветками священного дерева сакаки, недоступно для посторонних.[222] Понимая, сколь справедливо решение миясудокоро, Гэндзи все же укоризненно проговорил, уходя:
— Зачем? Не лучше ли быть снисходительнее друг к другу? Решив, что поедет на праздник из дома на Второй линии, Гэндзи сразу же отправился туда. Повелев Корэмицу распорядиться, чтобы подготовили кареты, он перешел в Западный флигель.
— А как дамы, готовятся ли к выезду? — спрашивает он, с улыбкой глядя на принаряженную юную госпожу. — Поедемте вместе.
Гладя девочку по пышным блестящим волосам, Гэндзи говорит:
— Давно уже вас не подстригали. Надеюсь, что день сегодня благоприятный.[223] — И, призвав почтенного календарника, о том справляется.
— Сначала дамы, — шутливо распоряжается он, глядя на прелестных девочек-служанок. Подстриженные концы их густых волос, живописно распушась, падают на затканные узорами верхние хакама и красиво выделяются на их фоне.
— А госпожу я сам подстригу, — говорит Гэндзи.
— Какие густые волосы, даже слишком. Что же будет потом? — И он принимается стричь. — Даже у женщин с очень длинными волосами волосы обычно бывают у лба короче. А у вас все пряди одинаковой длины. Это, пожалуй, не так уж и красиво.
Закончив подстригать, он произносит:
— Пусть растут до тысячи хиро.[224]
А кормилица Сёнагон, растроганная до слез, думает, на него глядя: «Чем заслужили мы такое счастье?»
произносит Гэндзи.
пишет юная госпожа на листочке бумаги — весьма искусно, но все еще с той долей детской непосредственности, которая в сочетании с незаурядной красотой всегда восхищала Гэндзи.
И в этот день кареты стояли так тесно, что не оставалось ни клочка свободной земли. У Императорских конюшен Гэндзи пришлось остановиться, ибо двигаться дальше не было возможности.
— Похоже, что здесь разместились кареты высших сановников. Как шумно! — проговорил Гэндзи в некотором замешательстве.
Тут из кареты, судя по всему, принадлежавшей какой-то знатной госпоже и до отказа наполненной дамами, призывно помахали веером.
— Не желаете ли стать здесь? Мы можем подвинуться.
«Это что еще за любительница приключений?» — удивился Гэндзи, но, поскольку место было и в самом деле подходящее, распорядился, чтобы кареты подвинули туда.
— Как сумели вы так удачно устроиться? Не могу не позавидовать, — велел передать Гэндзи, а дама прислала в ответ изящный веер, в сложенной части которого было написано следующее:
Да, не проникнуть за вервие запрета[226]».
Гэндзи узнал почерк — то была та самая Гэн-найси-но сукэ. «Поразительно, до каких пор будет она вести себя так, словно годы над ней не властны?» — с неприязнью подумал он и ответил довольно резко:
Почувствовав себя обиженной, Гэн-найси-но сукэ тем не менее сочла возможным передать ему такое послание:
Поскольку Гэндзи приехал не один, шторы в его карете оставались все время опущенными, и многие были весьма взволнованы этим обстоятельством. «Совсем недавно господин Дайсё предстал перед нами во всем блеске своего парадного облачения. Сегодня же он приехал как простой зритель. Жаль, что нельзя взглянуть на него. Кого прячет он в своей карете? Вряд ли это незначительная особа…» — гадали собравшиеся.
«Что за нелепый разговор о цветах?» — недовольно думал Гэндзи. Право, не будь эта дама такой бесцеремонной, она наверняка воздержалась бы от продолжения, хотя бы из уважения к его спутнице.
Немало горестей выпало на долю Рокудзё-но миясудокоро за прошедшие годы, но никогда еще она не была так близка к отчаянию. Недавние события убедили ее в том, что Гэндзи окончательно охладел к ней, но уехать, порвав с ним, она не решалась, страшась беспомощности, одиночества и насмешек. Остаться в столице? Но тогда она наверняка сделается предметом беспрерывных нападок и оскорблений… Жестокие сомнения денно и нощно терзали ее душу. «Рыбу ловит рыбак, и качается поплавок…» (74) Ей все казалось, что она и сама безвольно качается в волнах, и в конце концов она почувствовала себя совсем больной.
Господин Дайсё не придавал особого значения ее намерению уехать и не пытался сколько-нибудь решительно препятствовать ей в его осуществлении.
— Что ж, вы правы, решив покинуть меня, недостойного, ибо, очевидно, я не вызываю в вашем сердце ничего, кроме неприязни. Я понимаю, что слишком никчемен и все же, если бы вы остались со мной до конца, разве не свидетельствовало бы это о подлинной глубине ваших чувств? — уклончиво говорил он, не разрешая ее сомнений.
Надежда рассеять наконец тягостные мысли привела миясудокоро на берег Священной реки, но оскорбление, ей здесь нанесенное, вновь повергло ее в бездну отчаяния.
Тем временем тревога воцарилась в доме Левого министра. Состояние молодой госпожи резко ухудшилось, похоже, что не без участия злых духов. Подобные обстоятельства отнюдь не благоприятствовали тайным похождениям, и даже в дом на Второй линии Гэндзи заглядывал крайне редко. Что ни говори, а высокое положение дочери министра обязывало его относиться к ней с особым вниманием, и мог ли он не беспокоиться за нее теперь, когда ее недомогание было отчасти связано с неким не совсем обычным обстоятельством?[227] Разумеется, в его покоях постоянно справлялись соответствующие обряды и произносились заклинания.
Появлялись разные духи, среди них души умерших и души живых,[228] разные имена называли они, но один из них, отказываясь переходить на посредника, все цеплялся за тело больной и ни на миг не оставлял ее. Хотя он и не причинял ей особенно тяжких мучений, упорство, с которым он ее преследовал, не желая подчиняться даже самым искусным заклинателям, наводило на мысль, что все это было неспроста. Перебирая женщин, которых посещал господин Дайсё, дамы шептались:
— Миясудокоро и та, со Второй линии, пользуются его особой благосклонностью, потому и ненависть их должна быть страшна.
Обращались и к гадальщикам, но ничего определенного не узнали. Между тем ни у одного из обнаруживших себя духов не было причин питать к госпоже столь глубоко враждебное чувство. То были духи более чем незначительные, скорее всего просто воспользовавшиеся беспомощным состоянием больной: душа давно уже скончавшейся кормилицы, какие-то другие духи, с незапамятных времен не отстававшие от семейства министра… Госпожа захлебывалась от рыданий, приступы тошноты сотрясали ее грудь. Страдания ее были невыносимы, и окружающие совершенно потерялись от страха и горя.
От ушедшего на покой Государя то и дело приходили справиться о состоянии больной, он позаботился даже молебны во здравие ее заказать — милость особенная, несомненно повысившая ценность ее жизни в глазах окружающих.
Слух о том, что все в мире столь живо сочувствуют супруге господина Дайсё, не мог не взволновать миясудокоро. В доме Левого министра и не подозревали о том, что пустяковая, казалось бы, ссора из-за карет глубоко потрясла душу женщины, воспламенив ее безумной ревностью. Ничего подобного ей еще не доводилось испытывать. Мысли ее были совершенно расстроены, и скоро, почувствовав себя больной, она переселилась в другое место и прибегла к помощи молитв и заклинаний.[229] Прослышав о том, господин Дайсё встревожился и решил ее навестить. Поскольку нынешнее пристанище миясудокоро находилось в месте совершенно ему незнакомом, он пробирался туда с особыми предосторожностями. Рассчитывая смягчить ее сердце, Гэндзи объяснил женщине причины своего долгого, но, увы, невольного отсутствия, не преминув посетовать на ухудшившееся состояние больной.
— Я сам не так уж и беспокоюсь, но не могу не сочувствовать ее родным, которые от страха совсем потеряли голову. Потому я и счел своим долгом подождать, пока ей не станет лучше. Было бы крайне любезно с вашей стороны проявить великодушие… — говорит он, с жалостью глядя на ее измученное лицо. Ночь так и не сблизила их, а на рассвете, когда Гэндзи собрался уходить, миясудокоро, взглянув на него, почувствовала, как слабеет в ее сердце решимость расстаться с ним. Но она не могла не понимать, что теперь, когда возникло новое обстоятельство, заставившее Гэндзи сосредоточить все свои помыслы на особе, являвшейся главным предметом его попечений, ждать его было бы нестерпимой мукой… Так, встреча с ним не принесла ей облегчения, напротив…
А вечером пришло письмо:
«Больной, состояние которой в последние дни заметно улучшилось, внезапно снова стало хуже, и оставить ее невозможно…» — писал Гэндзи.
Полагая, что все это лишь обычные отговорки, миясудокоро все же решилась ответить:
Так, «мелок, увы, этот горный колодец…» (41) Но могла ли я ожидать другого?»
«Никто из здешних дам не может сравниться с ней почерком, — подумал Гэндзи, глядя на ее письмо. — Но почему же так нелепо устроен мир? Каждая женщина хороша по-своему: одна привлекает нравом, другая — наружностью, и нет ни одной, с которой было бы легко расстаться, но ведь нет и такой, которая была бы совершенна во всех отношениях». Ответил же он весьма неопределенно:
«Отчего же «промокли одни рукава?» (76) Не говорит ли это о том, что вашему чувству не хватает глубины?
Когда б состояние больной не вызывало опасений, я сам пришел бы с ответом…»
Злой дух снова обнаружил свою власть над госпожой из дома Левого министра, и муки ее были ужасны. «Не иначе это дух той, с Шестой линии, или умершего отца ее, министра», — начали поговаривать люди, и слух о том дошел до миясудокоро. Беспрестанно размышляла она об услышанном, и иногда мелькала в ее голове смутная догадка: «Я могу лишь роптать на собственную участь, и нет в моем сердце ненависти к кому-то другому. Но, может быть, и в самом деле, «когда думы печальны… душа блуждает во мраке?» (77)
За прошлые годы она испытала сполна все горести, какие только могут выпасть на долю женщины, но в таком отчаянии еще не бывала. Со дня Священного омовения, когда по воле ничтожного случая она оказалась опозоренной, уничтоженной презрением, на сердце у нее было неизъяснимо тяжело, одна лишь мысль о нанесенном ей оскорблении лишала ее покоя. Уж не оттого ли стало происходить с ней нечто странное? Стоило задремать ненадолго, и тут же представлялось ей: вот входит она в роскошные покои, где лежит какая-то женщина, будто бы ее соперница. Охваченная слепой, безумной яростью, она вцепляется в эту женщину, таскает ее за собой, бьет нещадно… Этот мучительный сон снился ей довольно часто. Иногда миясудокоро казалось, что она теряет рассудок. «Как горько! Неужели и в самом деле душа, «тело покинув, улетела куда-то далеко?..» (78) — думала она. — Люди отравляют подозрениями самые невинные проступки, а уж такой возможности они тем более не упустят».
И в самом деле, о ней уже начинали злословить. «Я слышала, что иногда человек, уходя из мира, оставляет в нем свои обиды, и неизменно содрогалась от ужаса, представляя себе, какими тяжкими прегрешениями должен быть обременен такой человек. И вот теперь нечто подобное говорят обо мне самой, да еще при жизни! Что за горестная судьба! О нет, я и думать больше не стану о нем», — снова и снова говорила себе она, но, право, «не это ль называется «думать»?» (79)
Жрица Исэ еще в прошедшем году должна была переехать во Дворец,[230] но из-за каких-то непредвиденных осложнений это произошло лишь нынешней осенью. На Долгую луну ей предстояло отправиться в Священную обитель на равнине, и шла подготовка к принятию Второго омовения. Однако миясудокоро целыми днями лежала в каком-то странном полузабытьи, и приближенные жрицы, чрезвычайно обеспокоенные состоянием больной, призвали монахов, чтобы читали молитвы в ее покоях.
Нельзя сказать, чтобы жизнь миясудокоро была в опасности, нет, но какой-то недуг постоянно подтачивал ее силы. Шли дни и луны, а ей все не становилось лучше. Господин Дайсё время от времени наведывался о ее здоровье, но состояние другой, более дорогой ему особы по-прежнему внушало опасения, и сердце его не знало покоя.
Срок, казалось, еще не вышел, как вдруг, застав всех в доме врасплох, появились первые признаки приближения родов, и больной стало еще хуже.
Поспешили прибегнуть к помощи новых молитв и заклинаний, но вот уже все средства оказались исчерпанными, а упорный дух все не оставлял ее тела. Даже самые искусные заклинатели были поражены и растерялись, не зная, что еще предпринять.
Но наконец с превеликим трудом удалось им смирить и этого духа, и, разразившись душераздирающими рыданиями, он заговорил:
— Приостановите молитвы, мне нужно сказать что-то господину Дайсё.
— Так мы и знали. Все это неспроста! — воскликнули дамы и подвели Гэндзи к занавесу, за которым лежала госпожа. Быть может, приблизившись к своему пределу, она хочет что-то сказать ему на прощание?
Левый министр и супруга его отошли в сторону. Монахи, призванные для совершения обрядов, негромко читали сутру Лотоса, и голоса их звучали необычайно торжественно. Приподняв полу занавеса, Гэндзи взглянул на больную: лицо ее было прекрасно, высоко вздымался живот. Даже совершенно чужой человек растрогался бы до слез, на нее глядя, так мог ли остаться равнодушным Гэндзи? Белые одежды[231] подчеркивали яркость лица и черноту длинных тяжелых волос, перевязанных шнуром. Никогда прежде не казалась она ему такой нежной, такой привлекательной. Взяв ее за руку, он говорит:
— Какое ужасное горе! — Тут голос его прерывается, и он молча плачет.
Женщина с трудом поднимает глаза, всегда смотревшие так холодно и отчужденно, и пристально вглядывается в его лицо. По щекам ее текут слезы, и может ли Гэндзи не испытывать жалости, на нее глядя? Мучительные рыдания вырываются из груди несчастной, и, подумав: «Видно, печалится о родителях своих, да и расставаться со мной вдруг стало тяжело», Гэндзи принимается утешать ее:
— Постарайтесь не поддаваться тягостным мыслям. Настоящей опасности все-таки нет. Впрочем, в любом случае мы снова встретимся, вы знаете, что это непременно произойдет. С отцом и матерью вы тоже связаны прочными узами, вы будете уходить из мира и возвращаться в него, но они не порвутся. Даже если вам и предстоит разлука, она не будет долгой…
Но тут послышался нежный голос:
— Ах, не то, все не то… Я так тяжко страдаю, потому и просила прекратить молитвы хотя бы на время. Я вовсе не думала приходить сюда вот так… Но душа, когда снедает ее тоска, видно, и в самом деле покидает тело…
И голос и поведение больной — все неузнаваемо преобразилось. «Невероятно!» — недоумевал Гэндзи и вдруг понял, что перед ним миясудокоро.
До сих пор он с возмущением отвергал любые слухи, касающиеся этой особы, видя в них лишь нелепые измышления злоречивых людей, и вот теперь получил возможность убедиться, что такое и в самом деле случается в мире. Это было ужасно.
— Вы говорите со мной, но не ведаю я — кто вы. Назовите же свое имя, — просит Гэндзи, и лежащая перед ним женщина совершенно уподобляется миясудокоро. Никаких слов недостанет, чтобы выразить то, что он почувствовал! Кроме того, ему было неловко перед сидящими неподалеку дамами.
Услыхав, что голоса затихли, и подумав: «Уж не легче ли ей», мать приблизилась с целебным отваром, а дамы приподняли госпожу, и вот тут-то появился на свет младенец. Сердца присутствовавших исполнились радости безграничной, но перешедшие на посредников злые духи, раздосадованные поражением своим, неистовствовали в тщетной ярости, да и о последе надо было еще позаботиться. В конце концов — и уж не благодаря ли великому множеству принятых обетов — благополучно справились с этим, и скоро монах-управитель с горы Хиэ и прочие высокие монахи, удовлетворенно вытирая потные лица, разошлись кто куда. Впервые за эти тревожные дни все облегченно вздохнули, думая: «Ну, теперь-то, что бы ни случилось…» И хотя в доме продолжали читать молитвы и произносить заклинания, напервое место вышли совершенно новые и весьма приятные заботы, заставившие людей отвлечься от тревожных мыслей. В положенные дни от ушедшего на покой Государя, от принцев и вельмож — от всех без исключения приходили гонцы с многочисленными роскошными дарами,[233] и в доме Левого министра царило радостное оживление. А поскольку младенец был к тому же еще и мужского пола, все полагающиеся по этому случаю обряды справлялись с подобающим размахом и пышностью.
Слухи о столь значительном событии не могли оставить миясудокоро равнодушной. «Говорили, что состояние супруги Дайсё вызывает опасения, но вот все окончилось благополучно», — думала она, то и дело возвращаясь мыслями к тому мгновению, когда столь удивительным образом потеряла всякую власть над собой. Ей все время казалось, что одежды ее пропитаны запахом мака,[234] она мыла голову, меняла платье, но неприятный запах не исчезал. Испытывая отвращение к самой себе, миясудокоро с ужасом думала о том, что станут говорить люди. Однако такую тайну невозможно было кому-то доверить, и она печалилась в одиночестве, постепенно теряя рассудок.
По прошествии некоторого времени Гэндзи удалось обрести душевное равновесие, и только все так же содрогался он от ужаса, вспоминая непрошеные признания, услышанные им в тот страшный миг. Велико было сочувствие, испытываемое им к миясудокоро, но еще больше страх, что, увидев ее близко, он не сумеет скрыть неприязни и скорее огорчит ее, чем обрадует. Все это во внимание принимая, Гэндзи не появлялся на Шестой линии и ограничивался короткими посланиями.
Между тем супруга его, изнуренная страданиями, по-прежнему требовала неусыпных забот, ее близкие терзались дурными предчувствиями, и Гэндзи, вполне разделяя их опасения, на время отказался от свиданий со своими возлюбленными.
Чувствуя себя совсем еще слабой, госпожа не могла принимать его в своих покоях. Младенец же был так хорош собой, что, глядя на него, трудно было избавиться от страха за его будущее. Гэндзи опекал сына с величайшей нежностью, и, видя, что сбываются самые заветные его чаяния, министр не скрывал своей радости, которую омрачала лишь тревога за дочь. «Но ведь от такого тяжкого недуга сразу не оправишься», — успокаивал себя он, и, право, можно ли было в такое время предаваться печали?
Глядя на новорожденного, который уже теперь многими чертами своими, особенно красивым разрезом глаз, обнаруживал удивительное сходство с принцем Весенних покоев, Гэндзи ощутил вдруг нестерпимое желание увидеть принца и собрался во Дворец.
— Давно уже не бывал яво Дворце, это меня беспокоит, пожалуй, сегодня я решусь нарушить свое затворничество. О, как хотел бы я побеседовать с вами не через занавес! Вы слишком отдалились от меня, — упрекал он супругу.
— И правда, стоит ли так заботиться о соблюдении внешней благопристойности? Как бы дурно вы ни чувствовали себя, нельзя все время разговаривать только через занавес, — говорили дамы, устраивая место для Гэндзи поближе к ее ложу. Он вошел и долго беседовал с ней.
Иногда госпожа отвечала еле слышным голосом, и даже это казалось ему чудесным сном, ибо слишком живо было в его памяти то мгновение, когда будто и не принадлежала она уже этому миру. Гэндзи делился с ней воспоминаниями о тех полных тревоги днях, но внезапно перед взором его вновь возникло ее лицо, так страшно изменившееся в тот миг, когда дыхание ее готово было прерваться, послышался неожиданно отчетливо произносящий слова голос, и ужас охватил все его существо.
— О многом хотелось бы мне рассказать вам, но вы еще слишком слабы, — говорит Гэндзи и предлагает ей целебный отвар. Глядя, как заботливо ухаживает он за больной, дамы умиляются: «И где только он научился?»
Госпожа и теперь прекрасна, но так изнурена болезнью, что кажется, вот-вот расстанется с этим миром. Что-то удивительно трогательное видится Гэндзи в ее беспомощности, и сердце его грустно сжимается. Волосы — ни единой пряди растрепанной — волнами струятся по изголовью, поражая редкостной красотой. «Чего же мне в ней недоставало все эти годы?» — недоумевает Гэндзи, внимательно разглядывая супругу.
— Я навещу ушедшего на покой Государя и сразу же вернусь. Мне было очень приятно видеться с вами вот так, без всяких церемоний, но госпожа Оомия не отходит от вашего ложа. Ее присутствие повергает меня в смущение, и я не решаюсь приблизиться. Постарайтесь же взбодриться и подумайте, не пора ли вам вернуться в нашу старую опочивальню. С вами обращаются как с ребенком, может быть, потому вы и не выздоравливаете.
С этими словами он встает и, облачившись в парадное платье, выходит, а госпожа провожает его более внимательным, чем обычно, взглядом.
Был как раз день Осеннего назначения,[235] и министр тоже собрался во Дворец. Его сыновья, превознося собственные заслуги и теша себя надеждами, не отходили от отца. Так и отправились все вместе. В доме стало безлюдно и тихо. И тут молодая госпожа внезапно стала снова задыхаться и корчиться в ужасных муках. Не успели послать гонца во Дворец, как дыхание ее оборвалось. Министр и его близкие, ног под собой не чуя, поспешили домой, и, хотя церемония была назначена на вечер, столь непредвиденное обстоятельство разрушило все ожидания. Люди стенали и плакали, но стояла глубокая ночь, и ни монаха-управителя с горы Хиэ, ни других монахов вызвать было невозможно. Несчастье случилось слишком неожиданно, в тот миг, когда все уже успокоились, подумав с облегчением: «Ну вот, самое страшное позади», и теперь, не помня себя от горя, домочадцы Левого министра бродили по дому, наталкиваясь на стены.
У ворот толпились гонцы, но принять их было некому: слуги лишь бестолково шумели, а близкие госпожи пребывали в таком отчаянии, что на них страшно было смотреть. Памятуя, что госпожой и прежде не раз овладевал злой дух, они внимательно наблюдали за ней, не притрагиваясь к изголовью дня два или три, но скоро черты ее начали меняться, и, поняв, что это конец, люди предались неизбывной скорби.
Горе Гэндзи усугублялось еще и неким, одному ему известным обстоятельством. Ему казалось, что теперь он сполна осознал, сколь печален удел мира, и слова участия даже от далеко не безразличных ему лиц лишь увеличивали его страдания. Ушедший на покой Государь, глубоко опечаленный кончиной молодой госпожи, тоже прислал гонца с соболезнованиями, и эта величайшая милость была единственной радостью среди печали, но глаза Левого министра не просыхали от слез. Следуя различным советам, испытали все самые действенные средства: «Не оживет ли?» И, даже заметив первые признаки тления, медлили, надеясь на невозможное, но, увы, все было тщетно, а время шло, и вот — делать нечего — повезли ее в Торибэ, и дорога туда была невыразимо печальна. Со всех сторон стекались люди, желавшие проводить ушедшую, собрались монахи из разных монастырей, возносящие молитвы Будде, на обширной равнине Торибэ не осталось ни клочка свободной земли. Один за другим приходили гонцы: от ушедшего на покой Государя, от Государыни-супруги, от принца Весенних покоев… Выразить свои соболезнования поспешили и многие другие, не менее значительные особы.
Левый же министр и подняться был не в силах:
— Близятся к концу мои годы, и вот дитя мое в полном расцвете молодости опередило меня. О горе!
Тягостно было смотреть, как плакал он, стыдясь своих слез. Величественные погребальные обряды продолжались всю ночь, а в сумеречный предрассветный час, взяв с собой на память об ушедшей горстку праха, люди вернулись в столицу. Казалось бы, обычное дело, вряд ли найдется человек, которого миновала бы доля сия, но Гэндзи, не оттого ли, что лишь однажды довелось ему испытать подобное, чувствовал, что сердце его вот-вот разорвется от горя.
Стояли последние дни Восьмой луны, и небо, по которому плыл еще заметный, но тающий с каждым мигом месяц, было исполнено печали. Глядя на Левого министра, словно блуждавшего во мраке отчаяния (3), — увы, могло ли что-нибудь быть естественней? — Гэндзи произнес, устремив взор свой на небо:
Вернувшись в дом Левого министра, он долго не мог заснуть. Вспоминал, какой госпожа была при жизни, и, терзаемый раскаянием, думал: «Ах, как же я был беспечен! Уверял себя в том, что раньше или позже она сама поймет… О, для чего заставлял я ее страдать из-за пустых прихотей своего легкомысленного сердца? Вот и вышло, что весь век свой прожила она, чуждаясь и стыдясь меня». Но, увы, что толку было думать об этом теперь?
Словно во сне облекся он в серое платье. «А ведь если бы я покинул этот мир первым, ее одежды были бы темнее…» — невольно подумалось ему, и он произнес:
Затем стал он произносить молитвы, и каким же прекрасным было в тот миг его лицо! Когда же, начав вполголоса читать сутру, дошел до слов: «О великий Фугэн, бодхисаттва Всепроникающей мудрости, в истинном мире достигший истинного просветления…»,[236] даже самые благоречивые монахи-наставники не смогли бы сравниться с ним. Глядя на младенца, он думал: «Да, «разве траву терпения нам удалось бы сорвать?» (80)» — и роса слез снова увлажняла его рукава. В самом деле, когда б не осталось и этой памяти…
Несчастная мать в горести сердечной не поднималась с ложа, и страх за ее жизнь заставил снова прибегнуть к молитвам.
Незаметно шли дни, в доме министра начали готовиться к поминальным службам, а как совсем недавно ни у кого и в мыслях не было ничего подобного, приготовления стали неиссякаемым источником новых печалей.
Даже самое обычное, далекое от совершенства дитя целиком занимает мысли родителей. Тем более естественно горе министра и его супруги. К тому же других дочерей у них не было, что и прежде доставляло им немало огорчений, теперь же они горевали больше, чем если бы драгоценный камень, бережно хранимый в рукаве, нечаянно упав, разбился вдребезги. Господин Дайсё тоже дни и ночи скорбел об ушедшей. Не бывая нигде, даже в доме на Второй линии, он все время свое отдавал ревностным молитвам. К возлюбленным же своим лишь писал, да и то нечасто.
Миясудокоро с Шестой линии под предлогом соблюдения строжайшей чистоты, особенно необходимой теперь, когда жрица находилась в помещении Левой привратной охраны, отказывалась отвечать ему.
У Гэндзи и прежде было немало причин для печали, теперь же жизнь в этом мире представлялась ему тяжким бременем. «Ах, когда б не новые путы (43), я бы стал наконец на путь, давно уже желанный…» — думал он, но тут же возникал перед его мысленным взором образ юной госпожи из Западного флигеля, которая, верно, тосковала теперь в разлуке с ним. Ночью он оставался один, и, хотя неподалеку располагались дамы, чувство одиночества не покидало его. «Есть ведь время в году…» (81) — думал он бессонными ночами и, призвав к себе славящихся красивыми голосами монахов, слушал, как взывали они к будде Амиде, пока не наступал невыразимо печальный рассвет.
Однажды Гэндзи всю ночь пролежал без сна на непривычно одиноком ложе. Вздыхая, прислушивался он к унылым стонам ветра, особенно тягостным в эту осеннюю пору. Когда же наконец рассвело, из тумана, окутавшего сад, возник чей-то слуга и, оставив ветку готовой распуститься хризантемы с привязанным к ней листком зеленовато-серой бумаги, удалился.
— Как тонко! — восхитился Гэндзи, глядя на письмо, и по почерку узнал миясудокоро.
«Надеюсь, Вы понимаете, почему я не писала к Вам все это время…
Взглянув на небо, я ощутила, что не в силах сдерживать более своих чувств…»
Письмо было написано изящнее обыкновенного, и Гэндзи почувствовал, что не в силах его отбросить, хотя, казалось бы… «Но, право, как ни в чем не бывало присылать свои соболезнования…» — неприязненно подумал он. Впрочем, порвав с ней теперь, он подал бы новый повод к молве. Это было бы слишком жестоко. Что ни говори, а ушедшая просто выполнила свое предопределение. Но почему же тогда он видел все так отчетливо, слышал так внятно?.. Ему не удавалось изгладить в своем сердце неприятные впечатления того давнего дня, и не потому ли он не мог заставить себя изменить свое отношение к миясудокоро? Долго медлил он с ответом, оправдывая себя нежеланием нарушать покой проходящей очищение жрицы, но в конце концов, решив, что не ответить было бы просто неучтиво, написал на лиловато-серой бумаге:
«Могу ли я надеяться, что Вы простите мне столь долгое молчание? Все это время я постоянно думал о Вас, но пристало ли мне в моем положении… Рассчитываю на Вашу снисходительность…
Постарайтесь же поскорее забыть… У меня есть, что сказать Вам, но, опасаясь, что письмо из дома, объятого скорбью, вряд ли будет уместно теперь…»
В то время миясудокоро жила на Шестой линии. Получив письмо, она украдкой прочла его, и сердце подсказало ей, на что намекал Гэндзи. «Значит, это правда, — в отчаянии думала она. — О злосчастная судьба!» Что скажет ушедший на покой Государь? Особая дружба связывала его с принцем Дзэмбо, они были близки друг другу более остальных братьев. И когда принц просил его позаботиться о судьбе жрицы, Государь заверил его, что будет опекать ее как родную дочь, и не раз предлагал им обеим оставаться жить во Дворце, на что она, миясудокоро, неизменно отвечала отказом, даже это полагая ниже своего достоинства. Увы, могла ли она вообразить, что позволит себе предаться влечению чувств, недопустимых в ее годы, и лишиться доброго имени? Мысли одна другой тягостнее осаждали ее голову, и она чувствовала себя совсем больной.
Однако же миясудокоро не зря славилась в мире душевной тонкостью и изяществом манер. Даже перебравшись в Священную обитель на равнине, она сумела окружить себя изысканной, полностью отвечающей современным вкусам обстановкой, и самые утонченные придворные считали долгом своим по утрам и вечерам стряхивать росу с травы у ограды. Услыхав о том, Гэндзи не особенно удивился: «Достоинства ее неисчислимы, я уверен, что, несмотря ни на что, буду тосковать о ней, ежели она решится уехать, презрев суету столичной жизни».
Миновали поминальные службы, но Гэндзи остался в доме Левого министра до окончания срока скорби. Сочувствуя другу, влачащему дни в непривычно унылой праздности, частенько заходил сюда Самми-но тюдзё и, дабы отвлечь Гэндзи от грустных мыслей, рассказывал разные истории, то поучительные, то немного нескромные. Нередко они забавлялись, вспоминая ту самую Гэн-найси-но сукэ.
— Пожалей же ее, не стоит насмехаться над бедной старушкой, — иногда останавливал друга Гэндзи, хотя и сам не упускал возможности посмеяться. Они поверяли друг другу подробности своих любовных похождений, вспоминали и ту светлую Шестнадцатую ночь, и тот осенний день, и разные другие случаи. И в конце концов, сетуя на безотрадность мира, начинали горько плакать.
Однажды в печальный сумеречный час, когда сеял мелкий дождик, Самми-но тюдзё, сменив серое платье на более светлое,[237] пришел к Гэндзи во всем блеске своей яркой, мужественной красоты. Он застал друга у перил возле западной боковой двери, откуда тот смотрел на поблекший от инея сад. Дул неистовый ветер, внезапно хлынул ливень, но слезы, казалось, были готовы поспорить и с ним.
— Дождем ли, облаком ныне стала она — не знаю[238]… - словно про себя произносит Гэндзи. Он сидит, подперши рукою щеку, а легкомысленный Самми-но тюдзё, восхищенно разглядывая его, думает: «Будь я женщиной, моя душа непременно осталась бы с ним даже после того, как тело покинуло этот мир». Он устраивается рядом, и Гэндзи, одетый по-домашнему небрежно, лишь поправляет шнурки. Он в чуть более темном, чем у Самми-но тюдзё, летнем носи,[239] из-под которого виднеется нижнее платье, сшитое из глянцевито-алого шелка. Но и в этом весьма скромном одеянии он хорош так, что, сколько ни гляди, невозможно оторвать глаз.
Самми-но тюдзё тоже устремляет свой умиленный взгляд на небо:
Куда исчезла, не ведаем… — словно про себя добавляет он, и Гэндзи отвечает:
Непритворная тоска звучит в его голосе.
«Право же, странно, — подумал Самми-но тюдзё, — он никогда не выказывал особенно нежных чувств по отношению к супруге своей, за что Государь не раз пенял ему. Жалость к Левому министру и некоторые другие обстоятельства, отчасти связанные с родственной близостью, существовавшей между ним и старшей госпожой, не позволяли ему разорвать этот союз, как ни безрадостен он был, и, признаюсь, мне не раз становилось жаль его, но только теперь я понял, что сестра занимала в его сердце особое место и он почитал и любил ее так, как должно почитать и любить супругу». Увы, это открытие лишь умножило горе Самми-но тюдзё, словно померк вдруг свет, все вокруг озарявший, и душу объял беспросветный мрак.
В сухой траве цвели горечавки и гвоздики. Гэндзи сорвал несколько цветков и после ухода Самми-но тюдзё послал их госпоже Оомия через Сайсё, кормилицу маленького господина:
Полагаете ли Вы, что этот цветок менее ярок?..»
В самом деле, личико невинно улыбающегося младенца поражало невиданной красотой. И с глаз старой матери не замедлили скатиться слезы, быстрые, как листы дерев, свеваемые порывами ветра…
Томительно-медленно текли часы, и Гэндзи, хотя совсем уже стемнело, решил написать госпоже «Утренний лик», полагая, что именно она способна откликнуться на его чувства.
Она давно не получала от него писем, что, впрочем, никого не удивляло, ибо их отношения никогда не были особенно короткими. Дамы передали ей письмо, ни словом не упрекнув Гэндзи. На китайской бумаге небесно-голубого цвета было написано:
В эту пору «всегда моросит холодный унылый дождь…» (83)
— Какое прекрасное письмо! В нем столько неподдельного чувства. Право, не ответить просто невозможно, — заявили дамы, а как госпожа и сама была того же мнения, она написала:
«Я хорошо представляю себе, что происходит на Дворцовой горе, но «как передать…» (84)
Трудно представить себе что-нибудь более изящное, чем это короткое послание, начертанное бледной тушью. Впрочем, не воображение ли Гэндзи наделило его совершенствами, которых оно не имело? Мир устроен так, что любой предмет проигрывает при более близком знакомстве. Возможно, именно по этой причине Гэндзи всегда влекло к женщинам, которые не спешили отвечать на его чувство. «Можно быть крайне сдержанным во всех проявлениях своих и при этом уметь выказать сочувствие и понимание, когда того требуют обстоятельства, — думал он. — Пожалуй, именно в этом и видится мне залог непреходящего согласия. Когда женщина выставляет напоказ свои чувства, стараясь убедить всех в своей необыкновенной утонченности и заботясь лишь о том впечатлении, которое производит, она, сама того не желая, обнаруживает свои недостатки, которые в противном случае остались бы незамеченными. Таких вряд ли можно счесть образцом для юной госпожи из Западного флигеля».
Он ни на миг не забывал, что его питомица грустит и скучает без него, однако же, расставаясь с ней, никогда не задумывался о том, как относится она к его частым отлучкам, и не мучился угрызениями совести. Она была для него словно дочь, лишенная материнской ласки и предоставленная потому целиком его попечениям.
Когда совсем стемнело, Гэндзи распорядился, чтобы зажгли светильники, и, призвав наиболее достойных дам, принялся беседовать с ними. С одной из них, по прозванию госпожа Тюнагон, была у него прежде тайная связь, но теперь он и не помышлял об этом, хотя, казалось бы…
«Ах, какое нежное у него сердце!» — думала Тюнагон, глядя на Гэндзи. А тот ласково беседовал с дамами.
— Общее горе сблизило нас, и жаль, что скоро придется расстаться. Так, наша скорбь неизбывна, но немало и других печалей ожидает нас впереди, — говорит он, и дамы плачут.
— О да, эта бесконечно горестная утрата повергла во мрак наши души, — отвечает одна из них. — Право, стоит ли говорить об этом? Но можем ли мы не думать о том времени, когда вы безвозвратно покинете наш дом, и именно это, увы…
Голос ее прерывается, и, тронутый ее словами, Гэндзи тоже не может сдержать слез.
— Безвозвратно? Для чего вы так говорите? Неужели я кажусь вам настолько бездушным? А между тем, проявив должное терпение, вы в конце концов и сами убедитесь в несправедливости своих подозрений. Впрочем, мир так изменчив… — говорит он, глядя на огонь, и увлажнившиеся глаза его прекрасны. Понимая, что девочка-сирота, любимица ушедшей госпожи, должна чувствовать себя особенно одинокой, Гэндзи обращается к ней:
— А ты, Атэки, положись теперь на меня. Я о тебе позабочусь.
И девочка горько плачет. Она очень мила в более темном, чем у других, нижнем платье, на которое наброшено черное верхнее, и в хакама цвета засохшей травы.
— Прошу тех, в ком жива память о минувшем, постараться превозмочь уныние и не оставлять своими заботами наше милое дитя. Былые дни канули в прошлое, а если и вы покинете этот дом… — говорит он, снова и снова призывая дам к терпению. Но безутешна их печаль, ибо не могут они не понимать, что теперь он еще реже будет заглядывать сюда.
Приходит Левый министр и без особой торжественности оделяет дам дарами: мелкими, не стоящими внимания безделушками и более значительными вещами, действительно достойными названия памятных.
Не в силах и далее влачить дни в томительном бездействии, Гэндзи отправился навестить ушедшего на покой Государя.
Когда карета была готова и собрались передовые, словно проникнув в смысл происходящего, начал моросить мелкий дождик; тревожно подул, увлекая листы, ветер, и осиротевшие дамы острее прежнего ощутили печаль одиночества, их ненадолго высохшие рукава вновь увлажнились.
— Оттуда я поеду на Вторую линию, где и останусь на ночь, — сказал Гэндзи, и его приближенные, подумав, очевидно: «Что ж, будем ждать там», тоже один за другим покинули дом Левого министра, и, хотя дамы понимали, что расстаются с Гэндзи не навсегда, глубокое уныние овладело ими. Министр же и супруга его с этим ударом утратили последний остаток сил. Госпоже Оомия Гэндзи прислал письмо следующего содержания:
«Ушедший на покой Государь изволит проявлять беспокойство, и сегодня я отправлюсь к нему. Совсем ненадолго покидаю я Вас, но тяжело на сердце, и мысли в смятении; не понимаю, как удалось мне дожить до этого дня! Встреча с Вами скорее умножила бы мою тоску, потому и не зашел я проститься…»
У госпожи в глазах померкло от слез, в глубоком унынии пребывая, не могла она и ответить. Министр же тотчас пришел к Гэндзи. Пораженный глубочайшей горестью, он не отнимал от глаз рукава. На него глядя, печалились и дамы. Гэндзи тоже плакал, сокрушаясь о превратности мира. Искренность его горя вызывала сочувствие, но как же прелестно было его заплаканное лицо! После долгого молчания министр говорит:
— Старики склонны лить слезы по любому поводу. У меня же глаза не просыхают и на миг, ибо скорбь моя безутешна. Опасаясь, что люди осудят меня за слабость и малодушие, я не хожу никуда, даже к ушедшему на покой Государю не наведываюсь. Надеюсь, вы объясните ему это при случае. О, как тяжело, когда тебя, старика, годы которого близятся кконцу, опережает твое собственное дитя.
Изо всех сил старался министр преодолеть волнение, и нельзя было без жалости смотреть на него.
— Всем известно, сколь неисповедимы пути мира, — отвечает Гэндзи, сам то и дело всхлипывая, — и невозможно предугадать, кто останется, а кто уйдет раньше, и все же, теряя близких, каждый раз испытываешь ни с чем не сравнимое потрясение. Разумеется, я расскажу обо всем Государю, и он наверняка поймет вас.
— Дождь не перестает, спешите же, пока не стемнело, — торопит его министр.
За занавесями, перегородками, везде, куда может проникнуть взор, сидят, прижавшись друг к другу, дамы в темно- и светло-серых одеяниях, числом около тридцати. Уныло понурившись, они роняют слезы, и сердце Гэндзи печально сжимается.
— Остается здесь существо, которое не можете вы лишить своих попечений, и я утешаюсь, говоря себе: «Все-таки и теперь будет он заходить в наш дом». Но неразумные дамы совсем пали духом, им кажется, что они видят вас сегодня в последний раз, что, уехав, вы позабудете этот старый приют. Даже вечная разлука с госпожой, пожалуй, печалит их меньше, чем расставание с вами, слишком тяжело сознавать, что бесследно уходят в прошлое годы, когда, хоть и нечасто, выпадало им счастье близко видеть вас. И это неудивительно. О, я не мог не замечать, что в ваших отношениях с супругой не возникло доверительной близости, но тешил себя надеждой, увы, напрасной, что, быть может, когда-нибудь… В самом деле, какой тягостный вечер… — говорит министр и снова плачет.
— Уверяю вас, ваши опасения напрасны. Если раньше я и позволял себе так долго не наведываться к вам, то только потому, что, так же как и вы, надеялся на будущее, легкомысленно полагая, что когда-нибудь… Теперь же мне не на что надеяться, так стану ли я вами пренебрегать? — говорит Гэндзи и выходит, печально вздыхая, а министр, проводив его, возвращается в покои.
Все здесь, начиная с убранства, осталось таким же, как в прежние дни, но кажется, что перед тобой — пустая скорлупка цикады… Перед занавесом разбросаны принадлежности для письма. Подняв исписанные почерком Гэндзи листки бумаги, министр разглядывает их, отирая глаза, и нетрудно предположить, что некоторые молодые дамы, на него глядя, улыбаются сквозь слезы. Строки из чувствительных старинных стихов, китайских и японских, небрежно начертанные разными знаками — и скорописными и уставными… «Какой прекрасный почерк!»- возведя глаза к небу, восхищается министр. Может ли он не жалеть, что отныне Гэндзи станет ему чужим?
«Неуютен расшитый широкий покров, кто с властителем делит его?» — написано на листке бумаги, а рядом:
Возле слов «как приникший к ним иней тяжел…»[240] начертано:
Среди бумаг — засохшие цветы, видно те самые. Показав их супруге, министр говорит:
— Воистину, велико наше горе, но я нахожу утешение в мысли, что мир знает немало подобных примеров. Как ни горько сознавать, что, будучи связанной с нами столь ненадолго, она причинила нам столько страданий, я все же стараюсь смириться, видя в том неизбежное предопределение, возникшее еще в предыдущей жизни. Но влекутся дни, и тоска становится все нестерпимее, а сегодня и господин Дайсё покинул нас, став нам отныне чужим. Право, это больше, чем способен вынести человек. Прежде мы горевали, когда он приходил слишком редко, печалились, лишь день или два его не видя, так как же нам жить, когда утрачен свет наших дней и ночей?
Голос больше не повинуется ему, и он плачет, а сидящие перед ним прислужницы содрогаются от рыданий, на него глядя. Право, какой унылый, холодный вечер! Молодые дамы, сходясь там и здесь, поверяют друг другу свои печали.
— Господин изволит полагать, что мы должны находить утешение в заботах о младенце, но ведь он так еще мал, этот прощальный дар госпожи… — сетуют они, и некоторые решают: «Уедем ненадолго, а потом снова вернемся». Новые разлуки — новые испытания для чувствительного сердца.
Когда Гэндзи прибыл во дворец ушедшего на покой Государя, тот не мог скрыть волнения: «Ах, как сильно он исхудал, сказались, видно, дни, проведенные в постах и молитвах». Тут же распорядился, чтоб принесли еды, хлопотал, выказывая самое трогательное участие. Затем они перешли в покои Государыни, и дамы не могли сдержать восхищения, глядя на Гэндзи. А сама Государыня передала через Омёбу:
«Даже я не в силах избыть тоски… Дни текут и текут… Представляю, как, должно быть, тяжело вам».
«О, я всегда знал, как непрочен мир, но лишь теперь убедился в этом на собственном опыте. Жизнь с ее беспрерывными муками сделалась для меня противным бременем, и, только черпая утешение в ваших посланиях…» — ответил ей Гэндзи.
Безысходная грусть отражалась сегодня на его лице, и у всякого, кто смотрел на него, сердце разрывалось от жалости.
Верхнее платье без узоров, из-под которого выглядывало нижнее серое со шлейфом, закрученная лента на шапке — в этом одеянии скорби он казался пленительнее, чем в любом роскошном наряде. Поздней ночью Гэндзи уехал, выразив свое сожаление и тревогу по поводу того, что давно уже не навещал принца Весенних покоев.
К его возвращению дом на Второй линии был вычищен и доведен до полного блеска, приближенные — и мужчины и женщины — собрались, дабы встретить своего господина. Прислужницы высших рангов, приехав сюда ради такого случая, кичились своими нарядами, и, глядя на них, Гэндзи с щемящей жалостью в сердце вспоминал унылые, прижавшиеся друг к другу фигуры обитательниц дома Левого министра. Переодевшись, он прошел в Западный флигель.
Подошла пора Смены одежд,[241] и убранство покоев сверкало безукоризненной чистотой, нигде не было ни пятнышка. Изящно одетые молодые дамы и девочки-служанки радовали взор своей миловидностью. «Чувствуется, что Сёнагон обо всем позаботилась как следует», — думал Гэндзи, с удовольствием глядя вокруг. Наряд юной госпожи тоже поражал великолепием.
— Мы долго не виделись, за это время вы стали совсем взрослой, — говорит Гэндзи, приподнимая край низкого занавеса, чтобы взглянуть на свою воспитанницу, а она смущенно отворачивается. Красота ее безупречна! Глядя на ее освещенный огнем светильника профиль, ниспадающие волосы, Гэндзи чувствует, как несказанная радость овладевает его сердцем: «Она становится все больше и больше похожей на ту, что владеет моими думами». Присев рядом, он рассказывает девочке о том, что произошло за дни их разлуки.
— Мне многое хотелось бы поведать вам, но вряд ли это благоприятно теперь, поэтому я отдохну немного в своих покоях, а потом приду опять. Теперь мы будем видеться часто, так часто, что боюсь, как бы не наскучило вам мое присутствие… — говорит он, и Сёнагон радуется, хотя и не может окончательно отрешиться от своих сомнений.
«Тайные отношения связывают его со многими знатными особами, — думает она. — Как бы на смену ушедшей не пришла другая, обладающая столь же тяжелым нравом». Право, ей не следовало бы быть такой недоверчивой!
Перейдя в свои покои, Гэндзи лег отдохнуть, велев даме по прозванию госпожа Тюдзё растереть ему ноги.
Наутро он отослал письмо к своему маленькому сыну. Ответ был весьма трогателен, и безысходная печаль сжала сердце Гэндзи. Отдавшись глубочайшей задумчивости, коротал он дни, но ни разу не возникало у него желания навестить кого-нибудь из прежних возлюбленных, даже ни к чему не обязывающие тайные встречи казались ему теперь обременительными.
Юная госпожа между тем, повзрослев, стала еще прекраснее, всеми возможными совершенствами, приличными ее полу, обладала она, и вот, рассудив, что возраст уже не помеха, Гэндзи начал от случая к случаю намекать ей на свои чувства, но она, судя по всему, ничего не понимала. По-прежнему праздный, проводил он дни в ее покоях, играя с ней в «го» или в «отгадывание ключа».[242] Обаятельная и сметливая от природы, юная госпожа умела придавать очарование даже самым пустяковым забавам, и Гэндзи, который до сих пор, ни о чем другом не помышляя, лишь любовался ее детской прелестью, почувствовал, что не в силах больше сдерживаться, и как ни жаль ее было…
Кто знает, что произошло? Отношения меж ними были таковы, что никто и не заметил бы перемены. Но наступило утро, когда господин поднялся рано, а юная госпожа все не вставала. «Что такое с ней приключилось? Уж не заболела ли?» — тревожились дамы, на нее глядя, а Гэндзи, удаляясь в свои покои, подсунул под полог тушечницу. Когда рядом никого не было, госпожа с трудом приподняла голову: у изголовья лежал свернутый листок бумаги. Равнодушно она развернула его:
было начертано там небрежным почерком. Никогда прежде она не подозревала в нем подобных желаний и теперь недоумевала: «Как могла я безоглядно доверять столь дурному человеку?»
Днем Гэндзи снова пришел в ее покои:
— Говорят, вам неможется? Но что с вами? Вы и в «го» не хотите сегодня играть. Мне будет скучно, — пеняет он ей, заглядывая за занавеси: юная госпожа лежит, набросив на голову платье. Дамы почтительно удаляются, и он подходит к ее ложу.
— Откуда такая неприязнь ко мне? Вот уж не ожидал, что вы можете быть так жестоки! Дамам наверняка покажется это странным.
Откинув платье, он видит, что она лежит вся в поту, а волосы на висках совершенно мокрые.
— О, как дурно! В такой день не к добру… — говорит Гэндзи и пытается ее утешить, но, видно, по-настоящему рассердившись на него, она не отвечает.
— Хорошо, раз так, больше вы меня не увидите. Как не стыдно, — сердится Гэндзи, потом открывает тушечницу, но там пусто. «Какое дитя!» — умиляется он и целый день проводит у изголовья юной госпожи, пытаясь ее развеселить: но она все хмурится, отчего кажется ему еще милее.
Вечером принесли лепешки-мотии по случаю дня Свиньи.[243] Поскольку пора скорби еще не миновала, никаких пышных церемоний в тот день не устраивали, только во флигель были доставлены изящные кипарисовые коробки, наполненные разнообразными лепешками. Увидав их, Гэндзи прошел в южную часть дома и кликнул Корэмицу.
— Такие же мотии, только поменьше, принесешь завтра к вечеру. Сегодня день не совсем благоприятный, — сказал он, улыбаясь, и сметливый Корэмицу тут же догадался, в чем дело.[244] Не требуя дополнительных пояснений, он лишь заметил с видом весьма важным:
— О да, для вкушения праздничных мотии должно заранее выбрать день. Сколько же их прикажете подать в честь дня Крысы?[245]
— Одной трети[246] этих будет достаточно, — ответил Гэндзи, и Корэмицу, вполне удовлетворенный, вышел.
«Сразу видно, что опытен в таких делах», — подумал Гэндзи.
Никому ничего не говоря, Корэмицу чуть ли не собственноручно приготовил мотии в своем доме.
Гэндзи так и не сумел развеселить госпожу, и у него возникло довольно странное, но не лишенное приятности ощущение, что он только что похитил эту юную особу и привез к себе в дом.
«Все эти годы я неизменно питал к ней самые нежные чувства, — думал он, — но и они ничто по сравнению с тем, что я испытываю теперь. Право, непостижимо человеческое сердце! Мне кажется, я и на одну ночь не смогу с ней расстаться».
Глубокой ночью были тайно доставлены в дом заказанные им мотии.
«Присутствие Сёнагон, женщины уже немолодой, может смутить госпожу, — подумал предусмотрительный Корэмицу и, поразмыслив, вызвал дочь Сёнагон, девушку по прозванию Бэн.
— Потихоньку отнеси госпоже вот это, — сказал он, пододвигая к ней коробку, в каких обычно держат курильницы.
— Это праздничные мотии, поставь их поближе к изголовью. Да смотри, не заблудись по дороге, — пошутил Корэмицу, а Бэн, не совсем поняв, что он имеет в виду, ответила:
— Блудить? Да я никогда… Как вы могли подумать? — И взяла коробку.
— Такие слова не к добру сегодня, — предостерег ее Корэмицу, — лучше от них воздерживаться.
Бэн была слишком юна, чтобы проникнуть в смысл происходящего, однако же послушно пошла и подсунула коробку под занавес со стороны изголовья. А о дальнейшем позаботился, видно, сам Гэндзи. Дамам, разумеется, ничего не было известно, только самые близкие из них могли кое о чем догадаться, заметив, что на следующее утро Гэндзи вынес из опочивальни госпожи коробку для мотии.
И блюда, и прочая утварь — когда только Корэмицу успел все приготовить? — были великолепны, особенным изяществом отличался столик на ножках-цветах, а уж о самих мотии и говорить нечего — тщательно продуманные по форме, они едва ли не превосходили все остальное. Право, смела ли Сёнагон рассчитывать на такое? Она была тронута до слез, видя столь бесспорное свидетельство благосклонности Гэндзи, не упустившего из виду никакой мелочи.
— Жаль все же, что он потихоньку не поручил этого нам, — перешептывались дамы. — Что мог подумать Корэмицу?
Теперь, даже ненадолго отлучаясь во Дворец или к ушедшему на покой Государю, Гэндзи не находил себе места от тревоги, милый образ неотступно стоял перед его мысленным взором, и, изнывая от тоски, он удивлялся самому себе: «Право, непостижимо человеческое сердце!»
От женщин, которых некогда он посещал, беспрестанно приходили полные упреков письма, многих он искренне жалел, но новая подруга по изголовью была столь трогательна, что Гэндзи и помыслить не мог о других. «Проведу ли ночь я без тебя?» (85) — повторял он и не посещал никого, оправдываясь нездоровьем.
«Пройдет время, мир перестанет казаться мне столь унылым, тогда я и навещу Вас», — отвечал он на все послания.
Нынешняя Государыня-мать была крайне встревожена поведением особы из покоев Высочайшего ларца, которой думы по-прежнему стремились лишь к Дайсё.
— Стоит ли огорчаться? — говорил Правый министр. — Теперь, когда нет больше той, что занимала в его сердце особое место…
Но Государыня, так и не сумевшая преодолеть свою ненависть к Гэндзи, стояла на своем:
— По-моему, будет гораздо лучше, если сестра поступит на службу в высочайшие покои и через некоторые время займет там приличное положение.
Гэндзи же питал к дочери Правого министра нежную привязанность, и досадно было ему терять ее, однако сердце его безраздельно принадлежало другой. «Для чего? Век наш так краток. Сосредоточу мысли свои на ней одной и постараюсь не навлекать на себя женского гнева», — думал он как видно наученный горьким опытом.
Весьма сочувствуя миясудокоро с Шестой линии, Гэндзи тем не менее понимал, что открытый союз с ней поставит его в крайне затруднительное положение. Вот если бы можно было все оставить по-старому, он с удовольствием побеседовал бы с нею при случае… Да, несмотря ни на что Гэндзи не переставал думать и о ней.
До сих пор никто не знал, что за особа живет в доме на Второй линии, но теперь, решив, что скрываться далее недопустимо и следует поставить в известность хотя бы ее отца, Гэндзи, не придавая делу широкой огласки, вместе с тем с необычайным тщанием начал готовиться к церемонии Надевания мо. Но ничто, никакие знаки внимания не радовали юную госпожу. Даже шутки Гэндзи лишь смущали и тяготили ее теперь, она все больше замыкалась в себе и за сравнительно короткий срок так изменилась, что ее трудно было узнать. Глядя на нее, Гэндзи и умилялся и печалился одновременно.
— Зря, видно, я так заботился о вас все эти годы. Ненамного стали мы ближе (86), и это нехорошо, — упрекал он ее.
А тут и год сменился новым.
В первый день года Гэндзи, как всегда, отправился с поздравлениями к ушедшему на покой Государю, после чего посетил Дворец и особо Весенние покои. Оттуда он поехал к Левому министру.
Министр же — даром, что новый год на ступил, — говорил только о прошлом и целыми днями сидел, погруженный в мрачное уныние. Когда неожиданно приехал Гэндзи, он постарался взять себя в руки, но, увы, это оказалось ему не по силам. Он все глядел и не мог наглядеться на Гэндзи, в красоте которого — не потому ли, что тот повзрослел на год, — появилось что-то величественное.
Расставшись с министром, Гэндзи прошел в покои ушедшей, и собравшиеся там дамы, увидев дорогого гостя, тоже не могли сдержать слез.
Гэндзи зашел взглянуть и на маленького сына и обнаружил, что тот заметно подрос и его улыбающееся личико стало еще миловиднее. Разрезом глаз, очертаниями рта мальчик необыкновенно напоминал принца Весенних покоев, и, глядя на него, Гэндзи невольно подумал: «Всякий, кто увидит его, не преминет осудить меня».
Убранство покоев совсем не изменилось, на вешалке, как и прежде, висело его парадное платье, но — оттого ли, что не было рядом женского, — оно казалось унылым, поблекшим…
Пришли с письмом от госпожи Оомия:
«Сегодня я особенно старалась обрести присутствие духа и надеялась, что Ваш приезд… Но, увы, напротив…
Платье, как всегда в эти дни, сшитое мною для Вас, вряд ли придется Вам по вкусу. В глазах моих померкло от слез, и я не уверена, что мне удалось удачно подобрать оттенки… Но прошу Вас, наденьте его хотя бы сегодня».
Вместе с письмом принесли праздничный наряд, столь заботливо приготовленный старой госпожой. Нижнее платье, в которое она просила его облачиться, поразило Гэндзи необыкновенно тонким сочетанием красок и редкостным своеобразием тканого узора. Он сразу же надел его, подумав: Могу ли я не оправдать ее ожиданий? Не приди я сегодня, каким ударом это было бы для нее». И сердце его мучительно сжалось.
А вот что он ответил:
«Я поспешил сюда, желая, чтобы Вы увидели сами, настала иль нет весна но, увы… Слишком многое всколыхнулось в памяти, и не могу вымолвить ни слова.
Не в силах я справиться с тоской…»
А вот что написала ему она:
Да, безутешна была их печаль…
 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |