"Повесть о Гэндзи. Книга 1" - читать интересную книгу автора (Сикибу Мурасаки)
Вечерний лик
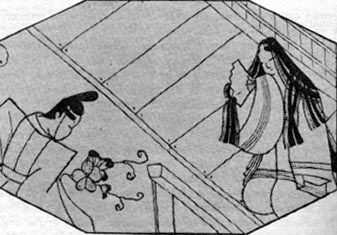 |
Гэндзи, 17 лет
Дама с Шестой линии (Рокудзё-но миясудокоро), 24 года, — возлюбленная Гэндзи
Дайни — кормилица Гэндзи
Корэмицу — сын кормилицы Дайни, приближенный Гэндзи
Монах Адзари — сын кормилицы Дайни
Госпожа Сёсё — дочь кормилицы Дайни
Супруга правителя Иё (Уцусэми)
Правитель Иё (Иё-но сукэ) — супруг Уцусэми, отец правителя Кии и Нокиба-но оги
Дочь правителя Иё, ранее — госпожа Западных покоев (Нокиба-но оги)
Когими — брат Уцусэми
Молодая госпожа из дома Левого министра (Аои), 21 год, — дочь Левого министра, супруга Гэндзи
Укон — прислужница Югао
То-но тюдзё — сын Левого министра, брат Аои, первой супруги Гэндзи
Дама из дома с цветами «вечерний лик» (Югао), 19 лет, — возлюбленная То-но тюдзё, потом Гэндзи
Куродо-но бэн — сын Левого министра, младший брат То-но тюдзё и Аои
Государь (имп. Кирицубо) — отец Гэндзи
Левый министр — тесть Гэндзи
В те дни, когда Гэндзи тайно посещал некую особу, жившую на Шестой линии, он как-то раз, возвращаясь из Дворца, решил навестить свою кормилицу Дайни, которая занемогла тяжкой болезнью и приняла постриг.[80]
Разыскав ее дом на Пятой линии, Гэндзи подъехал к нему, но ворота оказались запертыми, и, послав за Корэмицу, он стал ждать, пока их откроют, разглядывая между тем невзрачные окрестности. Рядом с домом кормилицы стоял небольшой домик, окруженный новым кипарисовым забором. Кое-где верхние створки решеток были подняты, и в отверстиях белели опрятные шторы, сквозь которые виднелись прелестные женские головки — женщины с любопытством поглядывали на улицу. Наблюдая, как они двигались по дому, Гэндзи попробовал представить их себе во весь рост и вынужден был заключить, что они чрезмерно высоки.[81] «Кто же там живет?» — заинтересовался он, слишком уж необычным показалось ему это жилище.
Гэндзи приехал сюда в самой скромной карете и даже без «передовых». «Кто меня здесь узнает?» — успокаивал он себя, украдкой выглядывая из кареты. Ворота у дома, привлекшего его внимание, были подняты, и взору Гэндзи представилось столь тесное и бедное жилище, что ему стало грустно. «Где в целом мире…» (24). Впрочем, ведь и драгоценные хоромы не лучше.
Ограда, сбитая из поперечных планок, была увита прелестным зеленым плющом, из зелени, горделиво улыбаясь, выглядывали белые цветы.
— «Я спросил у той, что стояла» (25), — невольно вырвалось у Гэндзи, и один из спутников его, почтительно склонившись, ответил:
— Это белое, пышно цветущее (25) называют «вечерний лик».[82] Имя — словно у женщины… Но на какой неприглядной ограде приходится им цвести.
Да, вокруг теснились бедные домишки, там и сям — покосившиеся, ветхие стены… А по застрехам, увы, тоже не отличавшимся крепостью, вились цветы.
— Что за жалкая судьба у этих цветов! — сказал Гэндзи. — Сорвите мне один.
Кто-то из приближенных, пройдя сквозь приподнятую створку ворот, сорвал цветок. Тут приоткрылась дверца — как ни странно, довольно изящная — и на пороге появилась прелестная девочка-служанка, за ней тянулись длинные хакама из нелощеного желтого шелка. Поманив приближенного Гэндзи, она протянула ему благоуханный белый веер и сказала:
— Не желаете ли поднести цветы на веере? Боюсь, что их стебли недостаточно красивы…
Как раз в этот миг, открыв ворота, появился Корэмицу и взял цветы, чтобы самому поднести их Гэндзи.
— Прошу простить мне столь долгое отсутствие, — рассыпался он в извинениях. — К несчастью, куда-то затерялись ключи. Разумеется, никому из здешних жителей и в голову не придет… Но заставить вас ждать на этой грязной улице…
Карету ввели во двор, и Гэндзи вышел. У ложа больной сидели старший брат Корэмицу, монах Адзари,[83] зять — правитель Микава, дочь… Все они радостно склонились перед дорогим гостем. Больная и та приподнялась на ложе.
— Поверьте, я вовсе не дорожу своей жизнью, но до сих пор мне трудно было смириться с мыслью об уходе из этого мира по той лишь Причине, что я не смогу больше прислуживать вам, ловить ваш милостивый взгляд… Потому и медлила я, но был мне ниспослан знак, что принят мой обет — болезнь отступила, а сегодня еще и вы удостоили меня своим посещением. Теперь я буду со спокойной душой дожидаться, когда снизойдет на меня свет будды Амиды,[84] - говорит она и, обессилев, плачет.
— Все эти дни я не переставал сокрушаться о том, что выздоровление ваше затягивается. С сердцем, стесненным от горести, воспринял я весть о вашем решении отказаться от мира. Вы должны жить долго, дабы увидеть, сколь высоких чинов я достигну. После же ничто не помешает вам занять самое почетное из девяти мест в Чистой земле.[85] Говорят, что дурно уходить из мира, когда хоть что-то привязывает к нему, это может неблагоприятно сказаться на будущем, — отвечает Гэндзи, глотая слезы.
Все кормилицы одинаковы — питомца своего, которого воспитание составляло главнейший предмет их попечений, даже самого никчемного, готовы они считать средоточием всех мыслимых совершенств, а уж как не гордиться кормилице Гэндзи? Разумеется, ей кажется, что, прислуживая ему, она и сама стала особой весьма значительной, высочайших милостей удостоившейся. И разве удивительно, что, глядя на него теперь, она то и дело заливается беспричинными слезами? Дети же ее неодобрительно переглядываются: «Ну не дурно ли так плакать, могут подумать, что слишком трудно ей окончательно расстаться с миром, от которого она отреклась…» А Гэндзи, чувствуя себя глубоко растроганным, говорит:
— В малолетстве потерял я тех, чьи попечения должны были поддерживать мое существование, после этого многие принимали меня под свои крылья, но не могу вспомнить никого, к кому был бы я привязан так, как к вам. С тех пор как я стал взрослым, многочисленные предписания не позволяют мне иметь вас постоянно рядом с собой, я не могу даже навещать вас так часто, как мне этого хочется, но, поверьте, я всегда тоскую, когда долго не вижусь с вами. О, когда б «люди больше не знали неизбежных разлук…» (26).
Пока Гэндзи любезно беседовал с кормилицей, аромат от рукавов, которыми отирал он слезы, распространился по всему дому, и окружающие невольно задумались: «Сколь необычно все же предопределение этой женщины!» Так, даже дети, ранее осуждавшие монахиню, теперь рыдали, и рукава их поблекли от слез.
— Пора снова приступать к обрядам, — распорядившись, Гэндзи собрался уезжать, но перед отъездом попросил Корэмицу принести зажженный факел и в его свете принялся разглядывать присланный ему веер. Веер оказался насквозь пропитанным нежным ароматом благовоний, которыми, как видно, пользовалась его владетельница. Внимание Гэндзи привлекла сделанная с отменным изяществом надпись:
Содержание песни было довольно неопределенным, но в почерке чувствовалось явное благородство, и в сердце Гэндзи неожиданно пробудился интерес к хозяйке веера.
— Кто живет в соседнем доме с западной стороны? Ты случайно не узнавал? — спрашивает он у Корэмицу, а тот, подумав: «Ну вот, снова…», все же, сдержав слова укоризны, отвечает, правда весьма недовольным тоном:
— Я здесь уже пять или шесть дней, но заботы о больной занимают все мое время, и мне некогда расспрашивать о соседях.
— Ты, кажется, осуждаешь меня? Но, поверь, есть в этом веере что-то такое, что невольно вызывает желание проникнуть в его тайну. Позови лее кого-нибудь, кому ведомы местные обстоятельства, и расспроси его, — Просит Гэндзи, и Корэмицу, войдя в дом, призывает к себе сторожа и принимается его расспрашивать. Вернувшись же, сообщает:
— Дом этот принадлежит одному человеку в чине почетного помощника правителя[86] какой-то провинции. Сам хозяин уехал, и в доме осталась его супруга — молодая и, судя по всему, весьма утонченная особа, сестры ее служат во Дворце и частенько сюда наведываются… — вот все, что мог сказать мне сторож. Большего трудно ожидать от простого слуги.
«Должно быть, надпись на веере сделана одной из сестер, — подумал Гэндзи. — Почерк довольно уверенный, видно, что писавшая знает толк в таких делах». Он понимал, что скорее всего его ждет разочарование, но чувство, побудившее женщину взяться за кисть, нашло отклик в его душе, и мог ли он остаться равнодушным? Увы, Гэндзи никогда не умел противиться искусительным стремлениям сердца. И вот на листке бумаги, нарочно изменив почерк, написал:
Письмо это он отослал с одним из своих приближенных, тем, кто тогда принял у девочки-служанки веер.
Тем временем женщина, не получая ответа, начала уже раскаиваться «своем легкомыслии. Она написала эту так взволновавшую Гэндзи песню, поддавшись мгновенному порыву, ибо, хотя никогда до сих пор не видела его, мелькнувший перед ее взором профиль почти не оставлял места для сомнений.
Но вот наконец появился долгожданный посланец, и дамы, сразу же оживившись, зашептались: «Ах, но что же ответить?» Посланец же, пренебрежительно взглянув на вызванный его появлением переполох, поспешил удалиться.
Между тем Гэндзи, стараясь не попадаться никому на глаза, двинулся в путь по дороге, освещенной скудным светом нескольких факелов, которые несли его телохранители. Верхние створки решеток в соседнем доме были уже опущены. Сквозь щели пробивался тусклый, слабее «любых светлячков» (27), свет, придавая этому печальному жилищу какое-то таинственное очарование.
Путь Гэндзи лежал к дому, окруженному величественными купами деревьев и прекраснейшими цветами, где все носило на себе отпечаток роскоши и благополучия. Его приняли с церемонной учтивостью, хозяйка же дома была так хороша собой и так непохожа на других женщин, что Гэндзи очень скоро забыл о бедном кипарисовом заборе.
На следующее утро Гэндзи проснулся поздно и вышел, когда солнце стояло высоко над землей. Мягкий утренний свет сообщал его красоте особое очарование, право, недаром люди так восхищались им. Возвращаясь домой, Гэндзи снова проехал мимо тех же самых ворот. Впрочем, скорее всего он не раз проезжал здесь и прежде, просто не обращал на них внимания, и только вчерашнее приключение, само по себе крайне незначительное, возбудило его любопытство, и он с интересом разглядывал это бедное жилище: «Кто же все-таки живет там?»
Через несколько дней зашел к нему Корэмицу.
— Больная была в тяжелом весьма состоянии, и все это время я не отходил от нее, — сообщил он, затем, понизив голос, заговорил о другом: — После того нашего разговора я нашел человека, знакомого с положением дел в интересующем вас доме, и распорядился, чтобы его расспросили, но оказалось, что и ему толком ничего не известно. Говорят, какая-то дама тайно живет там примерно с Пятой луны, но кто она — того не открывают даже домашним. Я пытался подглядеть сквозь щели изгороди, отделяющей наш дом от соседнего, — в самом деле, за занавесями мелькают фигуры молодых женщин. Судя по тому, что у них у всех для порядка привязано сзади к поясу нечто похожее на сибира,[87] в доме явно есть кто-то, кому они прислуживают. А вчера, когда вечернее солнце осветило весь дом полностью, вплоть до самого последнего уголка, я увидел наконец и госпожу. Она держала в руке кисть и, судя по всему, сочиняла письмо. Ее прекрасное лицо было печально, а сидящие рядом прислужницы украдкой вытирали слезы, — рассказывал Корэмицу, а Гэндзи, улыбнувшись, подумал: «Хотел бы я знать, кто она…»
«Разумеется, господину прежде всего должно заботиться о своем добром имени, но он так молод, и все им так восхищаются… — думал между тем Корэмицу. — Боюсь, что, будь он благоразумнее и расчетливее в своих действиях, это скорее повредило бы его обаянию. Право, даже мужчинам, которые не пользуются таким успехом, бывает трудно устоять перед искушением».
— Надеясь хоть что-нибудь разузнать, я придумал приличный предлог и отправил туда письмо, — продолжал Корэмицу. — Ответ пришел незамедлительно и был написан искусной рукой. Создается впечатление, что среди ее прислужниц есть весьма достойные молодые дамы.
— Постарайся найти средство проникнуть туда, — попросил Гэндзи. — Обидно оставаться в неведении.
Правда, в столь бедном жилище могла жить лишь женщина, принадлежащая к числу тех, что были когда-то презрительно названы низшими из низших, но что, если его ждет приятная неожиданность и за этими невзрачными стенами обнаружится какая-нибудь прелестная особа?
Надо сказать, что Гэндзи до сих пор не мог забыть, как жестоко поступила с ним та «пустая скорлупка цикады», Уцусэми, — право, немногие женщины способны на такое коварство. Впрочем, как знать, окажись она послушной его воле, возможно, единственным следствием той мимолетной встречи стало бы сожаление о случайно совершенной ошибке… Так или иначе, он потерпел поражение, и самолюбие его было глубоко уязвлено.
Прежде Гэндзи просто не обратил бы внимания на столь заурядную особу, но тот разговор в дождливую ночь открыл ему глаза на существование различных сословий, из которых каждое имело свои преимущества, и круг его сердечных устремлений расширился. Нельзя сказать, чтобы Гэндзи совсем не привлекала дочь правителя Иё, должно быть искренне желавшая встречи с ним, но ему становилось не по себе при мысли, что ее жестокосердная мачеха будет наблюдать за ними так, словно она здесь совершенно ни при чем. «Нет, лучше сначала выведать, каковы ее собственные намерения», — решил Гэндзи, а тут в столицу вернулся правитель Иё.
Прежде всего он поспешил к Гэндзи. Тяготы морского пути не пошли на пользу сему почтенному мужу: лицо его осунулось и покрылось загаром, облаченная в платье странствий фигура казалась неуклюжей. Вместе с тем нельзя было отказать Иё-но сукэ и в определенных достоинствах: он принадлежал к весьма знатному роду и обладал приятной наружностью и самыми благородными манерами.
Внимая его рассказу о делах провинции Иё, Гэндзи испытывал сильнейшее желание спросить: «Так сколько же купален?..», но вовремя вспомнил, что совесть его нечиста, и, смутившись, промолчал. Да, прав был Ума-но ками: когда б подчинился он в свое время голосу рассудка, а не потакал собственным прихотям, ему не пришлось бы теперь краснеть перед этим степенным мужем. И разве холодность Уцусэми, показавшаяся ему самому едва ли не оскорбительной, недостойна высшей похвалы в глазах ее супруга?
Услыхав о том, что правитель Иё намеревается, поручив свою дочь заботам надежного человека, уехать с супругой в провинцию, Гэндзи окончательно лишился покоя и решил посоветоваться с Когими: «Нельзя ли еще хоть раз увидеться с нею?»
Но, увы, даже если бы его искания не были ей противны, и тогда проникнуть к ней было бы нелегко. Поскольку же она упорно избегала его, полагая непреодолимой преградой различие их состояний… Словом, Гэндзи пришлось в конце концов отказаться от всяких попыток добиться новой встречи.
А супруга Иё-но сукэ при всей своей непоколебимости, видимо, не хотела, чтобы Гэндзи забыл ее, во всяком случае она довольно любезно отвечала на письма, которые он присылал, пользуясь любой возможностью. В строках, небрежно начертанных ее рукою, было что-то до крайности трогательное, и никогда не забывала она вставить в письмо свое несколько изящных намеков, призванных вызвать должный отклик в его сердце. Поэтому Гэндзи всегда помнил о ней, хотя и чувствовал себя обиженным. Что касается дочери Иё-но сукэ, то какие бы слухи о ней ни ходили, они не особенно волновали Гэндзи, уверенного в том, что самый суровый повелитель не заставит ее его отвергнуть.
Настала осень. Имея немало сердечных забот и волнений, которым причиной чаще всего бывало его же собственное легкомыслие, Гэндзи редко появлялся в доме Левого министра, и молодая госпожа не скрывала своего неудовольствия.
Была еще и особа с Шестой линии, но, заставив ее забыть о приличиях, он очень скоро переменился к ней и начал от нее отдаляться. Многие жалели ее, а как в столице еще жива была память о том, каким безумствам предавался некогда Гэндзи, стараясь сломить ее сопротивление, столь быстрое охлаждение неизбежно возбудило толки. Женщина эта, обладавшая на редкость тонкой и чувствительной душой, не могла не страдать, зная, что имя ее стало предметом пересудов. К тому же она была старше Гэндзи и стыдилась этого. Словом, причин для печали у нее было немало, а последнее время все чаще и чаще приходилось ей в одиночестве коротать бессонные ночи, и она была близка к отчаянию.
Однажды утром, когда окрестности терялись в густом тумане, Гэндзи долго не мог проснуться, и прислужницам госпожи пришлось несколько раз будить его. В конце концов он вышел, печально вздыхая. Вид у него совсем сонный. Молодая дама по прозванию Тюдзё, словно желая сказать: «Проводите же хоть взглядом!», приподнимает решетку, отодвигает переносной занавес, и госпожа, оторвав голову от изголовья, выглядывает наружу. Гэндзи медлит, не в силах расстаться с садом, где цветы в живописнейшем беспорядке сплетаются друг с другом, и вряд ли есть на свете человек прекраснее его. Но вот он направляется к переходу, и Тюдзё выходит его проводить. В платье цвета астра-сион,[88] приличествующего этому времени года, и тонком мо,[89] подвязанном на талии яркими лентами, она кажется воплощением миловидности и изящества. Взглянув на эту прелестную особу, Гэндзи не может устоять перед искушением и задерживает ее у перил в углу галереи. Ее застывшая в почтительной позе фигурка, свисающие вдоль щек подстриженные пряди волос восхитительны.
Что же прикажете мне делать? — вопрошает он, взяв ее руку, а Тюдзё отвечает с привычной поспешностью, сделав вид, будто речь идет о госпоже:
Прелестный мальчик-придворный, одетый ради такого случая особенно нарядно, проходит в самую гущу цветов и, сорвав «утренний лик», в мокрых от росы шароварах, возвращается к Гэндзи — картина, достойная кисти художника.
Вчуже глядя и то невозможно было не плениться красотой Гэндзи. Даже грубый житель гор не прочь отдохнуть в тени прекрасных цветов, так стоит ли удивляться тому, что все, кого осенял свет этой удивительной красоты, — каждый сообразно званию своему — об одном лишь помышляли: «Вот бы отдать ему нашу нежно взлелеянную дочь!» Если же кто-то имел миловидную младшую сестру, будь он даже самого низкого звания, самым горячим его желанием было пристроить ее в услужение к Гэндзи.
А люди, имевшие возможность обмениваться с ним письмами или близко видеть его прекрасное лицо? Они тем более не могли оставаться равнодушными, по крайней мере те из них, кто проник в душу вещей. Без сомнения, и госпожа Тюдзё, и прочие дамы из дома на Шестой линии сожалели о том, что не проводит он там все дни напролет.
Да, вот еще что: Корэмицу по поручению своего господина продолжал подглядывать за обитателями того бедного жилища, и ему удалось выведать немало нового. В один прекрасный день, представ перед Гэндзи, он сообщил ему следующее:
— Установить, кто там живет, мне так и не удалось. По всей видимости, они от кого-то скрываются. Иногда дамы, не зная, чем занять себя, выходят в южную галерею, где есть решетки с открывающимися верхними створками, и, заслышав шум проезжающей кареты, выглядывают наружу. Время от времени к ним выходит и та особа, которая, как мне кажется, является их госпожой. Я не сумел хорошенько разглядеть ее, но похоже, что она весьма миловидна. Однажды, заметив проезжающую по улице карету с передовыми, девочки-служанки закричали поспешно: «Ах, госпожа Укон, скорее же, посмотрите! Ведь это господин То-но тюдзё проезжает мимо». На крик вышла прислужница постарше, весьма достойной наружности замахала на них руками: «Тише, тише! Почему вы решили, что это он? Сейчас я сама взгляну». С этими словами она заторопилась на галерею. А надо сказать, что проходят туда обычно по особому мостику, вроде перекидного. Женщина двигалась очень быстро и, не заметив, как подо ее платья за что-то зацепился, споткнулась и чуть не упала вниз. «Ох уж этот бог Кадзураки![90]», — рассердилась она — и желания смотреть на улицу как не бывало.
Проезжающий господин был облачен в носи и окружен свитой. «Это такой-то, а это такой-то», — называли девочки-служанки его спутников, поскольку имена, которые они произносили, и в самом деле принадлежали телохранителям и челядинцам господина То-но тюдзё, никаких сомнений быть не могло — проезжал действительно он, — рассказывал Корэмицу.
— Ах, когда б я сам увидел его карету! — вздохнул Гэндзи, и тут голове его мелькнула смутная догадка: «А что, если это та самая женщина которую То-но тюдзё не может забыть?» Заметив, что Гэндзи заинтересован, Корэмицу продолжал:
— Я вступил в сношения с одной из тамошних прислужниц, и это помогло мне ознакомиться с домом до мельчайших подробностей. Однако хожу я туда с таким видом, будто и ведать не ведаю об истинном положении дел, и молодая особа уверена, что ей удалось-таки провести меня, внушив мне мысль, будто все дамы, живущие в доме, равны по положению. Но как ни радуются они, полагая, что сумели ловко всех обмануть, все равно то одна, то другая из девочек-служанок, вдруг забывшись, начинает обращаться к госпоже с почтительностью, уместной лишь в разговоре со знатной особой. О, как они принимаются тогда суетиться, пытаясь отвлечь от нее внимание, как стараются уверить, будто никого, кроме них, обычных прислужниц, в доме нет!.. — смеясь, рассказывал Корэмицу.
— Когда я в следующий раз приеду навестить монахиню, дашь и мне посмотреть сквозь ограду, — попросил Гэндзи. «По всей видимости, эта женщина поселилась там временно, — думал он, — но, судя по ее нынешнему жилищу, она-то скорее всего и принадлежит к низшим из низших, которые, как говорилось в ту ночь, и внимания недостойны. Но вдруг она хороша собой, умна? Разве не заманчиво неожиданно обнаружить прелестное существо в таком месте?»
Корэмицу почитал первейшей обязанностью своей предупреждать любое желание господина, а будучи к тому же человеком, не менее хозяина своего искушенным в любовных делах, он, проявив немалую изобретательность и ловкость, в конце концов, правда с большим трудом, добился того, что Гэндзи начал посещать тот дом. Но подробности, право же, утомительны, и я по обыкновению своему их опускаю.
Не спрашивая женщину, кто она, Гэндзи не открывал ей и своего имени. Приходил он к ней в простом платье и — что самое необыкновенное — пешком. «Такого еще не бывало!» — дивился Корэмицу и обычно уступал своего коня Гэндзи, а сам бежал рядом.
— Может ли уважающий себя любовник приходить на свидание пешком? А если меня кто-нибудь увидит? — ворчал он, но Гэндзи, не желая никого посвящать в свою тайну, брал с собой лишь того самого приближенного, который когда-то сорвал для него цветок «вечерний лик», и мальчика-слугу, никому в тех местах не известного. Опасаясь, что тайна его будет раскрыта, Гэндзи не заходил даже в соседний дом.
Тем временем женщина терялась в догадках, не зная, чем объяснить столь странную скрытность. Она украдкой отправляла кого-нибудь следом за посланными Гэндзи, надеясь узнать, где живет ее возлюбленный, поручала слуге выведать, куда уводит его рассветная тропа, но тщетно — ее соглядатаи неизменно оказывались обманутыми. Между тем Гэндзи все более привязывался к женщине, видеть ее стало для него необходимостью, он беспрестанно помышлял о ней и, кляня себя за недостойное легкомыслие, все же время от времени наведывался в бедное жилище за кипарисовым забором. Так, на этой стезе теряют голову и благонравнейшие из людей. Гэндзи, никогда не забывавший о приличиях и старавшийся не навлекать на себя осуждения, ныне испытывал такие муки страсти, что и сам дивился: расставаясь утром с возлюбленной, он с трудом дожидался вечера, невыносимо тягостными казались ему дневные часы. Он пытался, как мог, охладить свой пыл, говоря себе: «Остановись! Разве стоит она подобных безумств?» Женщина была кротка и послушна, но, пожалуй, ей недоставало живости ума и уверенности в себе. Она казалась совсем юной, но неискушенной ее тоже назвать было нельзя. Вряд ли она могла принадлежать к знатному роду. «Но что же тогда так влечет меня к ней?» — беспрестанно недоумевал Гэндзи.
Отправляясь на свидания с возлюбленной, он старался до неузнаваемости изменить свою внешность, переодевался в грубое охотничье платье,[91] скрывал лицо, приходил же и уходил ночью, когда все в доме спали, так что у женщины порой возникало опасение: уж не оборотень ли это, какие бывали в старину? Однако даже случайное прикосновение убеждал» ее в том, что перед ней человек, причем человек отнюдь не простого звания. «Но кто же он?»
Ее подозрения пали на Корэмицу: «Этот молодой повеса, живущий по соседству, наверняка здесь замешан». Но того, казалось, совершенно не занимало происходящее, словно и не подозревая ни о чем. он по-прежнему посещал их дом в поисках собственных развлечений, и женщине оставалось недоумевать и теряться в догадках: «Что же все это значит?» Но не знал покоя и Гэндзи: «А вдруг, усыпив бдительность мою своей покорностью, она внезапно скроется? Где мне искать ее тогда? Этот дом — не более чем временное пристанище, она может покинуть его в любое время, и я не уверен, что меня поставят об этом в известность…» Разумеется, если бы действительно произошло нечто подобное и Гэндзи, бросившись на поиски, вынужден был отступить, так ничего и не добившись, он скорее всего легко примирился бы с тем, что блаженство, дарованное ему судьбой, оказалось столь быстротечным, но пока он и помыслить об этом не мог без ужаса. В те ночи, когда, отдавая дань приличиям, Гэндзи воздерживался от свиданий, невыносимая тревога овладевала всем его существом, порой он был близок к безумию. «А не перевезти ли ее тайно в дом на Второй линии? — думал он. — Несомненно, люди сразу же начнут судачить и неприятностей не избежать. Но ни к одной женщине еще не влекло меня с такой силой. Какое же предопределение соединило нас?»
— Позвольте мне найти какое-нибудь тихое местечко, где нам не нужно будет опасаться свидетелей, — предлагал Гэндзи, но женщина, беспомощно глядя на него, отвечала:
— Все это слишком неожиданно. Ваши речи ласкают слух, но вы ведете себя так странно, это пугает меня…
— В самом деле, — улыбался Гэндзи, — кто же из нас лисица-оборотень? Не противься же моим чарам, — ласково говорил он, и женщина покорялась ему, думая: «Что ж, видно, так тому и быть».
«Да, она готова уступить любому моему желанию, каким бы необычным, даже нелепым оно ни было. Удивительно трогательное свойство», — думал Гэндзи, и снова возникало у него подозрение: уж не ее ли То-но тюдзё называл «вечным летом»? Ему вспомнилось все, что тот рассказывал, но, понимая, что у женщины могли быть свои причины таиться, он не решался докучать ей расспросами.
Трудно было себе представить, чтобы такая женщина оказалась способной вдруг обидеться и уехать неизвестно куда, но, как знать, возможно, она и изменилась бы, если б Гэндзи стал навещать ее реже, оставляя надолго одну. Сам-то он полагал, что иные увлечения — возникни они у него — лишь умножили бы его нежность к ней.
Пятнадцатой ночью Восьмой луны яркий лунный свет, просачиваясь сквозь редкую деревянную кровлю, заливал все уголки дома, отчего и без того необычная обстановка казалась Гэндзи совсем уж диковинной. Ночь близилась к концу. В соседнем доме, видно, проснулись. Послышался непривычно грубый мужской голос:
— Ну и холода наступили! В нынешнем году дела идут из рук вон плохо! В провинцию ехать тоже бессмысленно… Да, надежд никаких. Эй, сосед, слышишь? — такие примерно фразы долетали до слуха Гэндзи.
Люди вставали, готовые приступить к своим жалким каждодневным трудам, тут же за стеной слышался шум, раздавались громкие голоса, и женщина совсем смутилась. Какая-нибудь надменная, привыкшая к роскоши особа на ее месте сквозь землю готова была бы провалиться от стыда. Но ни тяготы житейские, ни невзгоды, ни горести не ожесточали кроткого сердца возлюбленной Гэндзи. Нежная, девически хрупкая, она словно не понимала, что происходит вокруг, не замечала ни скудного убранства покоев, ни бесцеремонной шумливости соседей, и это пленяло Гэндзи куда больше, чем если бы она стыдилась и краснела.
Почти у самого изголовья громче шагов бога Грома застучали ступы по которым яростно колотили ногами.
«Отроду не слыхивал ничего подобного!» — подумал Гэндзи, прислушиваясь к этому грохоту, которого происхождение оставалось для него тайной. Множество других, не менее странных звуков доносилось до его слуха. Со всех сторон слышались приглушенные расстоянием удары вальков, которыми отбивали грубые полотняные одежды; по небу с громкими криками летели дикие гуси…[92] Все это, вместе взятое, трудно было вынести.
Они лежали у выхода на галерею. Гэндзи раздвинул дверцы и выглянул наружу: в крохотном, негде повернуться, садике рос благородный китайский бамбук, и роса на листьях блистала не менее ослепительно, чем в великолепном саду какого-нибудь вельможи. Совсем рядом назойливо звенел многоголосый хор насекомых, а ведь Гэндзи далее к «стрекотанью сверчка под стеной»[93] привык прислушиваться издалека. Но необычность обстановки лишь забавляла его. Чувство его было столь глубоко, что он охотно мирился со всеми неудобствами.
Женщина обладала вполне обыкновенной наружностью, но что-то чрезвычайно милое и трогательное было в ее хрупкой фигурке, облаченной в светло-лиловое мягкое платье, из-под которого выглядывало нижнее, белое. Не обладая никакими исключительными достоинствами, она пленяла удивительной нежностью и изяществом черт. Стоило же ей заговорить, и столько в ней обнаруживалось прелести, что трудно было сдержать вздох умиления. «Вот только будь она чуть увереннее в себе…» — подумал Гэндзи, но так хотелось ему насладиться ее близостью без всяких помех, что он предложил:
— А что, если мы встретим рассвет в каком-нибудь тихом, уютном домике неподалеку? Оставаться здесь невыносимо.
— Можно ли так сразу? Это слишком неожиданно, — робко отвечала она.
Но Гэндзи с такой пылкостью клялся ей в верности не только в этой, но и в грядущей жизни, что в конце концов, успокоившись, она уступила.
Право, все в ней было будто не так, как в других женщинах, она казалась такой юной, такой неопытной, что Гэндзи окончательно потерял голову. Уже не считаясь с тем, что могут о них подумать, он подозвал Укон и, кликнув спутников своих, велел выводить карету. Прислуживающие госпоже дамы, как ни велико было их беспокойство, во всем полагались на Гэндзи, успев убедиться в искренности его чувств.
Близился рассвет. Еще молчали петухи, лишь слышно было, как какой-то старик, бормоча молитвы, бил головой об пол. Похоже было, что каждое движение, которое совершал он, творя обряды, давалось ему с трудом, и Гэндзи невольно посочувствовал ему: «В этом мире, непрочном, словно утренняя роса, чего алкая, может он молиться?[94] Впрочем, скорее всего этот старик держит пост, готовясь подняться на священную вершину Митакэ».[95]
— Хвалу возношу тебе, о Грядущий Учитель… — бормотал старик.
— Прислушайтесь! Ведь вот и он не только об этой жизни помышляет, — сказал Гэндзи, умиленно внимая. -
Клятва, данная когда-то в «чертоге Долголетия»,[96] вряд ли могла считаться хорошим предзнаменованием, вот Гэндзи и обратил свои мысли к грядущему миру будды Мироку, вместо того чтобы напомнить своей возлюбленной о «птиц неразлучной чете». Но не слишком ли опрометчиво давать подобные обещания, когда речь идет о столь отдаленном будущем?
Да, такую вот песню она сложила; видимо, уверенности в будущем у нее не было.
Луна замерла в нерешительности у самого края гор, а женщина все медлила: «Так сразу уехать неведомо куда…» Пока Гэндзи уговаривал ее, луна вдруг скрылась за облаком, светлеющее небо было прекрасно. «Надо ехать, пока совсем не рассвело». — И с обычной своей поспешностью Гэндзи вышел из дома. Легко приподняв женщину, он посадил ее в карету, туда же села Укон.
Остановившись у некоей усадьбы, расположенной неподалеку, Гэндзи велел вызвать сторожа. Заброшенные ворота заросли папоротником «синобу», купы деревьев в саду хранили густую тень. Все вокруг окутывал плотный туман, на листьях лежала обильная роса, и, приподнимая в карете занавеси, Гэндзи замочил рукава.
— Со мной никогда еще не случалось ничего подобного. Оказывается, не так-то просто…
А с вами бывало когда-нибудь такое? — спрашивает Гэндзи, и женщина, робко потупившись, отвечает:
Мне так тревожно…
На лице ее отражаются страх и мучительная растерянность. «Наверное, ей кажется, что здесь слишком безлюдно, — думает Гэндзи, с умилением на нее глядя. — Она ведь не привыкла…»
Карету вводят во двор и, прислонив оглобли к перилам, оставляют стоять так, пока для гостей готовят Западный флигель. Укон, радостно оживленная, тайком вспоминает прежние времена. Глядя на сторожа, подобострастно склонившегося перед приехавшими, она догадывается, кто их таинственный покровитель.
Сквозь туман начинают смутно проступать очертания предметов, когда гостей наконец приглашают в дом. Покои оказываются опрятными и изящно убранными — даром что готовились наспех.
— Не пристало господину обходиться без слуг, — укоризненно говорит сторож.
Это хорошо знакомый Гэндзи младший служитель Домашней управы, не раз прислуживавший ему в доме Левого министра. Войдя прямо в покои, он предлагает:
— Разрешите мне позвать кого-нибудь, как полагается? Но Гэндзи сразу же замыкает его уста:
— Я нарочно подыскал дом, куда никто не заходит. Схорони и ты эту тайну на дне своей души.
Сторож спешит принести рис, но даже подать его некому. Непривычен Гэндзи этот случайный ночлег в пути, но остается лишь вспомнить о клятве реки Окинага (28).
Солнце было уже высоко, когда Гэндзи, встав, собственноручно поднял решетку.
Ничто не препятствует взору проникать в глубину запущенного, пустынного сада, туда, где темнеют беспорядочные купы деревьев. К самому дому подступают буйные травы — везде царит «запустенье осенних лугов» (29), пруд и тот зарос водорослями… Что и говорить, место унылое… Правда, небольшое строение, отделенное от главного дома, имеет жилой вид, и там, очевидно, кто-то есть, но оно так далеко отсюда.
— Как здесь дико! Но не бойтесь, со мной вам не страшны ни демоны, ни злые духи, — говорит Гэндзи.
Женщина явно обижена, что он до сих пор прячет свое лицо. «В самом деле, стоит ли скрываться?»
— Ну как блеск росы? — спрашивает он. А она, взглянув искоса, еле слышно отвечает:
— Чудесно! — восхищается Гэндзи.
Впрочем, про себя-то она подумала, что никогда еще не видала столь прекрасного лица. Потому ли, что место было такое унылое, или по какой другой причине, но только сегодня в облике Гэндзи проглядывало что-то почти нечеловеческое, повергающее окружающих в благоговейный трепет.
— А ведь я решил было не открываться вам в отместку за вашу собственную скрытность. Назовите же хоть теперь свое имя! Ваше молчание пугает меня… — просит Гэндзи, и женщина роняет в ответ:
— Увы, я «дитя рыбака»… (30).
Но Гэндзи мила даже ее застенчивость:
— Что ж, видно, не зря говорят: «Я сама…» (31)
Он то осыпает ее упреками, то ласкает, а день между тем склоняется к вечеру. Разыскав их, приходит Корэмицу и приносит угощение. Однако же, стесняясь Укон — что скажет она теперь? — в покои войти не решается.
Его забавляет, что Гэндзи настолько потерял голову. «Наверное, она действительно недурна. А ведь я и сам имел возможность к ней приблизиться, но уступил ему. Вот подлинное великодушие!» — думает Корэмицу не без некоторой досады.
Гэндзи любуется поразительно тихим вечерним небом. Видя, что женщину пугает темнота внутренних покоев, он поднимает наружные шторы и устраивается у выхода на галерею, там, куда падают лучи заходящего солнца. Женщина не может отделаться от ощущения невероятности происходящего, но, глядя на Гэндзи, забывает все свои горести и перестает робеть, отчего становится еще прелестнее.
Весь день она льнет к Гэндзи, по временам вздрагивая от страха, и ее детская пугливость умиляет его. Пораньше опустив решетку, он велит зажечь светильники.
— Обидно, что даже теперь, когда нечего нам таить друг от друга, вы все-таки не хотите открыть мне свою душу, — пеняет он ей.
«Во Дворце, наверное, уже замечено мое отсутствие. Интересно, где меня разыскивают? — думает он. — Право, сколь непостижимы движения даже собственного сердца. В каком же отчаянии должна быть теперь госпожа с Шестой линии! Конечно, ее упреки справедливы, но как тяжко их слушать! — Взглянув с умилением на доверчиво обращенное к нему лицо, Гэндзи не может удержаться от сравнения: — Увы, если б и та была помягче…»
Ночь близилась к концу, когда Гэндзи наконец задремал. Внезапно у изголовья возникла изящная женская фигура.
— Забыв о той, что отдала вам свое сердце, вы привезли сюда эту жалкую особу и дарите ее милостями своей любви. О, не снести мне такой обиды! — услышал он и увидел, что эта странная женщина склонилась над его возлюбленной и пытается ее разбудить.
Испугавшись, что они оказались во власти злого духа, Гэндзи проснулся — огонь в светильнике давно погас.
Охваченный страхом, Гэндзи обнажил меч и, положив его у изголовья, кликнул Укон. Та подошла, тоже дрожа от страха.
— Разбудите сторожей на галерее и велите им принести факелы, — распорядился Гэндзи.
— Как же я пойду? Там темно, — испугалась У кон.
— Что за детские страхи? — рассердился Гэндзи и, через силу улыбнувшись, хлопнул в ладоши. Ему ответило лишь эхо, от которого стало совсем жутко. Похоже, что никто не слышал его призыва, во всяком случае никто не пришел. Женщину била дрожь, и состояние ее не могло не внушать опасений. Холодный пот струился по ее лицу, казалось, она вот-вот лишится чувств.
— Госпожа слишком робка и пуглива, — сказала Укон. — Как же она должна теперь страдать!
«Она так хрупка, — подумал Гэндзи, — даже днем все поглядывала на небо… Бедняжка…»
— Пойду сам разбужу людей. Невыносимо слушать это жуткое эхо. Побудьте здесь, рядом с ней. — И, усадив Укон возле ложа, Гэндзи направился к западной боковой двери, которую открыв увидал, что света не было и снаружи. По галерее гулял ветер, а немногочисленная стража спала. Да и было-то там всего трое: сын сторожа, бывший одним из доверенных слуг Гэндзи, мальчик-придворный и тот самый телохранитель, о котором уже говорилось. Гэндзи позвал, и один из них, поднявшись, подошел к нему.
— Принесите факелы. Людям же велите не переставая звенеть тетивой и громко кричать. Можно ли в столь пустынном месте спокойно предаваться сну? Мне казалось, что господин Корэмицу был здесь.
— Был, но удалился, сказав: «Коли нет во мне нужды, заеду за господином на рассвете».
Человек, к которому обратился Гэндзи, служил стражем Водопада,[97] а посему, умело звеня тетивой и подкрепляя звон этот громкими криками: «Берегись огня, берегись!», он направился к покоям сторожа. Гэндзи невольно вспомнился Дворец. «Там теперь как раз миновал час переклички придворных, и настала очередь стража Водопада». Да, судя по всему, было не так уж и поздно.[98]
Вернувшись в покои, Гэндзи приблизился к ложу: женщина оставалась в прежнем положении, а подле ничком лежала Укон.
— Что это значит? Видно, страх лишил вас разума. Конечно, в столь уединенных местах шалят иногда лисы и прочие твари, пугая людей, но я-то ведь рядом, так стоит ли вам их бояться? — говорил Гэндзи, пытаясь поднять перепуганную прислужницу.
— О ужас! Мне вдруг стало дурно, и я упала без памяти. Боюсь, что бедной моей госпоже не по силам такие испытания.
— Но что с ней?! — воскликнув, Гэндзи склонился над женщиной, а она и не дышит.
Он принялся тормошить ее, но, покорно поддаваясь движениям его рук, она не обнаруживала никаких признаков жизни, и Гэндзи, отчаявшись, отступился: «Видно, какой-то злой дух воспользовался ее беспомощностью».
Наконец зажгли огонь. Укон не могла двинуться с места, поэтому Гэндзи, собственноручно придвинув стоящий рядом занавес, распорядился:
— Несите госпожу сюда.
Услыхав столь необычное приказание, слуга растерялся,[99] не решаясь приблизиться, не смея даже порог переступить.
— Ближе, еще ближе, все хорошо в свое время, — торопил его Гэндзи, но вот свет факела осветил ложе, и у изголовья возникла женская фигура — та самая, которую он видел во сне; мелькнув неясной тенью, она тотчас исчезла. Да, такое бывает только в старинных повестях. Сердце Гэндзи замирало от страха, но сильнее страха была тревога за возлюбленную — что с нею? Забыв о себе, он лег рядом, звал ее, тряс, пытаясь привести в чувство, но тело ее холодело, и скоро стало ясно, что это конец. Ах, если бы рядом с Гэндзи был человек, способный поддержать его своими советами! Разумеется, в таких случаях уместнее всего присутствие монаха, но увы… Несмотря на проявленную твердость, Гэндзи был совсем еще молод и, увидев, что его возлюбленная готова покинуть этот мир, растерялся. И только молил, сжимая ее в объятиях:
— Очнитесь, очнитесь же! Не будьте со мной так жестоки.
Но, увы, тело ее все холодело, а вскоре начали искажаться черты. Укон, которая до сих пор, остолбенев от ужаса, лишь молча смотрела на свою госпожу, разразилась громкими рыданиями.
Гэндзи невольно вспомнилась история с неким министром, которому угрожал злой дух из Южного дворца,[100] и, постаравшись взять себя в руки, он сказал:
— Нет, не может она вот так сразу умереть. О, как ужасны эти рыдания в ночи! Замолчите же! — увещевал он Укон, но, видно, происшедшее и для него самого было слишком большим потрясением. Призвав сына сторожа, Гэндзи сказал ему:
— Какой-то странный недуг внезапно овладел госпожой, я думаю, уж не злой ли дух тому виною? Вели гонцу, чтобы немедленно шел за господином Корэмицу. А если встретит некоего почтенного монаха Адзари, пусть и его попросит пожаловать. Да скажи, чтоб говорил потише, дабы не услыхала монахиня, она ведь всегда осуждала меня за подобные похождения.
Он держался довольно уверенно, но как же тяжело было у него на душе! Он чувствовал себя виноватым в смерти госпожи, к тому же в этом доме было так жутко.
Ночь близилась к концу. Подул неистовый ветер, громче прежнего зашумели сосны, раздался пронзительный крик какой-то неведомой птицы. «Может быть, это те самые совы?»[101] — невольно подумалось Гэндзи. Мысли одна другой тягостней теснились в его голове, помощи же ждать было неоткуда: вокруг не было ни души, даже голоса сюда не доносились.
«Для чего выбрал я это глухое место?» — раскаивался он, но, увы… Укон, ничего не понимая, не отходила от него ни на шаг и дрожала так, словно и сама готова была расстаться с этим миром. Тревожась: «Как бы и она…», Гэндзи крепко прижимал ее к себе. Только он один сохранял ясность мысли, но что он мог придумать? Огонь тускло мерцал, и в верхней части ширмы, стоявшей на границе главных покоев, то здесь, то там, сгущаясь, дрожали тени. Иногда ему чудились приближающиеся шаги, пол скрипел словно под чьими-то ногами. «Поскорее бы пришел Корэмицу!» — думал Гэндзи. Но поскольку никому не было известно точно, где тот ночевал, гонец долго разыскивал его повсюду, а рассвет никак не наступал, казалось, прошла уже тысяча ночей (32). Наконец вдалеке раздался крик петуха. «А ведь я и сам был недалек от гибели, — думал Гэндзи. — чему в своей прошлой жизни обязан я такому несчастью? Уж не возмездие ли это за мое легкомыслие, за непозволительные, недостойные помышления? Своим поведением я сам подаю повод к молве. Как ни таись, от людей ничего не скроешь, скоро слух о происшедшем дойдет до Государя а там и в столице начнут злословить, и стану я посмешищем для испорченных юнцов. Кончится тем, что имя мое будет окончательно опорочено».
Наконец появился Корэмицу. Обыкновенно готовый в любое время дня и ночи исполнять прихоти своего господина, сегодня он, к величайшей досаде Гэндзи, оказался далеко и даже на призыв явиться откликнулся с опозданием. Все же Гэндзи велел ему войти, но не сразу нашел в себе силы рассказать о том, что произошло.
Весть о прибытии Корэмицу заставила Укон вспомнить, с чего все началось, и слезы снова покатились у нее по щекам. Гэндзи тоже утратил последний остаток сил. До сих пор он один сохранял присутствие духа и поддерживал Укон, но стоило появиться Корэмицу, как, словно впервые осознав всю тяжесть утраты, он предался горю. Долго плакал Гэндзи, не в силах остановиться. Затем, немного успокоившись, сказал:
— Тут у нас приключилось нечто весьма странное. Можно сказать даже, нечто невероятное, но, пожалуй, и этого слова недостаточно. Я слышал, что в таких чрезвычайных обстоятельствах положено читать сутру, и велел позвать монаха Адзари, дабы он совершил все необходимое и принял соответствующие обеты…
— Почтенный вчера удалился в горы. Но сколь все это неожиданно! Возможно, какой-то тайный недуг давно уже подтачивал ее?
— Да нет, ничего подобного. — Заплаканное лицо Гэндзи было прелестно и так трогательно, что Корэмицу тоже не мог удержаться от слез.
Надобно ли сказывать, что при столь горестном стечении обстоятельств весьма полезен человек пожилой, искушенный в житейских делах, а они оба были совсем еще молоды. Что они могли придумать? В конце концов Корэмицу сказал:
— Сторожа не стоит в это посвящать. Сам-то он человек верный, но ведь у него есть родные, и они могут проговориться. В любом случае вам прежде всего следует покинуть этот дом.
— Так, но более укромного места нам не найти.
— И в самом деле. Если вернуться на Пятую линию, дамы, обезумев от горя, начнут плакать и стенать, а как соседние дома населены весьма плотно, найдется немало местных жителей, готовых нас осудить, и молва об этом происшествии быстро распространится. Лучше всего перевезти госпожу в горный монастырь, уж там-то никто не обратит на нас внимания. — И, подумав немного, Корэмицу добавил: — Одна дама, которую я знал когда-то, недавно, став монахиней, перебралась к Восточным горам. Она была кормилицей моего отца, но теперь состарилась и решила уехать из столицы. Места там многолюдные, но живет она обособленно.
И вот под покровом предрассветной мглы к дому подвели карету. Гэндзи совсем лишился сил, и Корэмицу, завернув тело умершей в полстину, сам отнес его в карету. Женщина была хрупка и прелестна, даже теперь ничто в ее облике не пробуждало неприятного чувства, хотя, казалось бы… Корэмицу недостаточно умело завернул ее, и наружу выбивались блестящие пряди волос. Увидел их Гэндзи, и свет померк у него в глазах, а сердце мучительно сжалось. «Будь что будет, но я должен быть рядом с ней до конца!» — в смятении думал он. Однако Корэмицу был иного мнения.
— Скорее берите коня, — заявил он, — и отправляйтесь в дом на Второй линии, пока дороги безлюдны.
Сам же он усадил в карету Укон и, подвернув шаровары, пешком — коня-то ведь он отдал Гэндзи — отправился следом. Право, вряд ли ему приходилось когда-нибудь участвовать в столь странном погребальном обряде, но, видя истерзанное горестью лицо господина, он забывал о себе. А тот в беспамятстве добрался до дома на Второй линии.
— Откуда господин наш изволил вернуться? Он кажется таким измученным… — вопрошали домочадцы, но Гэндзи прошел прямо в опочивальню и лег. Мысли его были в беспорядке, и невыносимая тоска сжимала сердце: «Зачем не поехал я вместе с ними? Что она подумает, если жизнь вдруг вернется к ней? О, как горько будет ей сознавать, что я покинул ее». Вздохи теснили его грудь, в глазах темнело. Скоро почувствовал он боль в голове и сильный жар во всем теле. «Все так мимолетно в этом мире, — подумал он, — видно, и мой конец недалек».
Солнце поднялось совсем высоко, но Гэндзи не вставал. Дамы, недоумевая, предлагали ему угощение, но он настолько пал духом, что отказывался даже от самой легкой пищи.
Между тем из Дворца пришел гонец. Государь, которому не удалось вчера разыскать Гэндзи, изволил беспокоиться. Приходили и сыновья Левого министра, но Гэндзи удостоил беседой лишь То-но тюдзё:
— Подойди сюда, но не садись, — сказал он ему. Разговаривали они через занавес.[102]
— Особа, бывшая прежде моей кормилицей, — говорит Гэндзи, — с Пятой луны нынешнего года занемогла тяжкою болезнью. Приняв постриг, она наложила на себя обет, и, быть может, поэтому стало ей лучше, но недавно болезнь возобновилась, и силы ее иссякают. «Навестите меня еще хоть раз», — передали мне ее слова, а как с младенческих лет находился я на ее попечении, жестоко было бы не откликнуться на ее просьбу теперь, когда жизнь ее подошла к своему крайнему пределу. Вот я и отправился к ней, но оказалось, что один из ее слуг, давно уже снедаемый каким-то недугом, в одночасье скончался, прежде чем его успели перевезти в другое место.[103] Позже я узнал, что из уважения ко мне они удалили его бренные останки из дома только к вечеру. Зная, что близится время торжественных богослужений, я подумал, что мое присутствие во Дворце будет весьма некстати. К тому же у меня с утра болит голова, возможно, я простудился. Надеюсь, мне простят мою неучтивость.
— Что ж, я так и передам, — отвечает ему То-но тюдзё. — Вчера вечером, когда во Дворце музицировали, Государь милостиво изволил разыскивать тебя повсюду и был весьма обеспокоен. — То-но тюдзё выходит, но тут же возвращается.[104] — Так что же это за скверна? Твой рассказ не показался мне достаточно убедительным, — замечает он, и Гэндзи, вздрогнув, отвечает:
— Тебе нет нужды рассказывать Государю все подробности, доложи просто, что я неожиданно столкнулся со скверной. Воистину, мое пренебрежение обязанностями своими заслуживает порицания.
За наружным спокойствием, которое Гэндзи напускал на себя, скрывалась мучительная, неизъяснимая тоска. Он чувствовал себя совсем больным и не хотел никого видеть. Лишь призвав Куродо-но бэн, попросил его почтительно доложить обо всем Государю. Затем отправил гонца в дом Левого министра: мол, не может прибыть, ибо такая вот неприятность произошла.
Когда стемнело, явился Корэмицу.
— Осквернен, уж не обессудьте, — говорил Гэндзи всем, кто приходил его навестить, и гости удалялись, не присаживаясь, поэтому в доме было безлюдно. Призвав Корэмицу, Гэндзи спрашивает его:
— Что? Неужели в самом деле конец? — И закрывается рукавом, чтобы скрыть слезы. Глядя на него, плачет и Корэмицу.
— Да, надеяться больше не на что. Мне неудобно было так долго оставаться там. Но я договорился обо всем с почтенным старым монахом, давним моим знакомцем, и, поскольку завтра день благоприятный… — сообщает он Гэндзи.
— А женщина, которая была с нею?
— Вряд ли и она выживет. Все твердит, словно лишившись рассудка: «Не останусь здесь без госпожи…» Сегодня утром пыталась броситься со скалы вниз в ущелье. Потом ей взбрело в голову пойти и рассказать обо всем домашним. Мне еле удалось удержать ее, говоря: «Подождите, сначала надо все хорошенько обдумать», — рассказывает Корэмицу, а Гэндзи слушает, тяжело вздыхая.
— Я и сам чувствую себя совсем больным, — признается он, — неизвестно еще, каковы могут быть последствия.
— Не напрасно ли теперь предаваться печали? Все происходит согласно предопределению, — возражает Корэмицу. — Я постараюсь устроить все так, чтобы никто ничего не узнал. Доверьтесь мне.
— Да, ты прав. И все же слишком тягостно сознавать, что я взвалил на себя бремя такой вины, что мимолетная прихоть моего непостоянного сердца стоила ей жизни. Прошу тебя, не рассказывай ничего госпоже Сёсё. А уж тем более монахине, она не раз предостерегала меня, мне будет очень стыдно…
— Не только им, но и монахам я все представил в несколько ином свете, — заверяет Корэмицу, и Гэндзи во всем полагается на него. Дамы, уловившие, что произошла какая-то неприятность, недоумевают:
— Странно. Что же случилось? Говорит, будто осквернился, даже во Дворец не ходит, только шепчется о чем-то с Корэмицу и плачет…
— Проследи, чтобы все прошло как положено. — И Гэндзи напоминает Корэмицу, какие должны быть совершены обряды.
— Не извольте беспокоиться. К тому же в данном случае не может быть и речи о какой бы то ни было пышности, — отвечает тот, готовый двинуться в путь, и Гэндзи становится совсем грустно.
— Боюсь, что ты сочтешь мое поведение неразумным, но я буду в полном отчаянии, если не увижу хоть раз еще ее бренные останки. Я поеду верхом… — говорит он, и Корэмицу, подумав про себя: «Что за нелепое желание!», отвечает:
— Коль скоро вы решились, не смею останавливать вас. Но мы должны выезжать немедленно, дабы вернуться до наступления темноты.
Переодевшись в охотничье платье, нарочно сшитое недавно для тайных похождений, Гэндзи собрался в путь. Мысли его были расстроены, невыносимая тоска сжимала сердце. Хоть и решился он на столь необычное путешествие, все же, помня о пережитой недавно опасности, не мог избавиться от мучительных сомнений. Но слишком велико было его горе: «Коль не теперь, то когда, в каком мире увижу ее лицо?» И, превозмогая страх, Гэндзи отправился в путь, по-прежнему сопутствуемый Корэмицу и тем самым телохранителем.
Им казалось, что ехали они очень долго. На небо выплыла семнадцатидневная луна. Скоро они достигли реки, тускло светились факелы в руках у передовых, вдали виднелась вершина горы Торибэ. Казавшаяся всегда такой зловещей, сегодня она не произвела на Гэндзи ровно никакого впечатления: он был в таком смятении, что окружавшие предметы нимало не занимали его. Но вот добрались они и до Восточных гор.
Вокруг царило уныние, невыразимой печалью веяло от жилища монахини, которая коротала дни в молитвах, уединяясь в молельне близ небольшой, крытой деревом хижины. Сквозь стены слабо пробивались отблески священного огня. В хижине одиноко плакала женщина, а снаружи несколько монахов беседовали и нарочито приглушенными голосами шептали молитвы Будде. Скоро в окрестных храмах закончились вечерние службы,[105] и наступила тишина. Только где-то далеко, у храма Киёмидзу,[106] мерцали огоньки и виднелись человеческие фигуры.
Досточтимый монах, сын монахини, столь торжественно произносил слова сутры, что Гэндзи показалось, будто все имеющиеся у него слезы хлынули разом. Войдя в хижину, он увидел, что светильники отодвинуты в сторону, а Укон лежит за ширмой. «Бедняжка, как ей тоскливо, должно быть!» — подумал Гэндзи. Взглянув на умершую, он не ощутил неприязни, напротив, она показалась ему прелестной, совсем такой же, как прежде.
Взяв ее руку, Гэндзи зарыдал:
— О, если б я мог хоть раз еще услышать твой голос! За какие прошлые преступления ниспослано нам это наказание? Зачем так недолго дано мне было любить тебя? Для чего оставила ты меня одного, ввергнув в бездну отчаяния? О горе!
Слезы нескончаемым потоком текли по его щекам. Почтенные монахи, не ведая, кто перед ними, только дивились и тоже роняли слезы.
— Вы поедете со мной в дом на Второй линии, — сказал он Укон, но она ответила, захлебываясь от рыданий:
— С самого раннего детства я питала к госпоже своей нежную привязанность и ни на миг не расставалась с ней, так куда же пойду я теперь, когда она покинула меня столь внезапно? Мне придется рассказать остальным прислужницам о том, что случилось. И без того тяжело, а они поднимут шум, будут винить меня во всем. О, если б я могла стать дымом и последовать за нею!
— Горе ваше понятно, но так уж устроен мир. Разлука не может не печалить, но раньше ли, позже ли каждый из нас придет к своему жизненному пределу. Так что утешьтесь и доверьтесь мне, — увещевал ее Гэндзи, но тут же признался:
— Ах, ведь и я вряд ли сумею пережить это горе… Воистину, ненадежная опора.
— Ночь близится к рассвету. Пора возвращаться, — напомнил Корэмицу, и Гэндзи с сердцем, стесненным от горести, вышел, то и дело оглядываясь.
Дорога была покрыта росою, окрестности тонули в густом утреннем тумане, так и казалось — блуждаешь неведомо где. Гэндзи вспоминал, как она лежала, ничуть не изменившаяся, прикрытая его алым платьем, тем самым, которым накрывались они и в ту, последнюю ночь. «Чем навлек я на себя эту беду?» — размышлял Гэндзи. Он с трудом держался в седле, и ехавшему рядом Корэмицу приходилось поддерживать его. Около плотины Гэндзи, соскользнув с коня, все-таки упал и, придя в еще более мрачное расположение духа, воскликнул:
— Ужели суждено мне остаться здесь и вечно блуждать по этой дороге! Боюсь, что не смогу и до дома добраться…
Услыхав эти слова, Корэмицу растерялся: «Мне следовало бы проявить твердость и не брать его с собой, невзирая на самые настоятельные просьбы».
Положение и в самом деле было отчаянное. Не зная, что предпринять, Корэмицу омыл в реке руки и принялся возносить молитвы богине Каннон, покровительнице храма Киёмидзу. В конце концов Гэндзи удалось обрести присутствие духа, и, творя про себя молитвы Будде, опираясь на верного Корэмицу, он добрался до дома на Второй линии. Встревоженные столь необычно поздним возвращением господина, дамы сетовали, вздыхая:
— И что за беда такая! В последнее время господин наш совсем лишился покоя, не проходит и ночи, чтобы он не уехал куда-нибудь тайком. Вот и вчера совсем измученный вернулся, так для чего надо было снова уезжать?
Что ж, они были правы. Гэндзи слег, и ему становилось все хуже. Прошло дня два или три, и стало заметно, что силы его угасают. Слух о том дошел до Дворца, всех встревожив безмерно. В разных храмах беспрестанно заказывались молебны, невозможно и перечислить все богослужения, очистительные и прочие обряды. Несравненная красота Гэндзи приводила людей в трепет, и мог ли кто-нибудь остаться равнодушным теперь, когда по Поднебесной разнеслась тревожная весть: «Верно, недолго осталось ему жить…»
Несмотря на нездоровье, Гэндзи не забыл Укон и, призвав ее к себе, выделил ей покои рядом со своими и ввел в число прислужниц. Корэмицу, как ни тяжело было у него на сердце, тоже делал все возможное, дабы помочь ей свыкнуться с новыми обязанностями, да и мог ли он не принять в ней участия, ведь она осталась без всякой поддержки. Как только болезнь немного отпускала, Гэндзи, призвав к себе Укон, давал ей различные поручения, и она весьма быстро освоилась в доме. Облаченная в черное платье, эта молодая особа не отличалась миловидностью, но совсем уж непривлекательной ее тоже назвать было нельзя.
— Сколь неожиданно кратким оказался наш союз! Вряд ли и я, связанный с нею клятвой, задержусь в этом мире надолго. Вы же потеряли свою единственную опору и не можете не страдать от одиночества. О, когда б только суждено мне было остаться в живых! Я постарался бы облегчить ваше горе своими попечениями, но, увы, боюсь, что и я скоро последую за нею. Печально, право, — слабым голосом говорил он Укон и тихонько плакал. Глядя на него, она забывала о своем горе — ведь госпожу уже не вернешь, — и жалость к Гэндзи сжимала ее сердце.
Обитатели дома на Второй линии, словно почву потеряв под ногами, метались в тревоге. Из Дворца стремился сюда нескончаемый поток гонцов. Крайнее беспокойство, выказываемое Государем, заставляло Гэндзи напрягать все свои душевные силы, дабы превозмочь болезнь. Левый министр, окружив зятя неусыпными попечениями, ежедневно приходил наведаться о его здоровье, заказывал необходимые в таких случаях молебны — и, как знать, может быть, именно благодаря неустанным заботам окружающих тяжкий недуг, снедавший Гэндзи более двадцати дней, начал отступать, и скоро всякая опасность миновала. Как раз в ту ночь истекал срок очищения, и Гэндзи, желая избавить Государя от дальнейшего беспокойства, перебрался в свои дворцовые покои. Левый министр привез зятя в собственной карете, по дороге изрядно утомив его разнообразными наставлениями о необходимости воздержаний и прочих предосторожностях. Гэндзи долго еще не мог прийти в себя, все казалось ему, что он возродился в ином мире.
К Двадцатому дню Девятой луны Гэндзи вполне оправился, и о перенесенной болезни напоминало лишь сильно осунувшееся лицо. Впрочем, худоба придавала ему, пожалуй, еще большее очарование.
Целыми днями Гэндзи сидел, вздыхая, и слезы катились по его щекам. Это не укрылось от внимания прислуживающих ему дам, и они забеспокоились:
— Уж не злой ли дух овладел господином?
В тихие вечерние часы Гэндзи полюбил, призвав к себе Укон, беседовать с ней.
— И все-таки странно… — говорил он. — Отчего она так таилась? Боялась, как бы я не узнал ее имени? Пусть даже она и в самом деле «дитя рыбака», стоило ли скрываться от меня? Или она не понимала, сколь велика моя нежность к ней? Ее недоверие — вот что обижало меня больше всего.
— Помилуйте, да разве могли у нее быть сколько-нибудь важные причины таиться? Просто случая не было, а то госпожа наверняка назвала бы вам свое незначительное имя. Сначала она никак не могла опомниться, столь невероятным казался ей союз с вами. «Просто не верится, что все это наяву, — говорила она. — Он не открывает мне своего имени, но, видно, этого требует его положение…» И все же она страдала, думая, что вы просто пренебрегаете ею, — рассказывала Укон.
— Как же нелепо, что мы старались превзойти друг друга в скрытности! — сокрушался Гэндзи. — У меня вовсе не было намерения скрывать свое имя, просто я не привык еще совершать поступки, которые считаются предосудительными. Государь неустанно наставляет меня, стараясь укрепить в благонравии, да и высокое положение сковывает свободу действий. Любая шутка, случайно слетевшая с моих губ, тут же подхватывается молвой, приобретая ложную значительность. Словом, живется мне нелегко. А ваша госпожа с первой встречи завладела моей душой, какая-то неодолимая сила влекла меня к ней. Во всем, что произошло, видится мне предопределение. Эта мысль умиляет и печалит меня, но в ней же — источник нестерпимой горечи. Для чего моя любовь к ней была так велика, ежели судьбе угодно было связать нас на такой короткий срок? Расскажите же мне о ней все, что знаете. Стоит ли скрывать теперь? Через каждые семь дней надобно будет писать имена будд,[107] но для кого? И о ком мне молиться?
— Разве могут быть у меня от вас тайны? Да, до сих пор я молчала, полагая, что не пристало мне после кончины госпожи легкомысленно разглашать то, что сама она предпочитала держать в тайне, но теперь… — отвечала Укон. — Родители ее рано ушли из этого мира. Отец, имея чин тюдзё и Третий ранг, прозывался Самми-но тюдзё. Он нежно любил дочь, но, видно, пришлось ему претерпеть немало невзгод, связанных с продвижением по службе, и недостало сил влачить эту жалкую жизнь. Вскоре после того как его не стало, случай свел ее с господином То-но тюдзё (тогда он был еще сёсё). Около трех лет дарил он ее своим вниманием, но вот осенью прошлого года из дома Правого министра[108] пришло письмо, полное угроз и оскорблений, и моя робкая госпожа, потеряв голову от страха, поспешила укрыться у своей кормилицы в Западном городе.[109] Однако жить в столь неприглядном месте было ей не под силу, и она решила перебраться куда-нибудь в глухое горное селение, а поскольку в нынешнем году это направление оказалось под запретом,[110] временно поселилась в том жалком жилище. Ах, как она страдала, что вы обнаружили ее там! Госпожа была очень застенчива и больше всего на свете боялась, что кто-нибудь может проникнуть в ее тайные думы. Наверное, поэтому она и показалась вам слишком скрытной.
«Да, так и есть», — думал Гэндзи, сопоставляя ее рассказ с историей, когда-то услышанной от То-но тюдзё, и с еще большей нежностью вспоминал ушедшую.
— То-но тюдзё сетовал, что никак не может найти дитя, — сказал он. — Значит, в самом деле…
— Так, позапрошлой весной у нее родилась девочка, и премилая.
— Где же она теперь? Привезите ее сюда, никого не ставя о том в известность. Я был бы счастлив получить прощальный дар от той, чью утрату никогда не перестану оплакивать, — просил Гэндзи. — Я понимаю, что следовало бы сообщить обо всем То-но тюдзё, но не хочу навлекать на себя необоснованные упреки. Так или иначе, коли возьму я это дитя к себе, кто посмеет меня осудить? Постарайтесь же придумать какой-нибудь убедительный предлог для кормилицы — ведь есть же у нее кормилица? — и привезите девочку сюда.
— А как я была бы этому рада! — отвечала Укон. — Мне невыносима мысль, что дочери моей госпожи придется расти в Западном городе. Не нашлось никого, кому можно было бы доверить ее воспитание, вот и пришлось отдать кормилице…
Этот тихий вечерний час был исполнен особенного очарования. Трава в саду перед домом уже засохла, еле слышно звенели насекомые, а листья на деревьях сверкали яркими красками — словом, красиво было, как на картине. Любуясь садом, Укон подумала: «Чаяла ли я когда-нибудь, что буду жить среди такого великолепия?» Ей стыдно было даже вспоминать бедное жилище за изгородью, увитой цветами «вечерний лик».
Из зарослей бамбука донеслись не очень благозвучные стоны домашних голубей, и перед мысленным взором Гэндзи возникла прелестная фигурка ушедшей: как напугали ее эти птицы в том заброшенном доме!
— Сколько же ей было лет? Она казалась удивительно хрупкой, слабой, я никогда не встречал подобной женщины. Но, может быть, причина в том, что дни ее были уже сочтены?
— Госпоже едва исполнилось девятнадцать. Когда ее кормилица, а моя мать, покинув нас, перешла в мир иной, отец моей госпожи, господин Самми-но тюдзё, взял меня к себе, и я выросла вместе с его дочерью, ни на миг не разлучаясь с ней. А теперь… Ужели я смогу и дальше жить в этом мире? Право, не зря говорят: «Не спеши привыкать» (33). И в ней, такой слабой, такой беспомощной, я все эти долгие годы видела свою единственную опору.
— Своей беспомощностью женщины и пленяют. Я не знаю мужчины, который ценил бы супругу свою за властный и твердый нрав, — заметил Гэндзи. — Вот я, например, будучи человеком мягким и нерешительным, всегда предпочту женщину робкую, застенчивую, готовую в любых обстоятельствах — даже если ей грозит опасность быть обманутой — покориться воле мужа. Такую можно воспитать по своему усмотрению, и она никогда не потеряет в твоих глазах привлекательности.
— Именно такой женщиной была моя госпожа, — вздыхая, отвечала Укон. — Ах, какое горе, какое горе! — И она залилась слезами.
Небо затянулось тучами, подул холодный ветер. Задумчиво глядя куда-то вдаль, Гэндзи сказал, словно про себя:
-
Но Укон и ответить не могла. «Ах, если б госпожа была здесь», — подумала она, и сердце ее тоскливо сжалось.
Теперь Гэндзи вспоминал с нежностью даже назойливый стук вальков, услышанный тогда в ее доме. Так, «самые длинные ночи…»[111] — произнес он, укладываясь на ложе.
Иногда к нему наведывался Когими, однако Гэндзи больше не передавал через него писем, как бывало прежде, и супруга Иё-но сукэ с сожалением думала о том, что он, вероятно, окончательно разочаровался в ней. Но тут пришла весть о его болезни и чрезвычайно ее опечалила. Мысль о предстоящем отъезде в дальнюю провинцию приводила ее в отчаяние, хотя, казалось бы… И вот решилась она испытать: помнит ли он ее или уже забыл?
«До меня дошел слух о Вашей болезни. Могу ли выразить словами…
О, как верно сказано: «Меньше всех на земле…» (34)» — вот что написала она Гэндзи.
Послание это было для него приятной неожиданностью. Впрочем, даже в эти дни Гэндзи часто вспоминал о ней.
«Стоит ли продолжать?.. (34) — спрашиваете Вы. Но подумайте, кто из нас имеет большее право…
Увы, как все шатко и непродолжительно в этом мире…»
Он писал неверной рукой, изобличающей телесную и душевную слабость, что, впрочем, сообщало его почерку необыкновенную изысканность. Значит, не забыл Гэндзи «скорлупку цикады» — ив сердце женщины печаль мешалась с радостью.
Так вот обменивались они посланиями отнюдь не без взаимной приязни, но супруга Иё-но сукэ не допускала и мысли о возможности более близких отношений. Ей просто не хотелось, чтобы Гэндзи счел ее вовсе не достойной своего внимания…
Между тем до Гэндзи дошел слух, что ту, вторую, женщину, которую он встретил когда-то в доме правителя Кии, начал посещать Куродо-но сёсё. «Странно! — удивился он. — Интересно, как бы он отнесся?..» Не желая ранить чувства Куродо-но сёсё и вместе с тем не в силах противиться искушению узнать что-нибудь о его супруге, Гэндзи решился передать ей с Когими письмо.
«Знаете ли Вы, что я умираю от тоски?..
Прикрепив письмо к длинному стеблю мисканта, Гэндзи, наставляя юного гонца своего, сказал:
— Смотри, чтоб тебя никто не заметил.
А сам подумал: «Даже если мальчик допустит оплошность и письмо попадет в руки Куродо-но сёсё, тот догадается, что это был я, и она наверняка будет прощена». Поразительная самонадеянность, не так ли?
Когими передал женщине послание Гэндзи, когда Куродо-но сёсё не было рядом, и она так обрадовалась — хотя и смутилась, конечно, — что не задумываясь ответила письмом, неумелость которого объясняется отчасти тем, что отвечать пришлось слишком быстро:
Несовершенство почерка она постаралась возместить нарочитой изощренностью, но изящества в письме не было. Гэндзи вспомнилось ее лицо, озаренное огнем светильника. «А та, другая, чинно сидела напротив, и с первого взгляда стало ясно, что забыть ее будет нелегко. Эта же, не проявляя особой душевной тонкости, веселилась и болтала не переставая, вполне довольная собой», — вспоминал он, но и дочь Иё-но сукэ не была ему неприятна. Так, судя по всему, «горький опыт забыв», он готов был «снова для толков досужих дать повод» (35)…
На сорок девятый день после смерти Югао, женщины из дома с цветами «вечерний лик», Гэндзи тайно справил все положенные обряды в павильоне Цветка Закона на горе Хиэ.[112] Он уделил особое внимание подготовке одеяний для монахов, необходимых пожертвований и прочего, не говоря уже о дарах для читавших сутры. Украшения для свитков со священными текстами и для картин с изображениями будд поражали великолепием.
Брат Корэмицу, монах Адзари, славный благочестием своим, позаботился о том, чтобы все церемонии были проведены наилучшим образом. В свою очередь, Гэндзи призвал к себе магистра словесности, который, являясь его наставником в китайском стихосложении, был с ним особенно близок, и, попросив помочь ему с поминальными молениями, показал текст, уже составленный им самим, где в трогательных весьма выражениях изъявлялась надежда на то, что будда Амида примет душу некогда любезной ему, Гэндзи, особы, об имени которой он вынужден умолчать.
— Пусть так и остается, — сказал магистр. — К этому уже ничего не добавишь.
Как ни сдерживался Гэндзи, слезы неудержимым потоком текли по его щекам, и, видя его в таком горе, магистр недоумевал: «Кто же она? Я не слышал, чтобы в мире называли какое-то имя… Видно, не простой судьбы эта женщина, раз ее кончина заставляет господина так сокрушаться».
А Гэндзи, вытащив тайком приготовленные хакама,[113] произнес:
«О, по какой из дорог выпало устремиться ее душе, до сих пор блуждавшей в этом мире?»[114] — думал он, проникновенно повторяя слова молитвы.
Теперь при встречах с То-но тюдзё у Гэндзи почему-то начинало сильнее биться сердце, его обуревало желание рассказать другу о том, как подрастает маленькая гвоздичка, но, страшась упреков, он не решался даже намекнуть…
Обитательницы дома с цветами «вечерний лик» тревожились, не понимая, куда исчезла их госпожа, но тщетно пытались они отыскать ее следы. Укон тоже не появлялась, и дамам оставалось лишь недоумевать и печалиться. Ничего определенного они, разумеется, знать не могли, но, догадавшись по некоторым признакам, кто именно навещал их госпожу, тихонько делились друг с другом догадками и упрекали Корэмицу, но тот ходил как ни в чем не бывало и, отделываясь пустыми отговорками, по-прежнему не упускал случая поразвлечься, так что дамы жили словно во сне. «Может быть, сын какого-нибудь наместника воспылал к госпоже нежными чувствами и, страшась гнева господина То-но тюдзё, увез ее к себе в провинцию?» — гадали они. Дом, в котором они поселились, принадлежал дочери кормилицы, проживавшей в Западном городе. У кормилицы этой было трое детей, Укон же никак не была с ними связана.
— Мы ей чужие, должно быть, поэтому она и сочла возможным оставить нас в неведении, — сетовала хозяйка. Укон между тем боялась навлечь на себя гнев остальных прислужниц, к тому же она хорошо знала, что Гэндзи не желает предавать дело огласке, и не решалась разузнавать даже о девочке. Шло время, а обитательницы дома на Пятой линии по-прежнему недоумевали, не ведая, куда исчезла их госпожа.
Гэндзи же был безутешен. «Когда б хоть во сне…» — думал он, денно и нощно оплакивая свою утраченную возлюбленную. Но вот закончились поминальные службы, и на следующую же ночь явился ему призрак женщины, которую видел он в тот страшный миг у изголовья ушедшей: да это, несомненно, была она. «Видно, злой дух, обитающий в том уединенном жилище, почему-то преследует меня. Из-за этого все и случилось», — подумал Гэндзи, и неизъяснимый ужас охватил его.
На Первый день Десятой луны Иё-но сукэ должен был выехать в свою провинцию. Зная, что вместе с ним едут дамы, Гэндзи особое внимание уделил подготовке прощальных даров. Никому о том не сообщая, он тайком отослал в дом Иё-но сукэ изящные, прекрасной работы гребни, веера,[115] с многозначительной заботливостью подготовил приношения для храмов. Среди прочего было и то самое платье…
Были в его письме еще кое-какие подробности, но вряд ли стоит на них останавливаться. Посланец Гэндзи вернулся без ответа, зато позже женщина сама прислала Когими с письмом, в котором говорилось только о платье:
«Воистину, редкая для женщины твердость духа! Она так решительно отвергла меня, а теперь еще и уезжает…» — подумал Гэндзи.
Был первый день зимы, и, как полагается в такую пору, сеял холодный дождь, а небо казалось особенно унылым. Весь день Гэндзи сидел, погруженный в печальные думы:
Только теперь он вполне постиг, сколько страданий влечет за собой тайная страсть.
Поскольку подобные истории могли дать повод к злословию, Гэндзи старался тщательно их скрывать, я же, сочувствуя ему, тоже не хотела поначалу описывать эти события, но нашлись люди, которые сочли мою повесть пустой выдумкой. «Что ж получается, — говорили они, — только потому, что он сын Государя, все, даже те, кому известно истинное положение вещей, наперебой восхваляют его совершенства, а недостатки замалчивают?»
Боюсь только, что теперь мне трудно будет избежать обвинений в нескромности…
 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |