"Семь удивительных историй Иоахима Рыбки" - читать интересную книгу автора (Морцинек Густав)
ГЛАВА ПЕРВАЯ,
Люблю я сидеть на кладбище. Закопаю покойника, уйдут последние провожающие, а я присяду на соседней могиле, набью трубку и смеюсь. И над покойником, и над теми, кто плакал у гроба, и над органистом, который, не поет, а блеет, как баран, и над надписью, которая украсит надгробье. Надписи смешат меня больше всего — ведь нигде в другом месте не найдешь такого лукавого вранья, а то и грубого обмана.
Людям по душе и вранье это и обман. Без них жизнь была бы и вовсе скучной и глупой. А кому хочется, чтобы его жизнь была скучной и глупой?
Иногда я хожу от могилы к могиле и читаю надписи, высеченные на камне. И снова я смеюсь, уж больно это забавно. Вот, например, написано: «Здесь покоится мой возлюбленный муж». Между тем он был пьяница и вор, избивал жену сапожной колодкой, и теперь жена рада-радешенька, что черти взяли ее старика. На другом надгробье покойника оплакивает «безутешная в своей скорби жена», а я-то хорошо знаю, что это чистое вранье. «Безутешная» жена много лет вовсю развлекалась с другими. Или еще покойнику желают, чтобы он почил с миром. Правильно, пусть себе почивает с миром и не мешает живым, не стонет в постели, не объедает семью, не занимает места на свете!
Порой провожающие подходят ко мне и приглашают:
— Иоахим! Пойдемте-ка с нами в корчму, пропустим одну-другую!
Я иду, потому что ни «одной», ни «другой» не брезгаю. Родственники в таких случаях говорят, будто заливают горе. Они заливают, а я слушаю их разговоры и опять про себя смеюсь. Вспоминают покойника, иной раз вздыхают, шмыгают носами и спешат заморить червячка печали. А я ничего. За воротник не выливаю, слушаю, что они болтают, и смеюсь от удовольствия.
— Почему вы смеетесь, Иоахим? — спрашивают меня.
— Почему смеюсь? Да у меня душа радуется!
— А почему у вас душа радуется? — не унимаются они.
— Потому что я сейчас думаю о том, кто меня похоронит, когда я протяну ноги! — вру я. Неохота мне говорить правду — они бы обиделись. А зачем обижать людей в такой торжественный момент?
Потом я возвращаюсь на кладбище, там мне хорошо. Сумерки сгущаются, приближается ночь, и на кладбище тишина.
Иногда бывает до того тихо, что даже в ушах звенит. Когда тишина в ушах вызванивает, мне вспоминается третий штрек на пятом горизонте, где я вместе с четырьмя товарищами ждал смерти. Тогда тишина точно так же звенела. Однако та смерть была дура и не пришла ни за мной, ни за ними. Не оправдалась поговорка пропойцы мастера Кулиша, будто любовь, смерть и кровавый понос приходят, когда не ждешь. Она так и не пришла, зато пришли товарищи из спасательной команды… Но я не о том собирался говорить.
В тишине развязывается язык, и тут бы мне болтать да болтать, не закрывая рта. Но сижу-то я один-одинешенек, и разговаривать мне не с кем, вот я и рад, что мысли и воспоминания о пережитом навещают меня. Месяц давно уже вылез на небо и теперь слоняется между облаками. Возьмем для примера дурацкий этот месяц. Сколько воспоминаний он вызывает! Сладкие девичьи губы, смерть, косящая людей возле бараков в концлагере, бегство вплавь через Дунай, серебристый итальянский пейзаж, моя рука на залитой кровью груди самого близкого моего дружка… Эх, чего вспоминать!
В лунной, серебристой тишине защелкает соловей, зашумит липа, донесется далекий грохот скорого поезда. Соловей щелкнет раз-другой и умолкнет. Я знаю почему. Рыжий кот Ревендзины снова подкарауливает его. Соловей осторожен и знает, что проклятый рыжий котище бродит вокруг липы и мечтает его съесть.
И вот сижу я на чьей-то могиле и покуриваю трубку. Пуф, пуф, пуф!.. В свете месяца серебрится дым из трубки, и вспоминается мне, как гондольеры пели грустные канцоны, а увядшая английская мисс с лошадиным лицом и выпяченной верхней челюстью пыхтела сигарой и требовала, чтобы я ее соблазнил. Да пропади она пропадом!
В шкафу висят часы Кухарчика, их заводят ключиком, и они тикают. Пусть себе тикают! Впрочем, кроме них, тикает еще шесть пар часов. Смешно. Тикая, они слегка покачиваются на своих цепочках. Тик-так, тик-так!.. Словно крупные зернышки песка сыплются на стеклянную тарелку.
Пока стоит такая тишина, самые разные мысли лезут в голову.
Люди уверяют, будто по ночам на кладбище бродят духи, души умерших и всякие привидения. А я вот уже много лет рою ямы, или, выражаясь по-книжному, служу могильщиком, частенько сиживаю ночами на могиле какого-нибудь знакомого покойника — и ничего. Иной раз думаю: а вдруг выйдет из могилы его душа либо он сам и спросит:
— Как дела, Иоахим? Ты еще жив?
Я ему спокойно так отвечу — ведь людей надо бояться больше, чем духов:
— Слуга покорный, Францик! Ну а ты как на том свете, преуспеваешь?
Тогда бледная душа махнет рукой и скажет:
— Тьфу!..
А другая душа похвастает:
— Ага! С ангелочками хоровод вожу аж во веки веков, аминь!
Я наперед знаю, чья это душа. Костельного сторожа, которого я похоронил три года назад и который у господа бога пятки обгладывал; во время богослужения он собирал в костеле пожертвования, ходил взад-вперед с мешочком на палке и потрясал им над головами молящихся, а потом половину денег запихивал в свой карман, а другую половину отдавал преподобному отцу.
Преподобный отец сильно гневался и с возмущением спрашивал:
— Неужели ты так мало собрал, Зорыхта?
— Только это и собрал, преподобный отец. Люди теперь до того стали жадные, что за крейцер готовы гнать вошь до самой Вены!
А другая душа скажет мне так:
— Попал я в чистилище в наказание за то, что не вернул тебе, Иоахимек, сто злотых… Пропил я их у Доната с приятелями! И теперь искупаю вину в чистилище…
— Поделом тебе, чучело! — скажу я душе тощего Баляруса, который действительно выманил у меня сто злотых и пропил их в корчме с приятелями, а когда я попросил вернуть должок, пообещал, что, мол, отдаст мне «ужотко», иначе говоря, держи карман шире.
Ну, значит, когда стоит этакая вот тишина, напоенная лунным светом и благоуханием цветущей липы, когда щелкает соловей и вдалеке шумит скорый поезд, самые разные мысли и воспоминания лезут в голову. Вот хотя бы скорый поезд! Стук его колес переносит меня в далекие страны. Италия, Венгрия, Сербия, Франция, Тирольские Альпы, Дахау, Брюссель… Хо-хо, где только я не побывал! Вдоволь по свету побродил, изрядно попутешествовал!
Видно, такая жизнь была мне на звездах предначертана, и ничего уж тут не поделаешь. Встретился мне однажды на ярмарке бродяга с шарманкой и попугаем. На шарманке он играл «Матерь милосердную», а попугай трещал и вытаскивал из ящика «планиды». Одна штука стоила шестерку[1]. Мне попугай тоже вытянул «планиду». Прочитавши ее, я узнал, что родился под знаком овна, что мне следует остерегаться человека с зелеными глазами, что на дальней стороне ждет меня великое счастье, что я должен опасаться воды и что жить я буду долго. О деньгах «планида» ничего не сказала.
А помимо того, много хлопот доставило мне мое имя. Родился я аккурат в день святого Иоахима. Отец достал старый календарь, поглядел в него и сказал матери:
— Старуха! Сегодня у нас в календаре святой Иоахим! Назовем нашего сыночка Иоахимом…
— А кто он был такой, святой Иоахим? — спросила мать.
— Да черт его знает! — ответил отец.
Кроме черта, знал это и его преподобие, иначе говоря, приходский священник, патер Книпс, человек очень умный и отличный игрок в кегли, чем он и славился в трактире толстяка Булавы в Шплюхове. Во время крещения, когда патеру предстояло окропить мою голову святой водой, он спросил у моей крестной матери и крестного отца:
— С чего это вам вздумалось дать ему столь странное имя?
— Да потому, что такое имя, преподобный отец, — сказал крестный, усатый машинист с графской винокурни, пан Бахрачек, — такое имя носят только знатные господа!
— Уж не думаете ли вы, что ваш птенчик когда-нибудь станет знатным паном?
— Чему суждено быть, преподобный отец, того не миновать! Может, он вырастет прощелыгой, а может, и большим паном… Это не моя забота.
Обо всем этом мне рассказывала мать, но уже позднее, когда я стал ходить в школу. Она вспомнила еще один случай.
Преподобный отец, то есть патер Книпс, как-то проиграл у Булавы в кегли десять кружек пива. В те времена я расставлял в трактире кегли, за что получал шестерку. Пять крейцеров я отдавал матери, а пять оставлял себе. В тот вечер, когда патер Книпс проиграл в кегли десять кружек пива, он очень обозлился и спросил у пана Булавы:
— Булава, а кто расставляет кегли?
— Иоахим Рыбка, преподобный отец!
— Так это он, негодяй, во всем виноват! — заорал патер Книпс и принялся весьма хитроумно доказывать игрокам и пану Булаве, будто Иоахим имя еретическое — ему сие хорошо известно, он, видите ли, вычитал это в толстой книжке, которую нашел на чердаке среди вещей покойного патера Кмиты. В той книжке черным по белому написано, что хотя один Иоахим, или по-древнееврейски «Иойаким», что означает «богом вознесенный», так вот, хотя тот Иоахим и был супругом святой Анны и отцом девы Марии, зато другой Иоахим был негодяем и проходимцем.
Никто из присутствовавших не знал, кто такой тот другой Иоахим, и пан Булава поставил перед патером Книпсом полную кружку пива с густой пеной, сказав:
— Уж не гневайтесь, преподобный отец, и поведайте нам, кто тот другой Иоахим и почему он был негодяй и проходимец?
Патер Книпс смягчился, поднял кружку, сдул пену и залпом выпил. А потом сказал:
— Это был сицилийский король. Водил дружбу с императором Наполеоном, заискивал перед ним, лебезил, а когда под Лейпцигом у Наполеона земля под ногами горела, так вместо того, чтобы помочь ему, Иоахим смотал удочки!.. Только его и видели!.. Попросту смылся!
— Да, это очень некрасиво! — заметил Булава. — А что было дальше?
— Дальше уже ничего не было! — ответил патер Книпс и многозначительно посмотрел на Булаву и на пустую кружку.
Булава принес вторую кружку пива, и все пошло как по маслу. Патер Книпс снова сдунул пену и отпил полкружки. А потом докончил удивительную историю о сицилийском короле Иоахиме, который оказался негодяем и проходимцем.
— Вы спрашиваете, пан Булава, что было потом? Потом пришла и ему крышка! Ибо господь не тороплив, да памятлив! Мерзкий этот Иоахим вертелся, как вошь в струпьях, то туда, то сюда, комбинировал, ловчил по всякому, да перемудрил. И знаете, что с ним стало?
— Не знаем, преподобный отец! — ответили хором игроки во главе с Булавой.
— Тогда я вам скажу, чтобы вы знали: кто другому яму роет, сам в нее и попадет!
— Святая правда, преподобный отец! — подтвердил пан Булава.
— Не перебивайте меня, Булава! На чем это я остановился?
— Как Иоахим попал в яму…
— Вовсе не попал! Австрийцы впух и впрах разбили его войско, а его взяли в плен и расстреляли!
— Так ему и надо! — с облегчением вздохнув, поддакнул пан Булава. — Еще кружечку, преподобный отец?
— Можно!.. А наш кудлатый Иоахимек кончит свои дни в точности как сицилийский король Иоахим. На виселице кончит, это я вам говорю! — кипятился патер Книпс и препротивно смотрел на меня.
— Но почему же, почему? — встревожился мой крестный, пан Бахрачек; он тоже был любителем кеглей и очень ловко играл с патером Книпсом.
А потому, — рассвирепел преподобный отец, — что моя экономка нашла его листок с грехами… Он обронил его, когда уходил после исповеди из костела. И теперь-то я уж знаю, кто лазит за грушами в мой сад! Знаю!.. Как лицо духовное в исповедальне не знаю, но как преподобный отец знаю!.. И скажу вам, мои золотые: кончит он на виселице! Один Иоахим был святым, другой был подлецом, ибо предал Наполеона под Лейпцигом, а наш, третий, кончит на виселице, ибо лазит в мой сад за грушами!..
Кое-какие нравоучения патера Книпса я тогда слышал сам, все прочее досказала мне мать, а потом всыпала мне за приходские груши.
И еще она вспоминала, как было дело со святым крещением. А было, значит, так: кум Бахрачек и кума фрау Бжускуля из Старой Машины торжественно держали меня во время крестин, после чего решили зайти в корчму, потому что стоял крепкий мороз и навалило полно снегу. Прозябший Ганысек, кучер пана Вентрубы, сидел в санях и дул на ладони. Кумовья положили меня на стойку, а сами сели за стол и заказали по большой кружке чаю с ромом: надо было разогреться, чтобы в дороге не замерзнуть.
Как там обстояло дело с ромом, сколько они его выпили — не знаю. Мать тоже не знала; как и полагается родильнице, она лежала дома в постели и попивала отвар липового цвета. Во всяком случае, мне известно только то, о чем сказывала покойница мать, дай ей, боже, вечное блаженство, аминь! Кум Бахрачек и кума фрау Бжускуля вышли из корчмы, сильно разогревшись, и с трудом вскарабкались на сани. Меня они забыли на стойке. А пока кумовья дули чай с ромом и ром с чаем, они все время щекотали меня пальцем под подбородком и громко приговаривали: так, мол, и так, хоть у меня носик картошкой и глазки я таращу, как кот на сало, но ничего не известно, может, еще вырасту красивым парнем и буду нравиться девушкам. Мне кумовья тоже дали лизнуть разок-другой сладкого чаю с ромом. Лизнул я основательно, поскольку у крестных было доброе сердце, и уснул.
Вышли они, значит, из корчмы, крепко хлебнув, вскарабкались на сани, и кум Бахрачек сказал Ганысеку:
— Поехали, сынок!..
И так бы они и уехали без меня, да, на счастье, корчмарь Булава заметил меня, подхватил на руки и выбежал из корчмы. Долго пришлось Булаве окликать и звать кумовьев, пока наконец кучер Ганысек услышал его крики и сказал:
— Пан Бахрачек! Вы ребенка забыли в корчме!
Подбежал пан Булава и отдал меня, старательно укутанного в одеяло, фрау Бжускуле. А она положила меня на солому в задке санок, и мы поехали.
Лошади, застоявшиеся на морозе, теперь захотели согреться и неслись домой как черти. А сани то направо, то налево — дерг! А потом снова — дерг!.. Кум Бахрачек обхватил за талию фрау Бжускулю и пел. А фрау Бжускуля покачивалась и дремала. В конце концов приехали домой. Выбегает отец, выбегает соседка, кум слезает с санок, помогает слезть куме, а отец спрашивает:
— Где же Иоахимек?
— Какой Иоахимек? Клеофасик, а не Иоахимек!.. — бормочет кум.
Отец не обратил внимания на слова кума и обыскал сани. Не было там ни Клеофасика, ни меня, то есть Иоахимека.
Отец с соседкой отправились на поиски и нашли меня в глубоком сугробе у дороги. Я сладко спал, ведь я тоже был пьян, а в снегу было тепло. Обрадованный отец подхватил меня на руки и вернулся домой, а потом была гулянка. Все перепились и дружно решили, что из меня вырастет очень порядочный человек, только мне на роду написано скитаться по свету.
Все это рассказала мне мать, благословляя провидение, которое охраняло меня у самого порога жизни.
Эх, куда подевались те золотые времена!..
Трубка моя погасла, пора топать домой. Завтра мне предстоит рыть могилу для старого Пищека. Пищек был постарше меня и, пожалуй, во всей Лиготке он последний из людей примерно моего возраста, которых мне выпало похоронить. Остальные лиготчане уже помоложе меня. Интересно, а кто меня похоронит, когда и я соберусь на тот свет?
Мне не жаль будет покинуть этот свет; то, что мне положено было выпить, я выпил, красивых девушек не сторонился, исходил немалую часть света, человек я бывалый, видел и счастье и горе, много раз смерть с косой за мной гонялась, но мне всегда удавалось от нее улизнуть, никого я, помнится, не обижал — одним словом, мне легко будет умирать. Попрошу я тогда позвать цыган, чтобы сыграли чардаш. Огневой чардаш. Такой, как играли когда-то в Будапеште… Но об этом я расскажу в другой раз, если еще жив буду.
Цыгане сыграют чардаш, а я глотну в последний раз винца и испущу дух, как сказал бы патер Кмита, упокой, боже, душу его, ибо он давно уже умер! И побредет моя душенька по Млечному Пути прямехонько на небо, а мелодия чардаша потащится следом за мной до самых небесных врат.
Может, никто тогда не скажет того, что сказала дочка покойного старика Пищека, вдова с восемью детьми, когда старика Пищека сшибла легковая машина. В той машине ехал какой-то молодой человек из города. Гудел он, гудел, только глуховатый Пищек не слышал. А когда машина была уже близко, молодой человек снова загудел. Старику Пи-щеку надо бы шагнуть вправо — шел он серединой дороги, а он попер налево — прямо под машину. Ну и стряслась беда. Машина оказалась во рву с левой стороны дороги, старый Пищек лежал на дороге со сломанным бедром, а молодой человек кричал и сокрушался. Подъехал автобус Молина, остановился. Из автобуса выпрыгнули люди, помогли вытащить легковую машину из рва, уложили в нее старого Пищека, и молодой человек отвез его в больницу в Тешине. Три недели спустя старый Пищек умер от заражения крови. Доктора просверлили Пищеку ногу в колене, протянули сквозь отверстие проволочку, а к концу проволочки привязали тяжелую гирю, чтобы вытянутая нога лучше заживала и сломанное бедро срослось, как следует. Бедро совсем не срослось, времени не хватило. Так со сломанным бедром и похоронил я старого Пищека. Молодой человек, который его переехал, тоже был на похоронах. Потом он в стороне о чем-то долго совещался с преподобным отцом. Преподобный отец, патер Важеха, подошел к дочке Пищека, плакавшей над могилой отца и сказал ей так:
— Вытжинская, — это ее фамилия по мужу, — Вытжинская, вот этот молодой человек, который вашего папашу переехал, посылает вам в утешение три тысячи злотых!.. — И дал ей три тысячи злотых. Шесть пятисотенных.
Вытжинская от удивления даже руками всплеснула и как ляпнет:
— Слава богу, что молодой человек отца переехал, вот у меня и три тысячи злотых! Словно с неба свалились!..
Когда я испущу дух под цыганский чардаш, никто, наверно, не скажет: «Слава богу, умер наконец старый могильщик Иоахим Рыбка, вот нам то-то и то-то осталось от него в наследство!..»
Останется после моей смерти семь пар часов в шкафу. Как соберусь я помирать, в последний раз заведу все по очереди, начиная с самых старых и кончая самыми новыми — теми, с третьего штрека на пятом горизонте шахты «Барбара III». Попрошу я их повесить на стене напротив, чтобы мог я на них глядеть, и ладно. Часы будут тикать и покачиваться на цепочках, цыгане сыграют чардаш, а я в последний раз потяну вино из бутылки, и хорошо мне будет помирать.
А потом я попрошу цыган:
— Черти-цыгане! Красиво чардаш вы играете! Но послушайте, что я вам скажу, ибо это моя последняя воля! Так, вот, через три дня вы пойдете за моим гробом и еще раз сыграете чардаш! Этот же, самый огневой! Сыграете?
Цыгане пообещают сыграть за моим гробом самый огневой чардаш. Тогда я им скажу:
— Милые цыгане! За то, что вы сыграете чардаш на моих похоронах, берите со стены часы!.. Только смотрите, не обманите меня по своему обычаю! А то буду я вам являться после смерти!..
Цыгане сорвут часы со стены, да как начнут шпарить на скрипке чардаш — умирать будет радостно!
Пожалуй, пора уже топать домой, потому что и мой соловей-соловушка, ангельская пташка, перестал щелкать и пошел спать. Спи, спи, соловушка, ангельская пташка! Я тоже иду спать…
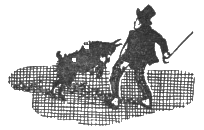 |
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |