"Весна" - читать интересную книгу автора (Бруштейн Александра Яковлевна)
Глава двадцать первая. ВОРОТА ПОД РАДУГОЙ
Очень давно — когда я была совсем маленькая — мы с папой ехали за город. Только что перед тем прошел дождик, такой веселый и светлый, что солнце не испугалось его и не спряталось за облака. Солнце смотрело сквозь дождь — оно смеялось — и от этого на небе заиграла радуга. Ее многоцветные полукруглые ворота перекинулись через все небо, встали одной ногой на склоны холмов, спускающихся к шоссе, а другой уперлись в берег реки. Мы с папой ехали в бричке прямо к этим воротам.
Приветливо и широко распахнутые, ворота радуги гостеприимно звали нас: «Пожалуйте! Пожалуйте! Ждем!» Но, сколько мы ни ехали все вперед и вперед, нам не удавалось ни проникнуть под радужные ворота, ни даже подъехать к ним вплотную.
— Ну-у-у… — протянула я недовольно. — Когда же мы въедем в эти ворота?
— А ты умей смотреть! — посмеивался папа.
Я так сильно таращила глаза, чтобы не пропустить минуты въезда под радужные ворота, что не заметила, как заснула, привалившись головой к папиному плечу. А когда я проснулась, радуги уже не было.
— А где же они, ворота? — спросила я.
— Вспомнила! Проехали мы их давно.
Несколько лет я верила, что под радугу можно въехать или вбежать. Потом узнала: нет, нельзя. А теперь — в этом последнем году ученья в институте — меня все время не покидает веселое предвкушение близкой радости. Вот, кажется мне, еще день, еще неделя — ну, может быть, еще месяц, — и я нырну под радужные ворота! Конечно, не буквально: на дворе стоит еще только март — какая радуга в марте?
Откуда это ощущение близкой радости, почему я вдруг вообразила, будто радугу можно догнать или даже войти под нее, не знаю.
Как-то, когда стало известно, что Матвея вместе с остальными 183 киевскими студентами, сданными в солдаты, скоро освободят, и все мы ежедневно ждали его приезда, — мы с Катюшей Кандауровой и Гришей Ярчуком шли вместе по улице. Шли и молчали. Был великий пост, от церквей плыли волны колокольного звона. Издалека, от железной дороги, доносились паровозные гудки. Невозможно было вообразить себе что-нибудь более пленительное, чем чистота этих весенних звуков. Ведь в течение всей зимы они доходили до нас, словно закутанные в вату. А сейчас они звенели гулко, необыкновенно явственно, прозрачно, как незамутненная родниковая вода.
Бывают такие минуты, когда в жизни, как в сказке, все кажется возможным, правдоподобным, ни капельки не удивляет.
Так было с нами в этот день. Когда из сизоватого, сумеречного тумана вдруг появился высокий человек, протягивавший руки к нам, мы нисколько не удивились. Правильнее было бы, конечно, сказать, что хотя шел-то он навстречу нам троим, но руки протягивал Кате:
— Катюша… Курносик!
И Катя тоже ничуть не удивилась. Она только выдохнула:
— Матвей!..
И полетела к нему, как тополиная пушинка.
Не сговариваясь, мы с Гришей взялись за руки и юркнули в переулок. Мы долго бежали, чтобы уйти подальше от Кати и Матвея, чтобы не мешать их встрече, оставить их вдвоем…
Мы напрасно так стремительно убегали от них — они и не думали гнаться за нами или хотя бы звать нас. Наверное, они даже не заметили, что нас вдруг не оказалось больше возле них.
Мы с Гришей остановились, поглядели друг на друга.
— Матвей приехал! — радостно сказал Гриша.
— Да…
А про себя я подумала: «Теперь Матвей и Катюша войдут в счастье, как в ворота радуги».
Минувшим летом, в первый раз за два года, приехала к родителям Лида Карцева. Когда она пришла ко мне, мы так обрадовались друг другу, что сперва долго молчали. Мы только смотрели друг на друга. Смотрели требовательно, придирчиво, словно проверяя по списку памяти — все те же ли у нас лица, глаза, руки… Да, все было то же, и вместе с тем все было чем-то ново!
Теперь Аида была выше ростом (как, вероятно, и я), стройнее, чем прежде. Серо-голубые глаза ее смотрели как будто еще умнее, еще глубже. Но это была она, Лида! Я видела это и смеялась от радости. И она радовалась, что я прежняя. Только когда мы заговорили — обе одновременно, — нам показалось, чта изменились наши голоса: стали словно ниже. Но и к этой перемене мы привыкли мгновенно.
В ту первую встречу мы говорили с Лидой долго — ведь нам столько надо было рассказать друг другу! «А у нас…», «А у вас…», «А помнишь?..», «А где теперь?..», «А что теперь?..»
Говорили и о смешном, и о печальном, о пустяках и о серьезном.
За два года Лида прочитала очень много книг, но беспорядочно: все, что попадалось под руку. У тети-поэтессы — декадентскую литературу. У тети-романистки — классиков, новейшие книги и журналы. В общем, оказалось, что хотя и разными тропинками, но шла Лида с нами в ногу.
И вот от Лиды я услыхала о тех воротах, в которые она собирается пройти… к счастью!
— Он — наш преподаватель! — рассказывала Лида. — Русского языка и словесности…
«Преподаватель»? Я даже испугалась. В моем воображении «преподаватель» — это кто-то из нашей кунсткамеры: это Лапша, или бывший директор Тупицын, или Федор Никитич Круглов, похожий лицом на незлую гориллу, или учитель физики с невкусной кличкой «гиена в сиропе»… Неужели Лида полюбила такого? Брр!
Словно угадав мою мысль, Лида спешит успокоить меня:
— Ему двадцать шесть лет. Всего два года, как он окончил университет. Я дам тебе почитать его книгу о Пушкине… Нет, Шурочка, он тебе понравится — он умный, веселый!
Но как же могло случиться, чтобы воспитанница Смольного института и преподаватель… Где они могли встретиться вне Смольного, познакомиться, полюбить друг друга?
Все это произошло в доме у тети-романистки. Во время прошлогодних рождественских каникул Лида жила у тети. Алексей Дмитриевич приходил к ним часто, водил и возил Лиду по пушкинским местам Петербурга и Царского Села. Они с Лидой вместе бегали на коньках, ездили в театры, бывали в Эрмитаже и музее Александра III.
Каникулы кончились, ученье в Смольном возобновилось — и тут произошел курьез. То есть это как посмотреть: синявки решили, что это не курьез, а страшный скандал. Во время каникул Лида и Алексей Дмитриевич совсем забыли, что они учитель и ученица, а не просто знакомые. Встретившись с ним в Смольном (он подошел к ней во время перемены), Лида забыла, что она должна «макнуть свечкой» — сделать реверанс, — забыла, что она должна держаться с ним «по-чужому». Она привычно поздоровалась с ним за руку (то же и при прощании!), и они проговорили целую маленькую перемену (пять минут).
Что тут поднялось! Чего только не наговорили ей классные дамы и начальница Смольного (воспитанницы должны называть ее «маман», то есть «мама»)!
«Как? Вы здоровались и прощались за руку с преподавателе? С чужим мужчиной? Вы разговаривали с ним „сан фасон“(те есть запросто), как с добрым знакомым?»
— Ох, Шурочка, вышел мне этот разговор с Алексеем Дмитриевичем боком! — вздыхает Лида полушутя, полусерьезно.
Не помогли никакие ухищрения синявок. Конечно, Алексей Дмитриевич не стал больше подходить к Лиде на переменах…
Но ведь они любили друг друга, а для того чтобы сказать это глазами, достаточно одной секунды. В заговор вступила тетяроманистка: она передавала письма от Денисова — Лиде и от Лиды — ему. Пасхальные каникулы прошлого года Лида снова провела у тети. Опять они с Алексеем Дмитриевичем встречались ежедневно. Теперь они оба видели перед собой ту радугу, под которую войдут, как только Лида окончит Смольный.
Пребывание Лиды у родителей во время прошлогодних летних каникул пролетело незаметно. Все мы — старые Лидины друзья: Варя, Маня с Катей, Леня, я, — все мы были рады Лиде, чувствовали себя с ней так, словно бы и не разлучались на целых два года.
Накануне своего отъезда в Петербург Лида пришла ко мне в сумерки — посидеть на прощание. Мы сели в моей комнате, как бывало в детстве: вдвоем в одну качалку. Тогда было просторно, теперь стало тесно. Но нас эта теснота не тяготила. Мы сидели, как сестры, так дружно и радостно!
Лида снова рассказывала мне об Алексее Дмитриевиче Денисове. Какой он хороший, талантливый. Одна беда: здоровье у него хрупкое. Слабые легкие…
На прощание я спросила:
— Будешь писать, Лида?
— Непременно! Только не волнуйся, если будут провалы в переписке. В Смольном — как в тюрьме… Какая-нибудь мелочь, пустяк — и я уже разобщена с миром. Тетя больна или уехала на время из Петербурга, — и вот уже некому опустить письмо в ящик.
В начале августа Лида уехала в Петербург. Она писала довольно часто, но это были пустые, ничего не значащие открытки.
«Крепко целую тебя, дорогая Шурочка! Твоя Лида». А по краю открытки мелконькими буковками: «Тетя Маруся все хворает, я ее совсем не вижу». Или: «Тетя все время на даче, на Черной Речке…» Из этого я понимала, что Лиде некому дать письмо для отправки мне. «Значит, и с Алексеем Дмитриевичем Лида не переписывается, бедная!» — думала я. Но мне и в голову не приходило, насколько ей трудно, моей подружке!
Узнала я об этом совершенно случайно. Во время недавних рождественских каникул Ивана Константиновича и Леню осчастливила — наконец! наконец! — сама «тучка золотая»! Впервые за целых три года к ним приехала Тамара.
Трудно описать, как ее приезд ВЗВОЛНОВАЛ и обрадовал Ивана Константиновича! За эти годы она несколько раз обманывала его и Леню. То обещала «приеду на рождество», то «ждите на пасху». Прошлым летом случилось даже, что Тамара написала:
quot;Мы с тетушкой Евдокией Дионисиевной едем на воды в курорт Карлсбад. Проедем через ваш город в ночь с 15 на 16 июля.
Если вам нетрудно, дедушка и Леня, приезжайте повидаться со мной на вокзал. Поезд стоит двадцать минут. Успеем наговориться всласть! Вагон международный 1-го классаquot;.
Иван Константинович так расцвел, засуетился с таким добрым, заботливым теплом, что на него просто приятно было смотреть. Леня тоже был веселый — тут уж никаких сомнений быть не могло: на этот раз Тамара приедет, хотя и на двадцать минут всего! Вот и телеграмма, сообщающая номер поезда и номер вагона!
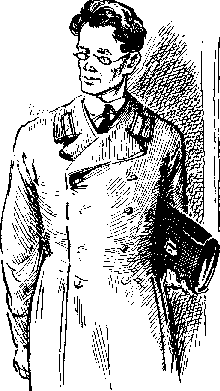 |
Поезд должен был прибыть в пять часов утра. Задолго до прихода поезда Иван Константинович и Леня, принаряженные, накрахмаленные, напомаженные, выутюженные, начищенные до блеска, стояли на платформе. Шарафут держал корзину цветов, самую большую, какую удалось достать в цветочном магазине. Леня ждал Тамару с красивой бонбоньеркой, а Иван Константинович — с корзиной фруктов. Они стояли на платформе, смотрели в ту сторону, откуда должен был прибыть поезд, — и ждали…
И не дождались!
То есть поезд-то, конечно, пришел. Но из международного вагона никто не выглянул. Ломиться в поезд, будить спящих пассажиров Иван Константинович и Леня, конечно, не стали. Вагонный проводник на их робкий вопрос: «Не знаете ли, в этом вагоне едет графиня Уварова с племянницей?» — пожал плечами и внушительно сказал:
— Пассажиры изволят почивать. Будить не положено.
Спустя несколько дней от Тамары получили открытку с видом «Шпрудель-Колоннаде» в Карлсбаде. В углу открытки было изображение ласточки, несущей в клюве символ счастья: четырехлистный трилистник. Для письменного сообщения места почти не было.
quot;Дорогие дедушка и Леня! Какая чепуха вышла с поездом!
Не сердитесь. Я нечаянно проспалаquot;.
В углу открытки около ласточки было нацарапано:
«Эта ласточка несет вам мои поцелуи!»
Иван Константинович пережил этот случай очень тяжело.
Такого глубочайшего равнодушия Тамары к нему и Лене он всетаки не ожидал.
— Д к кому и к чему она не равнодушна, эта девочка? — сказал папа. — Впрочем, нет, я не прав: есть в мире одно существо, которое этот вундеркинд Тамара даже обожает: самое себя, свою особу! Если бы эта графиня-тетка внезапно обеднела, потеряла состояние, дома, дачи, имение, деньги, Тамара бы в тот же день упорхнула от нее…
— «По лазури весело играя…» — произнесла я вспомнившиеся мне слова Катеньки Кандауровой, сказанные несколько лет назад о Тамаре.
— Вот именно «по лазури весело играя»! — подхватил папа мрачно. — Она бы и не оглянулась на то место, где осталась ее обедневшая тетушка. Ни одной слезы не пролила бы над ее бедой… Вундеркинд!
Но вот после напрасных, не выполненных ни разу обещаний Тамара в самом деле приехала этой зимой — последней нашей институтской зимой! — на рождественские каникулы к Ивану Константиновичу и Лене.
Я видела ее только один раз. Мы с мамой взбунтовались и впервые не согласились идти к Ивану Константиновичу для встречи с Тамарой.
— К Ивану Константиновичу всегда рада пойти! — сказала мама с неожиданным, необычным для нее упорством. — А к Тамаре идти не хочу. Если она помнит нас, если хочет увидеться с нами, пусть приходит к нам.
Тамара в самом деле пришла (вероятно, настояли Иван Константинович и Леня). Они пришли все трое, но говорила одна Тамара. Хорошенькая, прелестно одетая, она трещала обо всем, что угодно, трещала без умолку. Никогда я не слыхала такой неумной, пустой болтовни.
— Ты с Лидой Карцевой в одном классе учишься? — спросила я.
— Увы, в одном! — Тамара сделала гримасу. — С ней ведь беда случилась. Вы слышали?
— Нет, не слыхали. А что?
— Романчик завела. Это Лида-то! Скромница, схимница!
И с кем, спросите? С учителем нашим, словесником Денисовым.
Правда, он красивый, даже, можно сказать, породистый, но всетаки… И можете себе представить, три месяца назад Денисов заболевает, не ходит на свои уроки, ничего о нем не известно… Ну, Лидочка наша, конечно, в грустях! Днем бледна, ночью плачет…
И вдруг случайно она слышит разговор двух наших классных дам между собой, надо ж такое! Одна классная дама говорит: «Почему это Денисов не является на уроки?» — «Денисов? — отвечает другая. — Разве вы не слыхали? У него скоротечная чахотка объявилась, он умирает!» И что бы вы думали? — Тамара обводит нас глазами, словно приберегая к концу самый эффектный номер своего рассказа. — Лида Карцева при всех в рекреационном зале слышит этот разговор о своем драгоценном Денисове и — хлоп в обморок!..
Тамара хохочет.
— А дальше что? — спрашиваю я.
— Чего же еще «дальше»? Ромео помирает, Джульетта лежит в обмороке! — веселится Тамара.
Перевожу глаза на Леню. У него горят уши. Он на меня не смотрит…
В тот же вечер мы с Леней бежим к Лидиной маме — Марии Николаевне Карцевой. Она подтверждает рассказ Тамары:
Лида в самом деле лишилась чувств, услыхав разговор классных дам.
Лида давно не имела никаких известий о Денисове. На уроки он не являлся. Она знала, что он болен, но чем болен, тяжело ли, не знала: тети-романистки не было в Петербурге.
Мария Николаевна телеграфировала тете-поэтессе. Та обо всем разузнала и сообщила: Денисов в самом деле был очень сильно болен — у него был тяжелый катар легких. Тетя-поэтесса восстановила нарушенную переписку между Лидой и Денисовым.
Весной, когда Лида окончит Смольный институт, она и Денисов обвенчаются и поедут на юг — долечивать легкие Алексея Дмитриевича.
— Шельмы-то какие, Лидка и Алексей Дмитриевич! Потихоньку влюбились, обо всем договорились, нам с отцом одно осталось — благословить!
Милая Мария Николаевна! Она остается верной себе. Прелестная, красивая, молодая, глаза мечтательные, а рот — по-детски большой рот девочки-лакомки.
Значит, Лида и Денисов после выпускных экзаменов подадут друг другу руки и войдут в ворота под радугой… Пусть будут счастливы!
Мы идем с Леней домой, Леня очень мрачен. Я не спрашиваю почему…
— Тамарка-то, а? — говорит он с гЪречью. — Не понравилась она тебе?
Мне очень не хочется отвечать правду. Но ведь иначе — не по правде — мы с Леней друг с другом не говорим.
— Нет, — отвечаю я тихо, — не понравилась.
— Она ведь тоже замуж собирается! — сообщает Леня с какой-то кривой усмешечкой, на которую неприятно смотреть.
— За кого?
— За бульдога. За старого бульдога… У-э-э-э! — Леня делает такую гримасу, словно его тошнит.
— Перестань, Ленька, противно!
— А мне, думаешь, не противно? Она нам с дедушкой фотографическую карточку жениха своего показала. Барон! Такая бульдожина, тьфу!
— Так зачем она? — удивляюсь я.
Леня подражает восторженной интонации Тамары:
— Богач удивительный! Тетушка Евдокия Дионисиевна говорит про него: «Конечно, он не Адонис, но какое богатство!..»
Я молчу.
— Сказать тебе, о чем ты сейчас думаешь? — спрашивает Леня, но уже своим собственным голосом, добрым, чуть насмешливым.
Мы с Леней иногда играем в такую игру: «Хочешь, скажу, о чем ты думаешь?» И ведь очень часто угадываем!
— Хочешь, скажу, о чем ты сейчас думаешь? — настаивает Леня.
— Скажи! — поддразниваю я. — Скажи, давно я глупостей не слыхала!
— Ты думаешь: «Как же так? Лида и Денисов скоро войдут под „ворота радуги“… И Тамара со своим бульдогом — тоже?» Это ты думаешь? Да ведь, ми-и-илая! — вдруг говорит Леня с расстановкой. — Радуга-то ведь отражается и в луже! И в это ее отражение даже легче войти, только, как говорится, ступи ногой — и вошел!
— Нет, Леня, не угадал! Я о другом думала.
— О чем?
— О том, как тебе повезло, что ты с дедушкой остался.
Леня отвечает не сразу.
— А конечно, повезло… — говорит он задумчиво. — Был бы и я такая пустая бутылка, бесструнная балалайка, как Тамара.
Но только — надо быть справедливым! — тут не в одном дедушке дело: в друзьях, товарищах, в Александре Степановиче. Да мало ли! В вашей семье — вы же мне как родные! Даже, может быть, в тебе, Шашура… Хотя ты, конечно, личность глуповатая…
| © 2024 Библиотека RealLib.org (support [a t] reallib.org) |